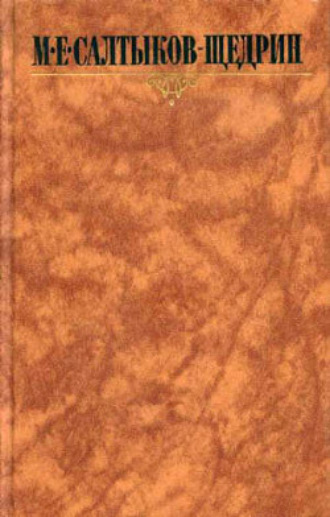
Михаил Салтыков-Щедрин
Губернские очерки
– Да ведь здесь город, – сказал я, – каким же образом вы, а не городничий…
– Они, ваше высокоблагородие, человек слабый, можно сказать, и в уме даже повредившись по той причине, что с утра, теперича, и до вечера в одном этом малодушестве спокойствие находят… Да и дело-то оно такое-с, что хоша они (то есть скитницы) и не в уезде, а все словно из уезда порядком в город не водворены, так мы, то есть земский суд-с, по этому самому случаю и не лишаем их своего покровительства… Мы насчет этого имели уж с Иваном Макарычем (городничим) материю, что будто бы их супруга очень уж оскорбляются, что этим делом не они, а мы заправляем-с… ну, да ихнее дело дамское; им, конечно, оно и невдомек, почему и как обращение земли совершается… Так прикажете приступить? – повторил он, возвращаясь к делу.
– Да я полагаю, что можно и завтра…
– Помилуйте, ваше высокоблагородие, – произнес он с таинственным видом, наклонившись ко мне, – часа через два у них, можно сказать, ни синя пороха не останется… это верное дело-с.
– Да ведь теперь и ночь скоро…
– Это нужды нет-с: они завсегда обязаны для полиции дом свой открытым содержать… Конечно-с, вашему высокоблагородию почивать с дорожки хочется, так уж вы извольте мне это дело доверить… Будьте, ваше высокоблагородие, удостоверены, что мы своих начальников обмануть не осмелимся, на чести дело сделаем, а насчет проворства и проницательности, так истинно, осмелюсь вам доложить, что мы одним глазом во всех углах самомалейшее насекомое усмотреть можем…
– Нет, уж у меня свой расчет есть, чтобы начать дело завтра.
– Слушаю-с.
– Только если вы что-нибудь с своей стороны узнаете относящееся до дела, то предуведомьте меня.
– Слушаю-с.
– Да вот еще: завтра к ночи должны сюда прибыть люди, так вы поставьте кого-нибудь у заставы… понимаете? чтоб их в городе не видали.
– Слушаю-с.
Он встал, чтобы откланяться, и направил было к двери шаги свои, но с половины комнаты воротился.
– Имею сообщить вашему высокоблагородию нечто весьма секретное, – сказал он, подходя ко мне, и потом шепотом прибавил: – Ваше высокоблагородие до Мавры Кузьмовны дело иметь изволите?
– Да ведь вы знаете: зачем же спрашивать?
– Извините, это точно-с… Я тоже до нее хоша в настоящий момент и не имею касательства, однако на сих днях безотменно иметь таковое намерен.
– По какому же случаю?
– По предмету о совращении, так как по здешнему месту это, можно сказать, первый сюжет-с… Вашему высокоблагородию, конечно, небезызвестно, что народ здесь живет совсем необнатуренный-с, так эти бабы да девки такое на них своим естеством влияние имеют, что даже представить себе невозможно… Я думал, что ваше высокоблагородие прикажете, может, по совокупности…
– А у вас заведено разве уж дело?
– Никак нет-с; дело это, так сказать, еще в воображении…
– Почему же вы думаете, что оно из области вашего воображения непременно должно перейти в область действительности?
– Следим… шестую неделю, можно сказать, денно и нощно следим… так как же ему не быть-то-с? Это все одно что бабе понести, да в десятый месяц не родить-с…
– В таком случае, если что-нибудь будет, то сообщите мне, а я приобщу к своему делу… да вы об моем-то деле знаете?
– Помилуйте-с, ваше высокоблагородие.
– Однако ж?
– Помилуйте-с, ваше высокоблагородие.
– А Мавра Кузьмовна знает?
– В этом, ваше высокоблагородие, будьте без сумнения-с; гонец прямо к ней в дом и прискакал.
– Однако ж это неприятно.
– Ничего, ваше высокоблагородие.
– Как ничего? Она может принять свои меры, будет запираться.
– Меры она точно что принять может-с, да и запираться будет непременно, однако на это обращать внимания не следует, потому как с ними один разговор – под арест-с, а там как бог рассудит… А впрочем, вашему высокоблагородию насчет этого дела и опасаться нельзя-с, потому как тут и истцы налицо…
– Ну, а ваше дело в чем же состоит?
– Нет-с, уж позвольте до завтрева… по той причине, что у вашего высокоблагородия уж и глазки слипаются, а наша история длинная и до завтрева не убежит.
Мы расстались.
II
Город С ***, в котором мне пришлось производить следствие, принадлежит к числу самых плохих городов России. Если он расположился, или, лучше сказать, разлезся на довольно большом пространстве, то нельзя сказать, чтобы к этому была какая-либо иная побудительная причина, кроме того, что русскому человеку вообще простор люб. Например, дом мещанина Карпущенкова занимает всего-навсе двадцать пять квадратных сажен, но зато под дворовым участком, принадлежащим тому же мещанину, наверное отыщется сажен тысячу. Спросите у Карпущенкова, зачем ему такое пространство земли, из которой он не извлекает никакой для себя выгоды, он, во-первых, не поймет вашего вопроса, а во-вторых, пораздумавши маленько, ответит вам: «Что ж, Христос с ней! разве она кому в горле встала, земля-то!» – «Да ведь нужно, любезный, устраивать тротуар, поправлять улицу перед домом, а куда ж тебе сладить с таким пространством?» – «И, батюшка! – ответит он вам, – какая у нас улица! дорога, известно, про всех лежит, да и по ней некому ездить».
Таким образом прозябает это грустное племя, вне всяких понятий о красоте и удобстве прямых линий. Вообще, в редких еще городах России земля имеет какую-нибудь ценность. Мещане и даже крестьяне приобретают огромные дворовые участки за бесценок, а часто и задаром, то есть самовольно, и все последствия такого приобретения ограничиваются выстройкой какой-нибудь бани, в которой ютится хозяин с семейством, и обнесением участка плетнем или забором. От этого такое множество пустырей, которые придают нашим городам нестерпимо тоскливый вид.
Многие благонамеренные начальники старались превозмочь это тупое равнодушие жителей к их собственным выгодам и удобствам. Когда князь Лев Михайлыч[178] приехал в губернию, то первым делом его было написать, «чтобы в городах непременно были заведены мостовые и чтобы дома возводимы были в два этажа и, по возможности, каменные». Однако успех не соответствовал ожиданиям, потому что князь все-таки кроток очень. Тут надобно льва, который, невзирая ни на что, мог бы настоять.
Только к центру, там, где находится и базарная площадь, город становится как будто люднее и принимает физиономию торгового села. Тут уже попадаются изредка каменные дома местных купцов, лари, на которых симметрически расположены калачи и баранки, тут же снуют приказные, поспешающие в присутствие или обратно, и, меланхолически прислонясь где-нибудь у ворот, тупо посматривают на базарную площадь туземные мещане, в нагольных тулупах, заложив одну руку за пазуху, а другую засунув в боковой карман.
На другой день по приезде в С*** я ранним утром отправился к Мавре Кузьмовне.
У меня был свой план; к сожалению, я должен был отказаться от выполнения некоторых частей его. Я хотел остановиться в городе инкогнито, прикинуться этак мещанином, желающим получить «просвещение», и выведать все дело исподволь. На этот конец было у меня припасено и соответственное одеяние, как-то: тулупчик дубленый, азям, сапоги русские и проч.; но появление Маслобойникова и заверение, что Кузьмовна меня ожидает, рассеяли в прах мои надежды. Во всяком случае, я вынужден был если не совершенно отказаться от своего плана, то подвергнуть его изменениям. Но и теперь, прежде всего, я рассчитывал на то обстоятельство, что хотя, быть может, и знает Мавра Кузьмовна, что имеет наехать чиновник, но знает это смутно, не имея настоящего понятия ни о цели приезда, ни о намерениях чиновника. В таком случае, думал я, можно будет сказать, что я имею поручение сделать дознание об истинном состоянии раскола или что-нибудь подобное. Руководители и руководительницы этого дела охотно подаются на эту удочку, если взяться за нее умеючи. Натура человеческая до крайности самолюбива, и если, ловко набросив на свое лицо маску добродушия и откровенности, следователь обращается к всемогущей струне самолюбия, успех почти всегда бывает верен. Тут охотно выкладываются на стол все самые сокровенные вещи, а ради красного словца даже и прилыгается малость; следовательно, остается только на ус мотать. Тут же могут быть кстати употреблены и другие невинные средства, внушающие доверенность. Таким образом можно, например, направить речь издалека о собственных делах Мавры Кузьмовны, поприласкать ее (посадить), начать слегка соболезновать и вообще "беседовать разумно", сбросив с себя всякую официяльность и пригнув себя к одному уровню с почтенною старухой. Я знавал следователей весьма благонамеренных, которые своим неумением обращаться с живым материялом, щекотливостью, с которою они относились к темным сторонам жизни, с первого же шагу возбуждали полное недоверие подсудимого и, разумеется, не достигали никаких результатов. С другой стороны, знавал я и таких следователей, которые были, что называется, до мозга костей выжиги, и между тем сразу внушали полное доверие к себе потому только, что умели кстати ввернуть слово «голубчик», или потрепать подсудимого по брюху, или даже дать ему, в шутливом русском тоне, порядочную затрещину в спину – полицейская ласка, имеющая равносильное значение с словом "голубчик".
Я следователь благонамеренный и добиваюсь только истины, не имея при этом никаких личных видов; следовательно, я не только имею право, но и обязан изыскать все средства, чтобы достигнуть этой истины. Конечно, я не стану давать любезных затрещин – на это я не способен, – но и кроме затрещин есть целый ряд полицейских хитростей, который может быть употреблен в дело. Мне скажут, может быть, что это нравственное вымогательство (другие, пожалуй, не откажутся употребить при этом и слово "подлость"), но в таком случае я позволяю себе спросить, какие же имеются средства к открытию истины?
Итак, мне нужна была доверенность Мавры Кузьмовны; необходимо было вызвать ее на откровенность, и если бы она, в частном и любезном разговоре (особливо же при свидетелях), высказала то, что для меня потребно, в таком случае я не прочь был бы оформить эту любезную откровенность законным порядком. Само собою разумеется, что в дальнейшем развитии дела могут быть пущены в ход разного рода неожиданности: чтение некоторых писем, появление из задних дверей интересных лиц и т. п. И все это в пользу истины, только истины…
Полный этих намерений, я решился лично посетить Мавру Кузьмовну, чтобы ее, так сказать, сразу ошеломить моею благосклонною внимательностью. Сверх того не лишне было ознакомиться и с характером моей новой пациентки, чтобы приспособиться к нему и заметить ту струнку, на которую удобнее можно действовать.
Дом Мавры Кузьмовны, недавно выстроенный, глядел чистенько и уютно. Дверь из сеней вела в коридор, разделявший весь дом на две половины. Впоследствии я узнал, что этот коридор был устроен не случайно, а вследствие особых и довольно остроумных соображений.
Дело в том, что по обеим сторонам коридора были расположены горницы, из которых каждая имела свой особый ход и образовала род кельи, не имевшей с соседнею комнатой иного сообщения, как через коридор. Первые и ближайшие к сеням, а следовательно и к свету, горницы имели хозяйственное назначение; тут были: стряпущая, кладовые и т. д. Но чем далее нужно было углубляться в коридор, тем тусклее достигал свет, так что с трудом можно было распознать даже двери; тут-то и были покои самой Мавры Кузьмовны, жившей вместе с племянницей и несколькими посторонними старухами, которых она пропитывала на старости лет. Затем, в самой глубине коридора, там, куда свет совершенно почти не досягал, было нагорожено множество мелких чуланчиков, которых не было возможности даже днем нащупать без помощи свечи.
– Как же вы-то успеваете вдруг осмотреть все эти закоулки? – спрашивал я у Маслобойникова, когда, впоследствии, сам ближе познакомился с устройством этого рода домов.
– Это точно-с, что поначалу дело было трудное, – отвечал он, – в первый раз, как был я еще неопытен, они меня лихо надули. Пришел я к ним этта с обыском; ну, она меня и встречает, такая, знаете, ласковая… "Милости просим, говорит, Иван Демьяныч, удостойте старуху своим посещением", – а сама, ваше высокоблагородие, и отворяет мне первую-то дверь. Ну, я с дураков-то и вошел – кухня-с; разумеется, чумички, лохани, ведра, все как следует. "Да ты показывай, говорю, мне настоящее дело". – "А вот, говорит, пожалуйте". И привела меня насупротив в кладовую. Ну, точно, вижу полна горница сундуков и мешков – надо все это свидетельствовать. С час я тут бился, рассматривал: ну, разумеется, кроме солоду, муки да крупы, ничего не нашел, а покуда я тут копался, в других-то комнатах и поприбрали… С тем и ушел, что ничего найти не мог… "Ну, говорю, спасибо, голубушка, за науку". – "Ничего, говорит, на здоровье, родимый!" А у самой от смеху даже нутро все колыхается, у поганки. Ну, да добро, мол, за мной не за кем другим: наука не пропадет. Пришел и опять случай: "Нет, думаю, шалишь, баба!" – и прямо, знаете, как ворвался, в самую, что называется, в глубь, покуда в стену лбом не наткнулся… тут и замер-с… А между тем на прочих пунктах свое распоряжение идет; двери все настежь, и как кого смертный час застал, так и пребывай; застынь, не шевелись… Ну и точно-с, диковинные иногда вещи в этих чуланчиках находишь…
Но возвращаюсь к рассказу. Встретила меня в сенях какая-то старуха, должно быть стряпка, которая, взглянув на мои пуговицы, побледнела и как-то странно вся всколыхалась. Испуг, очевидно, парализировал всю ее мыслящую силу, потому что она безотчетно топталась на одном месте, как бы недоумевая, оставаться ей или бежать.
– Дома Мавра Кузьмовна? – спросил я.
– Ась? – закричала она во всю мочь, с очевидным намерением, чтобы голос ее как-нибудь дошел по назначению.
Я повторил вопрос.
Она опять затопталась на месте, а губы ее начали судорожно подергиваться.
– Дома Мавра Кузьмовна? – крикнул я ей в самое ухо.
– Не упомню я, батюшка, не упомню… кажется, не бывала… стара я, ваше сиятельное благородие, больно стара да чтой-то нынче и памятью-то бог изобидел… об ком это изволишь спрашивать?
Сознавая бесполезность дальнейших расспросов, я хотел было идти далее, в тот знаменитый коридор, о котором говорено выше, как вдруг, совершенно для меня неожиданно, старуха, как сноп, повалилась поперек двери.
– Батюшки! спасители! режут! – вопила она, уцепившись за фалды моего вицмундира, – отец родной! не ходи, не губи своей душеньки!
На этот крик выбежала баба высокая и плотная, в синем сарафане, подвязанная черным платком. Это была сама хозяйка дома, которая вмиг поняла, в чем дело.
– Мать Меропея, мать Меропея! – сказала она ласковым, но твердым голосом, подходя к нам, – полно, не блажи, пусти его благородие.
Старуха встала, глухо кашляя и злобно посматривая на меня. Она одною рукой уперлась об косяк двери, а другою держала себя за грудь, из которой вылетали глухие и отрывистые вопли. И долгое еще время, покуда я сидел у Мавры Кузьмовны, раздавалось по всему дому ее голошение, нагоняя на меня нестерпимую тоску.
– Милости просим, ваше благородие! – говорила между тем Мавра Кузьмовна, – милости просим к нам в горницу… Аннушка! отворь-ка дверь: посветлее барину идти будет! Уж вы нас, сударь, не обессудьте за старуху-то! Здесь мы собрались народ всё старый да пуганый; мужчин никого нет – ну, и думается, что лихой человек старух сирых изобидеть хочет… А таким гостям, как ваше благородие или хочь и Иван Демьяныч (Маслобойников), мы оченно завсегда рады… Или, может, ваше благородие, изначала с обыском пройдете? – прибавила она, как-то масляно засматривая мне в глаза.
– Нет… да разве ты не видишь, что и понятых со мной нет?
– Так-с; а то мы завсегда готовы… У нас, ваше благородие, завсегда и ворота, и горницы все без запору… такое уж Иван Демьяныч, дай бог им много лет здравствовать, заведение завел… А то, коли с обыском, так милости просим хошь в эту горницу (она указывала на кладовую), хошь куда вздумается… Так милости просим в наши покои.
– А эта Меропея у тебя в стряпках, что ли, живет? – спросил я.
– В стряпках, сударь, в стряпках… что ж, это, кажется, сударь, не запрещается?..
Мы вошли в это время в горницу, чистую и светлую. На полу разостлан белый холст, а стены гладко выструганы; горница разделена перегородкой, за которой виднелась кровать с целою горой перин и подушек и по временам слышался шорох. Перед диваном, на столе, стояла закуска, которую впопыхах, очевидно, забыли прибрать. Закуска была так называемая дворянская, то есть зачерствелый балык, колбаса твердая как камень и мелко нарезанные куски икры буроватого цвета; на том же подносе стоял графин с белою водкой и бутылка тенерифа.
– Милости просим беседовать! – сказала Мавра Кузьмовна, усаживая меня на диван.
Но мы были не одни; кроме лиц, которые скрылись за перегородкой, в комнате находился еще человек в длиннополом узком кафтане, с длинными светло-русыми волосами на голове, собранными в косичку. При появлении моем он встал и, вынув из-за пояса гребенку, подошел пошатываясь к зеркалу и начал чесать свои туго связанные волосы.
Бледно-желтое, отекшее лицо его, украшенное жиденькою бородкой, носило явные следы постоянно невоздержной жизни; маленькие голубые и воспаленные глаза смотрели как-то слепо и тупо, губы распустились и не смыкались, руки, из которых одна была засунута в боковой карман, действовали не твердо. Во все время, покуда продолжалось причесывание волос, он вполголоса мурлыкал какую-то песню и изредка причмокивал языком и губами.
– Это что за человек? – спросил я хозяйку. Мавра Кузьмовна желала улыбаться, но губы ее только судорожно двигались и никак не складывались в улыбку; она постоянно заглядывала мне в глаза, как бы усиливаясь уловить мою мысль, а своим собственным глазам старалась придать выражение беспечности и даже наивной веселости.
– Это, ваше благородие, так… уволенный, ваше благородие… он перед вами только что выпить зашел… это ведь, кажется, можно?
Последние слова были сказаны не без иронии.
– Да чтой-то, Михеич, хошь бы ты почтение его благородию отдал, – продолжала Мавра Кузьмовна, – а то мурлыкаешь там невесть что.
Неизвестный обернулся, подошел к столу и уставил бессмысленный взор на водку.
– А что, благодетельница, повторить можно? – спросил он сиплым голосом и слабо трясясь всем телом.
– Что ты за человек? – спросил я его. Он посмотрел на меня мутными глазами.
– То есть… ваше благородие желаете знать, каков я таков человек есть? – сказал он, спотыкаясь на каждом слове, – что ж, для нас объясниться дело не мудреное… не прынц же я, потому как и одеяния для того приличного не имею, а лучше сказать, просто-напросто, я исключенный из духовного звания причетник, сиречь овца заблудшая… вот я каков человек есть!
Он остановился, сначала глубоко вздохнул, но потом вдруг фыркнул и, изобразив из себя ферт, внезапно перешел из довольно густого баритона в самый тонкий, маслянистый тенор.
– Не возмогу рещи, – продолжал он, вздернув голову кверху и подкатив глаза так, что видны делались одни воспаленные белки, – не возмогу рещи, сколь многие претерпел я гонения. Если не сподобился, яко Иона, содержаться во чреве китове, зато в собственном моем чреве содержал беса три года и три месяца… И паки обуреваем был злою женою, по вся дни износившею предо мной звериный свой образ… И паки обуян был жаждою огненною и не утолил гортани своей до сего дня…
– Вы его не обессудьте, ваше благородие, – прервала Мавра Кузьмовна, – он у нас уж такой от рождения, в уме оченно уж недостаточен… Полно, полно, Михеич; пора, чай, и к домам.
– Нет, Мавра Кузьмовна, уж коли язык сам возговорил, стало быть, говорить ему надо, и вы мне не препятствуйте… Ваше высокоблагородие! вот как пред богом, так и перед вами… наг и бос, нищ и убог предстою. Прошу водки – не дают! Прошу денег – не дают! Стало быть, за что же я, за что же…
– Да; не дают тебе водки! и то уж почесть кабак внутре-то у тебя завелся! – прервала его хозяйка, стараясь улыбнуться, но с очевидным озлоблением.
– Не препятствуйте, Мавра Кузьмовна! я здесь перед их высокоблагородием… Они любопытствуют знать, каков я есть человек, – должон же я об себе ответствовать! Ваше высокоблагородие! позвольте речь держать! позвольте как отцу объявиться, почему как я на краю погибели нахожусь, и если не изведет меня оттуду десница ваша, то вскорости буду даже на дне оной! за что они меня режут?
И он неожиданно подбежал к окну и, отворив его, неистовым голосом закричал:
– Православные! режут!
Мавра Кузьмовна побледнела. Сцена эта видимо ее беспокоила с самого начала; но при таком неожиданном окончании она до такой степени смутилась, что как будто бы совершенно позабыла обо мне.
– Ах ты, господи! Вот уж шестую неделю так-то с ним маемся! ин искать уж другого! – повторяла она про себя, – одною этою водкой всю келью испоганил, антихрист ты этакой!
И, уцепившись за полы его кафтана, она тянула его от окна. Во время этой суматохи из-за перегородки шмыгнули две фигуры: одна мужская, в вицмундирном фраке, другая женская, в немецком платье. Мавра Кузьмовна продолжала некоторое время барахтаться с Михеичем, но он присмирел так же неожиданно, как и пришел в экстаз, и обратился к нам уже с веселым лицом.
– Ну, полноте, полноте, Мавра Кузьмовна, – сказал он, с улыбкою глядя на хозяйку, которая вся тряслась, – я ничего… я так только покуражился маленько, чтоб знали его высокоблагородие, каков я человек есть, потому как я могу в вашем доме всякое неистовство учинить, и ни от кого ни в чем мне запрету быть невозможно… По той причине, что могу я вам в глаза всем наплевать, и без меня вся ваша механика погибе.
Старуха была ни жива ни мертва; она и тряслась, и охала, и кланялась ему почти в ноги и в то же время охотно вырвала бы ему поганый его язык, который готов был, того и гляди, выдать какую-то важную тайну. Мое положение также делалось из рук вот неловким; я не мог не предъявить своего посредничества уже по тому одному, что присутствие Михеича решительно мешало мне приступить к делу.
– Что ты за человек и по какому случаю находишься здесь? – спросил я снова Михеича, – отвечай!
Он улыбнулся и поглядел на Мавру Кузьмовну, которая с пытливым беспокойством смотрела ему в глаза.
– А хочешь расскажу? – сказал он.
Прошло несколько минут томительного ожидания.
– Ну, не трясись! так уж и быть, не скажу! только завтра смотри у меня! перевертываться живей! теперь уж всего два денька и погулять-то осталось! Прощай, старуха! припасай водки!
И, взявши картуз, он тут же в комнате надел его на голову и побрел пошатываясь к двери. Мавра Кузьмовна вздохнула свободнее и начала креститься.
– А хорош буду архиерей? – спросил он, останавливаясь в дверях и растопырив руки фертом.
Мавра Кузьмовна снова заохала.
– Ну, ну, добро, не трясись! прощенья просим, ваше высокоблагородие! как буду архиереем, безотменно отпущу вам вольная и невольная…
– Что ж это за человек? – спросил я Мавру Кузьмовну, когда он вышел.
Она уже оправилась от страха, который нагнала было на нее выходка Михеича, и стояла передо мной довольно спокойно.
– Не пожалуете ли водочки? – сказала она, не отвечая на мой вопрос, – али, может, виноградного… или чайку угодно?
– Хитришь ты со мной, Мавра Кузьмовна.
– Зачем, кажется, мне с тобой хитрить, барин! Кажется, хитрить мне с тобой не надо… да просим милости откушать… Аннушка! Аннушка!
– Отчего ж ты не хочешь сказать, что за человек этот Михеич?
– Да что сказать-то, ваше благородие? так, праздношатающий, пьяница… его и оттолева-то уж выгнали… где ему настоящее место есть. Ходит по домам да водку пьет… это хоть у кого в городе спросите…
– Зачем же ты его к себе в дом пускаешь?
– А коли не пустишь! Сами, чай, видели, каков он есть человек… не пусти, так, пожалуй, и гнездо-то наше огнем разорит. Да выкушайте хоть виноградного-то!
В это время вошла Аннушка, девка лет двадцати пяти, шумя великим множеством туго накрахмаленных юпок; на ней было ситцевое платье декольте, а на руках перчатки, у которых пальцы наполовину обрезаны. Девка, как все вообще русские мещанки, воспитанные на пуховиках и чае, отличалась с виду тою дряблою тучностью, которая почему-то напоминает о китовом жире; лицо у нее было, что называется, форменное: мясистое, круглое, плоское, мягкое, сильно избеленное и с крепко приглаженными волосами, намазанными мусатовскою помадой.
– Вы меня, тетонька, кликали? – спросила она, потупляя глаза и произнося слова в нос.
– Подь, подь сюда, умница, – сказала Мавра Кузьмовна, которой лицо расцвело при виде этого жирного, белого выкормка, – вот, батюшка, какую красавицу вырастила… племянница мне будет.
– Ах, тетонька, вы меня завсегда в конфузию приводите, – проговорила девица, как будто нехотя подвигаясь вперед.
– Подь, чего стыдиться-то! подь, касатка, – барин доброй! Мы здесь, ваше благородие, в дикости живем, окроме приказных да пьяного народу, никого не видим… Было и наше времечко! тоже с людьми важивались; народ всё чистый, капитальный езживал… ну и мы, глядя на них, обхождения перенимали… Попроси, умница, его благородие чайком.
– Я чаю не буду пить, Мавра Кузьмовна, теперь уже поздно, да и дело мне есть до тебя.
– Чтой-то, батюшка, уж будто дело горит! дело делом, а чай чаем: выкушай, родимый.
– Уж сделайте такое ваше одолжение, господин граф, – пролепетала Аннушка, складывая губы на манер сердца, – мы завсегда с приезжими учтивыми кавалерами компанию иметь готовы, по той самой причине, что и сами обхождением заимствоваться оченно желаем…
– Просим выкушать! – настаивала, с своей стороны, Кузьмовна, – у меня, сударь, и генералы чай кушивали… Тоже, чай, знаете генерала Гореглядова, Ардальона Михайлыча – ну, приятель мне был. Приедет, бывало, в скиты, царство ему небесное: "Ну, говорит, Кузьмовна, хоть келью мы у тебя и станем ужотка зорить, а чаю выпить можно"… Да где же у тебя жених-от девался, Аннушка? Ты бы небось позвала его сюда: все бы барину-то поповаднее было.
– А у вас в доме и свадьба? – спросил я.
– Как же, сударь; тоже за благородного Аннушку выдаю: больно уж смирен парень-эт… да позови же Алексея-то Иваныча.
– Они, тетонька, в присутствие пошли: сказывают, делов оченно много.
– Как же ты отдаешь племянницу за чиновника? ведь он не дозволит ей в старых-то обычаях оставаться.
– И, батюшка! об нас только слава этта идет, будто мы кому ни на есть претим… какие тут старые обычаи! она вон и теперича в немецком платье ходит… Да выкушай же чайку-то, господин чиновник!
Нечего делать, я должен был согласиться выпить чаю среди бела дня.
– Однако признайся, Кузьмовна, – сказал, я когда Аннушка вышла, – знала ты, что я сегодня у тебя буду?
Мавра Кузьмовна пристально взглянула на меня и как будто призадумалась.
– Почем же я тако дело знать могу? – сказала она немного погодя.
– Однако вспомни: может быть, и знала.
– Нет, ваше благородие, нам в мнениях наших начальников произойти невозможно… Да хоша бы я и могла знать, так, значит, никакой для себя пользы из этого не угадала, почему как ваше благородие сами видели, в каких меня делах застали.
– Это-то меня и удивляет, что ты знала, что я должен у тебя быть, и не приготовилась…
– Кабы знать, отчего бы не приготовиться.
– А к кому же вчера вечером шалдежский Афанасий приезжал?
Она посмотрела на меня с таким наивным изумлением, что я не мог не расхохотаться. Она тоже улыбнулась.
– Какой же это такой Афонасий? Кажется, я никакого Афонасья словно и не знаю.
– Полно, старуха, ведь Афанасий-то у исправника в арестантской сидит; он уж сознался.
– Нет, батюшка ваше благородие, уж коли на то пошло, так я истинно никакого Афонасья не знаю… Может, злые люди на меня сплётки плетут, потому как мое дело одинокое, а я ни в каких делах причинна не состою… Посещению твоему мы, конечно, оченно ради, однако за каким ты делом к нам приехал, об эвтом мы неизвестны… Так-то, сударь!
– Мне нужно бы кой об чем спросить тебя.
– Спрашивай, сударь, спрашивай, я завсегда готова. Известно, ваше дело спрашивать, а наше отвечать. Только об чем же ты спрашивать-то будешь?
– Да нужно мне кой об чем узнать… Изволишь ты видеть, много уж вашего стада здесь прибывает…
– Кто же это прибывает… кажется, мы все старые: мы, сударь, никого ведь неволить ни к себе, ни от себя не можем… Да что ж ты ко мне-то, сударь? Ведь тут, кажется, и мужчины есть – вон хоть бы Иван Мелентьич…
– Да ведь ты, Мавра Кузьмовна, в скитах живала, начальницей была.
– Оно, конечно, живала… игуменьей тоже прозывали… Ну, что ж, спрашивай, сударь, я отвечать тебе могу.
– Нет, об этом надо ладком поговорить – приходи как-нибудь ко мне, а теперь некогда, другие дела есть… А что, Кузьмовна, кабы ты эти дела-то оставила? – прибавил я как будто стороною.
– Какие же это дела, сударь? – спросила она с наивным изумлением.
– Ну, да известно какие: раскол. За тобой бы – поди вся здешняя сторона старину бы оставила.
– Чтой-то, будто я этому делу причинна стала? Кажется, и до меня люди были, и после меня будут… чай, у всякого свой ум есть.
– А славно было бы…
– Нет уж, сударь, этот разговор нужно оставить, – сказала она серьезно.
– Да ведь я жалеючи тебя говорю, старуха.
– Оно так… может, и добрый ты барин, да об этом разговаривать нам уж не приходится, потому как, значит, слова занапрасно терять будем… а вот порассказать как и что – это дело возможное…
III
Я воротился домой, предварительно условившись с Маврой Кузьмовной насчет «нового свидания». Но загадочное лицо Михеича мучило меня, и я непременно хотел объяснить себе его. В это самое время вошел ко мне Маслобойников, но вошел на цыпочках и, предварительно засвидетельствования мне почтения, заглянул в замочную скважину двери, ведущей в комнату, в которой помещались хозяева.
– Изволили видеть? – спросил он меня шепотом.
– Кого?
– А Михеича-с?
– Да; скажите, пожалуйста, что это за человек такой?
– Наш-с… уж шесть недель в предмете имеем-с… только говорить-то здесь неудобно-с… хозяева-с…
И он снова на цыпочках перешел через всю комнату к враждебной двери, отворил ее и посмотрел. Оказалось, что соседняя комната пуста.
– Осмелюсь доложить вашему высокоблагородию, – начал он, воротившись на прежнее место, – что нам все ихние прожекты в самой подробности завсегда известны, потому что мы от этих ихних прожектов, можно сказать, все наше пропитание имеем. Теперича главный у них сюжет в том состоит, чтобы как можно попа себе добыть. Беглых не навертывается, старые повымерли, – вот-с они и истаевают. Прошел нынче слух, будто бы у них и архиереи завелись, и ездят якобы эти архиереи скрытно по всем местам, где этот разврат коренится; сказывают, что и к нам посулил быть. По здешнему месту, всему ихнему делу голова эта самая Мавра Кузьмовна, которую вы давеча видеть изволили. Жила она прежде в скитах и была в котором-то из них чуть ли не настоятельницей обители. Баба подлинно умная и всем этим стадом вертит, как ей желается. В недавнее время, с тех пор как скиты эти разогнали, приписалась она сюда в мещанки и завела здесь свою фабрику. Только смею доложить, что если эти скиты не будут опять в скором времени сформированы, так можно поручиться, что и весь этот край разврата не минует, по той причине, что эти «матери» по всем деревням, можно сказать, как вороны разлетелись и всюду падаль клюют-с. В прежнее время, как они все в одном гнезде каркали, оно, конечно, пейзаж был не пригож, да, по крайности, все на виду и на счету были. Приедет, бывало, к ним с ярмарки купчина какой – первое дело, что благодарности все-таки не минем (эта у нас статья, как калач, каждый год бывала), да и в книжку-то, бывало, для памяти его запишем: ну, и пойдет он на замечание по вся дни живота. А нынче совсем и надзору за ними не может быть, потому что везде они во всяком месте, словно черви расползлись. Только и пропитываешься, что частными случаями… там, слышишь, книжки проявились, там ночным временем для своих делов соберутся, в другом месте брак совершили гнусным манером без повенчания – ну, и действуешь, смотря по силе-возможности.







