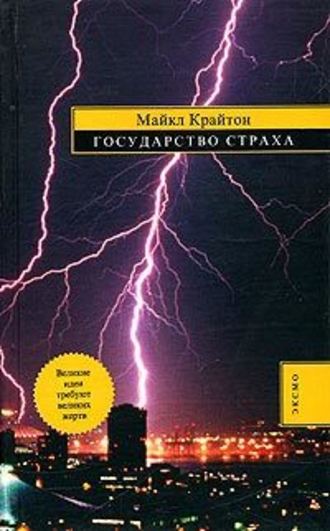
Майкл Крайтон
Государство страха
САНТА-МОНИКА
Среда, 12 октября
9.00 утра
Ровно в девять утра все приглашенные на конференцию гости расхаживали по фойе и коридорам, места в зале занимать никто не спешил. Эванс стоял у входа и пил кофе. Он чувствовал себя усталым и разбитым, но в целом вполне здоровым. Поначалу немного дрожали ноги, но теперь это противное ощущение прошло.
Делегаты были по виду типичные ученые, многие одеты с характерной небрежностью, как бы подчеркивающей походный стиль жизни, – брюки цвета хаки и рубашки фирмы «Л. Л. Бин», высокие ботинки на шнуровке, стеганые жилетки.
– Смахивает на сборище лесорубов, верно? – заметила Дженифер. Подошла, встала рядом с Питером. – Ни за что не подумаешь, что большую часть времени все эти ребята просиживают за компьютерами.
– А это действительно так? – спросил Эванс.
– Большинство из них просто не отходят от мониторов.
– Ну а зачем тогда высокие ботинки?
Она пожала плечами:
– Такой стиль теперь в моде.
Николас Дрейк поднялся на трибуну, пощелкал пальцем по микрофону.
– Доброе утро, друзья мои, – сказал он. – Через десять минут начинаем. – Затем он отошел и начал о чем-то шептаться с Хенли.
– Ждет, когда прибудут телевизионщики, – сказала Дженифер. – Сегодня утром тут были какие-то проблемы с электричеством. До сих пор налаживают.
– Да, конечно, все ждут телевидение.
Тут у входа в конференц-зал началось какое-то беспорядочное движение, послышались крики. Эванс привстал на цыпочки и увидел пожилого мужчину в твидовом пиджаке и галстуке. Два охранника остановили его у самого входа и не пускали.
– Но меня пригласили! – возмущался он. – Я должен быть здесь.
– Простите, сэр, но вашего имени нет в списках, – сказал один из охранников.
– Но я же говорю, меня пригласили!
– О господи! – вздохнула Дженифер и покачала головой.
– Кто это?
– Профессор Норман Хоффман. Когда-нибудь слышал о нем?
– Нет. А что?
– С памятью плохо? Он знаменитейший социолог, я бы даже сказала, выдающийся. Прославился своей яростной критикой «зеленых» и прочих так называемых защитников окружающей среды. Немножко сумасшедший, как водится. Мы тоже вызывали его во время подготовки иска, расспрашивали о взглядах. Надо признать, это была большая ошибка. Этот человек говорит без умолку. Способен выдать милю слов в минуту, при этом постоянно отклоняется от темы, просто голова идет кругом. И заставить его замолчать невозможно. Все равно что смотреть телевизор, ежесекундно переключающийся с одного канала на другой, а у тебя нет под рукой пульта управления.
– Неудивительно, что его присутствие здесь нежелательно.
– О да. Кто-кто, а он способен наделать немало неприятностей. Уже начал.
Находившийся у входа старик профессор пытался вырваться из цепких рук охранников.
– Отпустите меня! Да как вы смеете? Я приглашен! Самим Джорджем Мортоном! Мы с ним очень близкие друзья. Джордж Мортон пригласил меня лично!
Упоминание о Мортоне не могло оставить Эванса равнодушным. Он направился к старику.
– Ты об этом пожалеешь… – шепнула ему вслед Дженифер.
Он лишь пожал плечами в ответ.
– Прошу прощения, – сказал он охранникам. – Я адвокат мистера Мортона. В чем проблема?
Старик продолжал вырываться.
– Я профессор Норман Хоффман, и Джордж Мортон пригласил меня лично! – Подойдя поближе, Эванс заметил, что ученый плохо выбрит, неряшливо одет, седые волосы растрепались и торчат клочьями. – С чего бы, как думаете, я стал бы приезжать на это омерзительное мероприятие? Только по одной причине. Меня пригласил Джордж. Очень просил быть, сказал, что ему интересно мое личное мнение. И это несмотря на то, что еще несколько недель назад я сказал ему: «Тут не будет никаких сюрпризов, можешь мне поверить. Все предсказуемо, как на любых дешевых похоронах!»
Эванс подумал, что Дженифер была права, предупредив, что ничего хорошего из этого не выйдет. И вежливо спросил:
– Позвольте узнать, сэр, билет у вас есть?
– Нет, билета у меня нет! Мне не нужен никакой билет. Неужели вы не понимаете, молодой человек? Я профессор Норман Хоффман, личный друг Джорджа Мортона. И потом, – добавил он, – билет у меня отобрали.
– Кто? – Один из этих охранников.
– Вы забрали у него билет? – спросил суровых стражей Эванс.
– Да не было у него никакого билета.
– Ну хотя бы отрывной талон у вас сохранился? – спросил Хоффмана Эванс.
– Нет, черт побери, и талона, как вы изволили выразиться, у меня тоже нет! Не нужен мне никакой отрывной талон! Вообще ничего не нужно!
– Простите, профессор, но тогда…
– Все же кое-что сохранил. Вот это. – И он передал Эвансу уголок билета. Настоящего билета.
– А где остальное?
– Я же сказал, они забрали!
Охранник, стоявший чуть поодаль, жестом попросил Питера подойти. Тот повиновался. Охранник разжал кулак и показал смятый билет с оторванным уголком.
– Извините, сэр, – сказал он, – но от мистера Дрейка поступило особое распоряжение не пускать этого господина ни под каким видом.
– Но ведь у него был билет, – сказал Эванс.
– Может, вам лучше обсудить это с самим мистером Дрейком?
Но в этот момент в здании появилась съемочная группа телевидения. Снова замешательство и толкотня у дверей. И Хоффман воспользовался этим моментом. Принялся брыкаться с удвоенной силой, стараясь привлечь внимание.
– Не о чем вам говорить с этим Дрейком! – кричал он Эвансу. – Дрейк никогда не допустит, чтоб в этих слушаниях была хотя бы толика правды! – Он развернулся к камере. – Николас Дрейк – не кто иной, как аморальный тип и трус, а вся эта конференция затеяна для того, чтоб навешать как можно больше лапши на уши беднякам всего мира. Я призываю всех обратить внимание на умирающих детей Африки и Азии! Несчастные на последнем дыхании именно из-за таких вот конференций! Продавцы страха, вот вы кто! Аморальные, потерявшие последнюю совесть торговцы страхом!
Он бился и барахтался в руках охранников, точно безумец. Глаза дико расширены, на губах выступила пена. Он определенно походил на сумасшедшего, и оператор выключил камеру, а члены съемочной группы стали смущенно отворачиваться. Увидев это, Хоффман тут же перестал бесноваться.
– Ничего. Я сказал, что хотел. Но всем наплевать, как обычно. – Он взглянул на охранников. – Не держите меня, довольно! Сыт по горло всем этим крючкотворством! Ни секунды больше здесь не останусь. Отпустите немедленно!
– Отпустите его, – сказал Эванс.
Охранники отпустили Хоффмана. И тот немедленно бросился в центр фойе, где Тед Брэдли давал интервью телевидению. Подбежал к актеру, остановился прямо перед ним и закричал:
– А этот человек просто грязный сводник! Работает на этих псевдоэкологов, на всю их насквозь коррумпированную шайку, которая зарабатывает на жизнь тем, что пугает людей! Распространяет ложные страхи. Неужели вы не понимаете? Ложные страхи – это чума! Чума нынешнего века!
Тут охранники снова накинулись на Хоффмана. Скрутили его и потащили к выходу. На этот раз он не сопротивлялся. Весь как-то обмяк, ноги безвольно волочились по полу. И увещевал охранников:
– Осторожней, у меня больная спина. Вы делаете мне больно! В суд на вас подам за причинение телесных повреждений!
Они вытащили его на улицу, стряхнули пыль с одежды и отпустили со словами:
– Удачного вам дня, сэр.
– У меня иначе не бывает. Каждый день на счету.
Эванс еще какое-то время наблюдал за Хоффманом, потом вернулся к Дженифер.
– Только не говори, что я тебя не предупреждала, – сказала она.
– А вообще кто он такой?
– Заслуженный профессор в отставке. Работал в Южнокалифорнийском университете. Был одним из пионеров в изучении статистических данных, используемых средствами массовой информации, и их воздействии на общество. Занятный тип, но, как ты уже успел убедиться, характерец у него не дай бог.
– Думаешь, Мортон и вправду пригласил его сюда?
– Мне нужна твоя помощь, Питер, – раздался за спиной голос. Эванс обернулся и увидел Дрейка.
– Какая именно?
– Вполне возможно, что этот городской сумасшедший, – тут Дрейк кивком указал на Хоффмана, – отсюда прямиком отправится в полицию и заявит, что на него было совершено нападение. Нам это совершенно ни к чему, особенно сегодня утром. Ступай поговори с ним. Попробуй успокоить, ну, ты понимаешь.
– Не знаю, чем я могу тут… – осторожно начал Эванс.
– Пусть он выговорится. Расскажет тебе о своих безумных теориях, – сказал Дрейк. – Выпустит пар. Говорить он может бесконечно.
– Но тогда я пропущу кон…
– Ты нам здесь все равно не нужен. Ты нужнее там. Усмири же этого болвана!
* * *
Возле здания, где проводилась конференция, собралась большая толпа. Люди наблюдали за происходящем в зале на огромном экране с бегущими внизу титрами. Эванс поискал глазами профессора и начал проталкиваться к нему.
– Знаю, почему вы меня преследуете, – сказал Хоффман, заметив Эванса. – Но предупреждаю, ничего у вас не выйдет!
– Профессор, я…
– Вы просто щенок. Шестерка Дрейка. И он послал вас отговорить меня.
– Ничего подобного, сэр.
– Именно так. И не надо мне лгать! Ненавижу, когда мне лгут!
– Ладно, – сказал Эванс. – Это правда. Меня послал Дрейк.
Хоффман резко остановился. Похоже, его просто потрясла такая честность.
– Так и знал. И что он велел вам делать?
– Отговорить вас обращаться в полицию.
– Ну что ж, в этом вы преуспели. Ступайте и передайте ему, в полицию я обращаться не буду.
– А у меня сложилось впечатление, что будете.
– О… Это надо же. Впечатление! Вы один из тех, на кого я, оказывается, могу произвести такое впечатление.
– Нет, сэр, дело не в том, но вы…
– Мне плевать, какое я произвожу впечатление! Важна суть. Вы имеете хоть малейшее представление о том, в чем тут суть?
– Боюсь, я просто не понимаю вас, сэр.
– Кем вы работаете?
– Я юрист.
– Как это я сразу не понял. Сегодня все юристы, куда ни плюнь. Вот вам экстраполяция статистического роста профессии: к 2035 году каждый житель Соединенных Штатов будет юристом, в том числе и новорожденные младенцы. Они станут прирожденными юристами. И каково будет жить в таком мире, как вам кажется?
– Профессор, – сказал Эванс, – вы сделали несколько весьма интересных замечаний перед прессой и…
– Интересных? Я обвинял их в полной аморальности, а вы называете это интересным!
– Извините, – пробормотал Эванс, пытаясь перевести разговор в другое русло. – Вы не объяснили, почему так думаете…
– Я ничего не думаю, молодой человек! Я просто знаю! Это и есть конечная цель моих исследований. Знать, а не предполагать или высказывать догадки. Не теоретизировать. Не строить гипотез. Но именно знать на основе неопровержимых научных данных. О, это искусство давно утеряно в научной среде, молодой человек. Хотя не так уж вы и молоды. Кстати, ваше имя?
– Питер Эванс.
– И вы работаете на Дрейка, мистер Эванс?
– Нет. На Джорджа Мортона.
– Но почему же вы сразу не сказали? – воскликнул Хоффман. – Джордж Мортон был великим, по-настоящему великим человеком! Идемте, мистер Эванс, я угощу вас кофе, там и поговорим. Вы знаете, чем я занимаюсь?
– Боюсь, что нет, сэр.
– Я изучаю экологию мысли, – сказал Хоффман. – И то, каким образом она помогла создать государство страха.
САНТА-МОНИКА
Среда, 13 октября
9.33 утра
Они сидели на скамье, прямо на улице, через дорогу от конференц-зала, где входные двери осаждали все прибывающие толпы людей. Сцена была вполне оживленная, но Хоффман, похоже, игнорировал все, что происходит вокруг. Он говорил возбужденно, захлебываясь словами, отчаянно жестикулируя. Один раз даже задел Эванса по груди рукой, но и этого, похоже, не заметил.
– Десять лет тому назад я начинал с моды и сленга, – говорил он. – Последнее, разумеется, представляет собой не что иное, как моду на язык. И я довольно быстро понял, что идентифицируемых доминант тут не существует. Мода меняется произвольно, и хотя наблюдаются некоторые закономерности – циклы, периодичность и корреляции, – носят они чисто описательный, не объяснительный характер. Вы меня понимаете?
– Ну, в общих чертах, – кивнул Эванс.
– Постепенно я понял, что периодичность и корреляции все же можно считать системой. И существует она как бы сама по себе. Проверил эту гипотезу и счел ее эвристически верной. Существует не только экология естественного мира, всех этих гор, рек, лесов и океанов, что нас окружают, но и экология мира, созданного человеком. Абстрактного мышления, идей, мыслей. Именно это я и принялся изучать.
– Понимаю.
– В современной культуре постоянно наблюдается возникновение, возвышение, а затем падение идей. Какое-то время все искренне верят во что-то, а затем постепенно перестают верить. И вот рано или поздно наступает момент, когда о прежней идее никто и не вспоминает. Их просто забывают, в точности так же, как забывают устаревшие выражения сленга. Идеи словно сами по себе блекнут и…
– Я понимаю, профессор, но почему…
– Почему идеи вдруг впадают в немилость, это вы хотите спросить? – Хоффман словно рассуждал наедине с самим собой. – Ответ очень прост: впадают, и все тут. В моде, как и в экологии мира естественного, рано или поздно начинается процесс распада. Резкий пересмотр установившегося порядка вещей. Молния попадает в дерево, и весь лес сгорает. На гарях появляются новые, совершенно иные виды. Случайные, хаотичные, неожиданные и резкие изменения. Мир показывает нам немало таких примеров, наблюдается это повсеместно, во всех сферах.
– Профессор Хоф…
– Но идеи не только подвержены резким изменениям. Порой они могут всплывать из прошлого и вновь завладевать умами человечества. И некоторые из этих идей продолжают волновать общество еще долгое время после того, как от них отказались ученые. Вот вам прекрасный пример: левое и правое полушария мозга. В 1970 годы эта идея обрела невиданную популярность благодаря работам Сперри из Калифорнийского технологического. Он изучал весьма специфические группы пациентов, подвергшихся операциям на головном мозге. И открытия его относились лишь к таким, ограниченным группам людей. Сам Сперри неоднократно подчеркивал этот факт, отрицал его значимость для более широкого спектра. К началу 1980-х стало ясно, что эта его теория левого и правого полушарий неверна, у здорового человека эти две половинки мозга по отдельности не работают. Но в массовой культуре эта идея не умирала еще лет двадцать. Люди говорили о ней, верили в нее, писали об этом книги, и это через десятилетия после того, как сами ученые отбросили эту идею…
– Да, все это очень интересно, но…
– Вот и в естественной науке в 1960-е годы широкое распространение получила идея о так называемом «балансе природы». И посыл ее был прост: оставьте природу в покое, она сама восстановится, естественным образом. Красивая идея, к тому же весьма живучая. Древние греки верили в это еще три тысячи лет назад. На основе чего, спросите вы? Да не было под ней никакой научной основы. Больно уж симпатичной казалась идея, вот и все. И вот к началу 1990-х ни один из ученых уже не верил в баланс природы. Экологи отвергли эту идею как абсолютно неверную. Не правильную. Чистой воды фантазия, говорили они. Теперь говорят о динамическом дисбалансе, множественных состояниях равновесия. Но они уже понимают, что природа никогда и не была в состоянии равновесия. Никогда не была и не будет. Напротив, баланс в природе всегда нарушен, а это в свою очередь означает…
– Профессор, – сказал Эванс, – мне хотелось бы спросить вас вот о чем…
– Это означает, что человечество, которое принято последнее время называть величайшим разрушителем естественного порядка, на самом деле не заслуживает этих обвинений. Вся среда постоянно меняется, саморазрушается, а затем…
– Но Джордж Мортон…
– Да, да, вас интересует, о чем мы говорили с Джорджем Мортоном. Я как раз к этому и подошел. Мы не отклонились от темы. Вполне естественно, что Мортона страшно интересовали все эти экологические идеи. Особенно идея экологического кризиса.
– И что же вы ему об этом говорили?
– Когда изучаешь средства массой информации, чем, собственно, я и занимаюсь со своими студентами в стремлении обнаружить сдвиги в нормативных концепциях и представлениях, можно делать немало любопытнейших открытий. Мы просмотрели распечатки новых программ ведущих вещателей, таких как «Эн-би-эс», «Эй-би-эс», «Си-би-эс». Мы проанализировали также множество статей в газетах, выходящих в Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Лос-Анджелесе и Сиэтле. Мы определили частотность некоторых концепций и терминов, используемых средствами массовой информации. И получили просто поразительные результаты. – Тут он вдруг умолк.
– Какие же? – с неподдельным интересом спросил Эванс.
– Осенью 1989-го произошел существенный сдвиг. До этого времени в газетах, на радио и телевидении не слишком часто использовались такие термины, как «кризис», «катастрофа», «катаклизм», «чума», «несчастье». К примеру, за весь 1980 год слово «кризис» использовалось в новостных программах с той же частотой, что и слово «бюджет». Кроме того, до 1989 года в телевизионных репортажах и газетных заголовках редко использовались такие прилагательные, как «ужасный», «беспрецедентный», «чудовищный». А потом все вдруг изменилось.
– Как именно?
– Эти термины стали встречаться все чаще и чаще. К примеру, слово «катастрофа» в 1995 году использовалось в пять раз чаще, чем 1985-м. А к началу 2000 года – уже в десять раз чаще. Ну и сами статьи, конечно, тоже изменились. Во многих делался упор на страх, тревогу, опасность, неуверенность, панику.
– Но почему именно в 1989-м?
– Ага. Хороший вопрос. Можно сказать, ключевой. Во многих отношениях 1989-й был ничем не примечательным годом. Советская субмарина затонула у берегов Норвегии; события на площади Тяньаньмэнь в Китае; Салмон Ружди был приговорен к смерти; развелись со своими супругами Джейн Фонда, Майк Тайсон и Брюс Спрингстин; епископальная церковь впервые признала женщину-епископа; в Польше разрешили забастовки профсоюзов; «Вояджер» направился к Нептуну; в Сан-Франциско во время землетрясения были разрушены автомагистрали; в России, США, Франции и Англии проводились ядерные испытания. Ничем не отличающийся от других год. И все же именно осенью 1989 года было отмечено все учащающееся использование термина «кризис». И показалось подозрительным, что это почти совпало по времени с таким событием, как падение Берлинской стены. А произошло это девятого ноября 1989 года.
Хоффман снова умолк и, страшно довольный собой, многозначительно посматривал на Эванса.
– Простите, профессор, – сказал Питер, – я все же не понимаю…
– Мы сначала тоже не понимали. Думали, что это просто случайное совпадение. Но это было не так. С падения Берлинской стены начался коллапс Советской империи. Пришел конец «холодной войне» с Западом, которая длилась целых полвека.
Снова молчание. Снова самодовольный взгляд Хоффмана.
– Простите, – выдавил наконец Эванс. – Мне было тогда всего тринадцать лет и… – он пожал плечами, – и я не совсем понимаю, куда вы клоните.
– Я клоню к такому понятию, как социальный контроль, Питер. От каждого суверенного государства требуется контроль над поведением его граждан, требуется сохранение порядка и повиновения этих самых граждан в пределах разумного, разумеется. Государство должно следить за тем, чтобы они не сбивались с пути праведного. Именно государство должно заставлять их платить налоги. И, разумеется, все мы знаем, что социальный контроль достигается прежде всего через страх.
* * *
– Страх… – повторил Эванс.
– Именно. На протяжении полувека государства Запада поддерживали своих граждан в состоянии постоянного страха. Страх перед Советами. Страх ядерной войны. Коммунистической угрозы. Железного занавеса. Империи зла. Ну а в странах с коммунистическим режимом все было то же самое, только с точностью до наоборот. Страх перед Америкой, перед проклятыми капиталистами. И вдруг осенью 1989 года всему этому пришел конец. Все исчезло, разлетелось в прах. Кончилось. Падение Берлинской стены создало вакуум страха. А природа, как известно, не терпит пустоты. Вакуум следовало чем-то заполнить.
Эванс нахмурился.
– Так вы что же, хотите сказать, что место «холодной войны» занял кризис экологии?
– Все свидетельствует об этом. Нет, разумеется, теперь у нас имеется много новых страшилок, радикальный фундаментализм, события 11 сентября, угроза терроризма. Есть чего бояться, и я перечислил реальные причины для возникновения страха. Но не в том суть. Суть в том, что для страха всегда найдется причина. Причины со временем могут меняться, а страх всегда остается с нами. Перед терроризмом мы боялись отравления окружающей среды. До того у нас была коммунистическая угроза. Я просто хочу сказать следующее: хотя конкретные причины для страха могут меняться, мы никогда не сможем освободиться от страха. Страх присутствует в обществе, затрагивает все аспекты его существования. Постоянно.
Профессор поднялся со скамьи, повернулся спиной к толпам у входа.
– Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько удивительна культура западного общества? Индустриально развитые страны обеспечивают своим гражданам беспрецедентные безопасность, здоровье и комфорт. За последний век средняя продолжительность жизни возросла на целых пятьдесят процентов! И, однако же, современные люди продолжают терзаться разными страхами. Они боятся иностранцев, болезней, преступности, боятся изменений в окружающей среде. Они боятся домов, в которых живут, еды, которую едят, современных технологий, которые их окружают. Они постоянно опасаются вещей, которых даже не видят: микробов, химических элементов, пищевых добавок, аллергенов. Они робки, запуганы, они страдают от нервных стрессов, они впадают в депрессию. И, что еще более удивительно, они твердо убеждены в том, что экологическая среда всей планеты сознательно разрушается. Парадоксально! Все равно что верить в колдунов и ведьм. Подобного рода глобальные фантазии и страхи были характерны разве что для Средневековья. Все летит в тартарары, и мы все постоянно пребываем в страхе. Просто поразительно!
Он сделал секундную паузу, затем продолжил:
– Каким образом удалось внедрить это чувство в души всех и каждого? Мы воображаем, что живем в разных странах, во Франции, Германии, Японии, Америке, а на деле населяем одно и то же государство, Государство Страха. Уму непостижимо!.. Как такое могло случиться?
Эванс промолчал. Он понимал: его мнение профессора не интересует.
– Так вот, кое-что я все же смогу вам объяснить. Раньше, еще до того, как вы появились на свет, Питер, граждане, населяющие страны Запада, считали, что над их государствами доминирует так называемый военно-промышленный комплекс. Американцев предупреждал об этом еще Эйзенхауэр в начале 1960-х. Европейцы же после двух мировых войн прекрасно усвоили, какую опасность представляет для их стран этот комплекс. Но военно-промышленный комплекс уже давно не является главной движущей силой современного общества. На самом деле последние лет пятнадцать мы пребываем под контролем совершенно нового комплекса, куда более могущественного и всеобъемлющего. Я придумал ему название: политико-законодательно-медийный комплекс. Сокращенно ПЗМК. И создан он для нагнетания страха у населения. Под предлогом обеспечения безопасности этого самого населения.
– Ну, безопасность – это ведь очень важно.
– Я вас умоляю! Западные государства прекрасно защищены. Однако же население этого не чувствует. А все благодаря ПЗМК. ПЗМК обрел такую власть и влияние именно потому, что объединяет многочисленные общественные институты. Политикам нужен страх, чтобы контролировать население. Юристам всех мастей нужны разного рода опасности, чтоб заводить тяжбы и зарабатывать деньги. Средствам массовой информации нужны страшные истории, чтоб привлекать и удерживать внимание публики. И все вместе эти три института настолько действенны, что могут благополучно заниматься своим делом, даже если все страхи абсолютно беспочвенны. Даже если для них нет никаких оснований. Взять, к примеру, силиконовые имплантанты грудей.
Эванс удивленно покачал головой:
– Имплантанты грудей?..
– Да, именно. Помните, одно время вдруг начались разговоры о том, что они способствуют развитию раковых заболеваний? И это несмотря на то, что статистические данные полностью отрицали подобное. И тут началось. Печатались все новые жуткие истории, в судах рассматривалось множество исков, на политических слушаниях говорили о полном запрете на такие операции. Производитель этих самых имплантантов, Доу Корнинг, выплатил 3,2 миллиарда долларов и вышел из бизнеса. Якобы пострадавшим по решению судов были выплачены огромные суммы наличными, немалая доля перепала и их адвокатам.
Хоффман перевел дух и продолжил:
– Четыре года спустя эпидемиологические исследования со всей очевидностью показали, что никаких раковых заболеваний имплантанты не вызывают. Но к тому времени кризис уже сыграл свою роль, и ПЗМК, весь его неумолимый механизм, продолжил искать причины для новых страхов и ужасов. Вот что я скажу вам, Питер. Именно таким образом функционирует современное общество. Постоянно создает новые страхи. И никакая сила не может этому противостоять. Поскольку у нас не существует системы проверок и противовесов, нет никаких ограничений этому постоянному нагнетанию страха за страхом…
– И все потому, что у нас свобода слова, свобода прессы.
– Классический ответ ПЗМК. Именно благодаря этому они и остаются в бизнесе, – заметил Хоффман. – Но вдумайтесь. Если запрещено кричать «Пожар!» в театре, когда никакого пожара нет и в помине, вас могут даже наказать за ложную тревогу, почему не запрещено кричать «Рак!» со страниц «Нью-Йоркер»? Ведь это утверждение неверно! На то, чтобы погасить скандал и разъяснить ситуацию с этими ложными раковыми заболеваниями, мы потратили свыше двадцати пяти миллиардов долларов. И что же, спросите вы. Вижу это по вашему лицу. Вы думаете, мы так богаты, что можем себе это позволить? Подумаешь, всего каких-то двадцать пять миллиардов! Но двадцать пять миллиардов – это больше, чем валовый внутренний продукт пятидесяти беднейших стран мира, вместе взятых. Полмира живет на два доллара в день! И двадцати пяти миллиардов хватило бы на то, чтобы на протяжении целого года оказывать помощь тридцати четырем миллионам людей. Или же мы могли бы потратить эти деньги на помощь всем африканцам, умирающим от СПИДа. А вместо этого мы выбросили деньги на борьбу с дурацкими фантазиями, публикуемыми в газетах и журналах. С фантазиями, которые читатели воспринимали всерьез. Вы уж поверьте, напрасная, глупейшая трата средств! В другом мире, более нормальном, всех этих газетчиков отдали бы под суд. Легко представить, какой шум поднялся бы вокруг этого процесса. Для нас, американцев, он был бы сопоставим с Нюрнбергским. Только на этот раз речь шла бы не о преступлениях нацизма, а о бездумной трате богатств Запада на разные пустяки. На этом процессе не мешало бы продемонстрировать снимки умерших от голода и болезней детей Африки и Азии.
Он снова перевел дух.
– Мы говорим о полном надругательстве над моралью. Можно было бы ожидать, что наши религиозные лидеры, наши великие гуманисты поднимут крик, хотя бы осудят эти напрасные траты, приведшие к гибели людей по всему миру. Но ничего подобного. Разве высказался по этому поводу хотя бы один из них? Нет. Напротив, все они дружно присоединились к общему хору. Только и знают, что твердить: «Как бы поступил Иисус? На все его воля». Словно забыли, что Иисус боролся с лжепророками и призывал изгнать торгашей из храма.
Хоффман все больше заводился.
– Мы говорим о ситуации, которая глубоко аморальна. Если уж точней, просто омерзительна. ПЗМК полностью игнорирует нужды беднейших и самых несчастных на нашей планете людей. И все ради того, чтоб позволить сытым политикам сохранить свои кресла, позволить без конца выходить в эфир обеспеченным ведущим и комментаторам, позволить адвокатам обзаводиться новыми «Мерседесами». Ах да, чуть не забыл, тут задействована еще и профессура, разъезжающая в «Вольво». О них тоже не стоит забывать.
– Как это понимать? – спросил Эванс. – При чем здесь университетская профессура?
– Ну, это уже другая история. Очень длинная.
– А короткой версии не существует?
– Думаю, нет. Именно поэтому заголовки еще не есть новости, Питер. Однако попытаюсь, – сказал он. – Суть в том, что за последние пятьдесят лет мир очень сильно изменился. Мы живем в новом информационном поле, если так можно выразиться. В обществе, которым правят знания и информация. И этот факт оказывает огромное влияние на наши университеты.
Пятьдесят лет тому назад, если вы хотели вести «жизнь мысли», иначе говоря, быть интеллектуалом, жить своим умом, всячески совершенствовать свои умственные способности, вам была прямая дорога в университет. В обществе в целом вам места не было. Нет, можно сказать, что несколько газетных репортеров, несколько журналистов крупных изданий и сейчас живут своим умом, но это, пожалуй, и все. Университеты привлекали тех, кто охотно променял бы все блага мира на возможность вести довольно замкнутую, интеллектуально насыщенную жизнь, рассказывать о вечных ценностях молодому поколению. По-настоящему интеллектуальный труд был сосредоточен исключительно в университетах.
Он умолк на секунду, затем продолжил:
– Но сегодня целые части общества живут интеллектуальным трудом. Вся наша современная экономика основана на этом труде. Тридцать шесть процентов рабочих – это люди с высшим образованием. А профессура вдруг решила, что не хочет больше обучать молодых людей, передала эту обязанность студентам-выпускникам. Профессура, которая знает меньше, чем эти самые студенты, отвратительно говорит по-английски… Так что же вы хотите? Естественно, университеты впали в глубочайший кризис. Да и что от них теперь толку? Они утратили эксклюзивное право жить жизнью мысли. Они больше не учат молодежь. Ну, в лучшем случае раз в год опубликуют какую-нибудь теоретическую статейку по семиотике Фуко.[34] Что же произошло с нашими университетами? Какой вклад могут они сделать в развитие общества в новом веке?
Хоффман поднялся, словно ему самому предстояло торжественно ответить на этот вопрос. Потом столь же резко опустился обратно на скамью.
– А произошло вот что, – продолжил он. – Университеты трансформировались еще в начале 1980-х. Прежние бастионы интеллектуальной свободы в мире Бэббитов[35], прежнее сосредоточие всех свобод, в том числе даже сексуальных, они превратились в самые ограниченные институты современного общества. А все потому, что у них появилась новая роль. Они стали создателями новых страхов для ПЗМК. Университеты сегодня – это не что иное, как фабрики новых страхов. Изобретают все новые ужасы и причины для беспокойства. Все новые ограничительные коды. Потому как «слова» – термин здесь неподходящий. А мысли… мыслями это просто нельзя назвать. Они производят бесконечный поток новых страхов, опасностей, социальных угроз, которыми с такой охотой пользуются политики, юристы и репортеры. Еда – страшно вредная штука. Ваше поведение недопустимо, поскольку нельзя курить, пить, нельзя ругаться, трахаться, даже думать страшно вредно! Все перевернуто с ног на голову. Просто поразительно!





