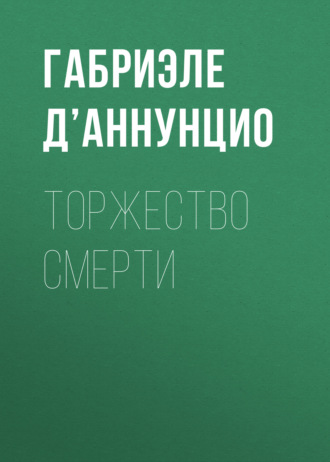
Габриэле д’Аннунцио
Торжество смерти
Смерть казалась ему по-прежнему неизбежной, но ему было тяжело думать, что для приведения своего намерения в исполнение он должен был выйти из бездействия, совершить целый ряд утомительных движений и преодолеть свое отвращение к физическим усилиям. Но где он покончит с собой? Каким способом? Дома? Сегодня же? Огнестрельным оружием? Ядом? План самоубийства еще не вполне определился в его уме. Тяжелое состояние и горечь во рту внушили ему мысль о наркотическом средстве. И не останавливаясь на практической стороне вопроса – каким образом достать необходимую дозу, он стал представлять себе действие приема. Отдельные картины понемногу становились отчетливее, некоторые подробности выступали яснее и яснее, и все сливалось в одну ужасную сцену. Его занимали не столько его собственные ощущения медленной агонии, сколько обстоятельства, при которых мать, сестра и брат могли узнать о случившемся несчастье; он старался представить себе проявление их горя, их слова, жесты и поведение. Его любопытство простиралось не только на близких родных, но и на всех, которых он оставлял после себя: друзей, родных, Ипполиту, жившую вдалеке и ставшую почти чужой ему…
– Джиорджио!
Это был голос матери. Она постучала к нему в дверь.
– Ах, это ты, мама? Войди.
Она вошла и с нежной заботливостью, приблизившись к постели, спросила, наклоняясь над ним и кладя ему руку на лоб:
– Ну что? Как ты себя чувствуешь?
– Так себе… Голова тяжелая и горечь во рту… Мне хотелось бы выпить что-нибудь…
– Сейчас придет Камилла с чашкой молока. Хочешь, чтобы она побольше открыла ставни?
– Как хочешь, мама.
Он говорил изменившимся голосом. Присутствие матери обостряло в нем чувство сострадания к самому себе, вызванное в нем игрою его воображения при мысли о смерти, которую он считал близкой. Он смешивал действительность с фантазией, принимая движения матери, открывавшей ставни, за воображаемые движения, связанные с ужасным открытием, и глаза его делались влажными от жалости к себе и к бедной женщине, которой он готовил этот ужасный удар; трагическая сцена вполне ясно вырисовывалась в его воображении. Комната осветилась; мать оборачивалась к нему, испуганно звала его по имени, неверной походкой возвращалась к его кровати, дотрагивалась до него, трясла его безжизненное, застывшее тело и без сознания падала на его труп. «Может быть, она умрет? Этот удар может ведь на месте сразить ее». Его волнение возрастало, и настоящий момент показался ему конечным и торжественным, а движения, слова и все поведение матери приняли в его глазах такое необычайное значение, что он стал следить за ней с тревожным любопытством, выходя внезапно из своего внутреннего бездействия и приобретая сразу живой интерес к жизни. В нем опять происходило известное ему явление, не раз возбуждавшее его удивление и любопытство по поводу оригинальности процесса: это был моментальный переход от одного состояния сознания к другому, составлявшему полную противоположность первому; и этот переход напоминал ему перемену, которая происходила на сцене, когда все лампы на авансцене внезапно зажигаются, заливая все кругом ярким светом. Ему казалось, что в обычном состоянии его сознание было окутано какой-то матовой оболочкой, отделявшей его от действительности; иногда эта оболочка делалась такой тусклой, что совершенно изолировала его от внешнего мира, делая его неспособным воспринимать внешние впечатления. Говоря более образно, это была сфера, где не только ядро было темное, но – в меньшей степени, конечно, – и тонкий периферический слой. Но иногда случалось, что эта мутная оболочка исчезала, и сознание приходило в непосредственное соприкосновение с окружающей действительностью. В такие минуты ощущения приобретали характер чего-то нового и открывали для Джиорджио новую сущность в реальной жизни, в тех существах, которые под влиянием близости и привычки являлись ему до тех пор в вполне определенном свете. И, как в день похорон дона Дефенденте, Джиорджио поглядел на мать другими глазами и увидел ее, как тогда, с поразительной ясностью; он почувствовал, как ее жизнь близка к его жизни, и понял, какие таинственные узы кровного родства связывают их и как печальна судьба их обоих. Когда мать отошла от окна и села у его кровати, он повернулся к ней, приподнялся немного на подушках и взял ее руку в свои, стараясь скрыть свое волнение под вынужденной улыбкой. Делая вид, что он рассматривает драгоценный камень в кольце, он разглядывал ее худую и длинную руку, производившую на него своим внешним видом глубокое впечатление; прикасаясь к верхнему слою ее кожи, он испытывал совершенно новое для него ощущение. «Когда она дотронется до моего мертвого тела… – думал он, не отделавшись еще от игры своего воображения, – когда она почувствует, как оно холодно…» И он невольно вздрогнул при воспоминании об ужасном отвращении, испытанном им однажды при прикосновении к трупу.
– Что с тобой? – спросила мать.
– Ничего… нервная дрожь.
– Ты, видно, нездоров, – продолжала она, качая головой. – У тебя болит что-нибудь?..
– Ничего, мама. Конечно, я еще немного потрясен.
Но от материнских глаз не ускользнуло выражение чего-то вынужденного и неестественного в лице сына.
– Как я жалею, что послала тебя туда! – воскликнула она. – Как я нехорошо сделала, послав тебя!
– Нет, почему же, мама? Рано или поздно это было необходимо.
Он вполне ясно припоминал теперь неприятную сцену со всеми подробностями, движения, голос отца, свой собственный изменившийся голос, произносивший резкие слова. Ему казалось теперь, что не он, а кто-то чужой был участником этой сцены и произносил эти резкие слова; тем не менее в его душе зашевелилось какое-то неясное раскаяние, точно он инстинктивно сознавал, что перешел границы дозволенного и совершил непоправимый поступок, поправ ногами что-то человеческое и священное. Почему он нарушил своим резким поведением спокойную покорность, внушенную ему образом умершего Димитрия среди безмолвной местности? Почему он перестал вдруг относиться с болезненным, но справедливым состраданием к низости и неблагородству этого человека, над которым тяготел, как над всеми, неотвратимый рок? В его жилах текла та же кровь, что у отца, и в ней дремали, может быть, зародыши тех же пороков. Если бы он продолжал жить, то тоже мог бы дойти до такого ужасного состояния. И всякий гнев, ненависть, резкость, грубость, наказание показались ему несправедливыми и бесцельными, а жизнь – простым ферментом нечистой материи. Ему казалось, что в его собственном существе имеется известное количество непонятных, неразрушимых и тайных сил, от развития которых зависело его существование до сих пор и которыми направлялась бы его дальнейшая жизнь, если бы он не был вынужден, повинуясь одной из этих сил, покончить с собой. «Правда, почему это я сожалею о своем вчерашнем поступке? Разве я мог поступить иначе?»
– Это было необходимо, – повторил он, точно про себя, придавая своим словам иное значение.
И он стал внимательно и трезво следить за развитием своей остающейся жизни.
9
Когда мать и сестра оставили его одного, он продолжал еще несколько минут лежать в постели, чувствуя физическое отвращение ко всякому движению. Ему представлялось необычайно трудным и утомительным сделать усилие, чтобы встать с постели и выйти из горизонтального положения, в котором он должен был вскоре найти вечный покой. Он вспомнил о наркотическом средстве. Закрыть глаза и ожидать забвения! Яркий свет майского утра, отражавшаяся в стеклах лазурь, полоса солнечного света на полу, голоса и шум, доносившиеся с улицы, – все эти проявления жизни, казалось, силой врывались к нему на балкон, чтобы добраться до него и подчинить его себе; они производили на него ошеломляющее впечатление, вызывая в нем в то же время чувство неприязни ко всему окружающему. В его уме мелькала фигура матери, открывавшей ставни, и Камиллы, стоявшей у его кровати; он слышал их слова, относившиеся все к одному и тому же человеку. Одно жестокое восклицание матери, произнесенное ею с искривленными губами, особенно сильно запечатлелось в уме Джиорджио, и в связи с ним он вспоминал лицо отца с явными признаками смертельной болезни там, на террасе, при ярком свете отбрасываемых от белой стены солнечных лучей.
– О, если бы это была правда! – сказала мать с горечью в тоне перед ним и Камиллой. – Дай-то Бог! О, если бы это была правда!
И для него, который скоро должен был уйти из этого мира, это было последнее впечатление, получаемое от сознания, бывшего в этом доме в течение долгого времени источником нежности.
Но внезапно Джиорджио почувствовал в себе прилив воли и соскочил с постели, решившись, наконец, действовать. Это совершится в течение дня. Но где? Он вспоминал о запертых комнатах Димитрия. Прежде чем он принял окончательное решение, он заметил в себе уверенность, что способ представится ему сам собой в течение дня каким-нибудь неожиданным внушением, которому он должен будет подчиниться.
Во время одевания его заботила мысль, как бы тщательнее приготовить свое тело для могилы; в нем проявилось тщеславие, которое замечается иногда у осужденных на смерть и у самоубийц, и, заметив в себе это чувство, он искусственно делал его еще интенсивнее. Ему стало жаль умирать в этом маленьком заброшенном городке, в некультурной провинции, вдалеке от друзей, которые, может быть, долгое время не узнают о его смерти. Если бы это случилось в Риме, в большом городе, где многие знали его, то друзья несомненно стали бы оплакивать его и украсили бы поэзией его трагическую кончину. И он опять стал представлять себе обстановку своей смерти, безжизненное тело на кровати в комнате, которая была свидетельницей его любви, глубокое, искреннее волнение молодых родственных ему душ среди гробовой тишины при виде его бездыханного трупа, разговоры у его тела при свете зажженных свечей, безмолвная толпа молодых друзей за гробом, украшенным венками, прощальные слова, произнесенные поэтом Стефано Гонди (он решил умереть, потому что не мог устроить жизнь соответственно своему идеалу), и затем страдания, отчаяние и безумное горе Ипполиты…
Ипполита! Где-то она в настоящую минуту, что она чувствует, что она делает? Какое зрелище представляется теперь ее глазам? Какие слова, какие столкновения с людьми волнуют ее? Каким образом за две недели она не могла найти возможности дать других известий о себе, кроме четырех или пяти кратких и неясных телеграмм, отправляемых все из разных мест?
– Может быть, у нее уже явилось желание принадлежать другому человеку. Этот зять, о котором она так часто рассказывала мне… – Эта печальная мысль, подкрепляемая укоренившейся в нем привычкой к подозрениям и обвинениям, внезапно овладела им и встревожила его, как в самые мрачные часы прежних времен. Все его горькие воспоминания закружились в нем шумным роем. В одну минуту он вспомнил все то, что огорчало и мучило его за два года; он стоял теперь на том самом балконе, где в первый вечер по приезде он призывал свою возлюбленную под первым впечатлением разлуки, и ему казалось теперь, что новое счастье неизвестного соперника разливалось в красоте и сиянии майского утра и долетало до него.
10
Желая проникнуться глубокой тайной, перед которой он находился, Джиорджио решил посмотреть еще раз перед смертью пустые комнаты, где Димитрий провел свои последние дни.
Он получил эти комнаты в наследство вместе со всем состоянием дяди и хранил их нетронутыми, как святыню. Они были в верхнем этаже и выходили окнами на юг, в большой сад.
Джиорджио взял ключ и осторожно поднялся по лестнице, желая избежать неприятных расспросов. Но, проходя по коридору, он неизбежно должен был пройти мимо двери тети Джиоконды. Надеясь пройти незамеченным, он шел тихонько и на цыпочках, сдерживая дыхание. Из комнаты старухи послышался кашель; Джиорджио ускорил шаги, думая, что кашель заглушит их.
– Кто там? – спросил хриплый голос изнутри.
– Это я, тетя Джиоконда.
– Ах, это ты, Джиорджио! Войди, войди…
Старуха появилась на пороге с желтым лицом, напоминавшим во тьме мертвенно-бледную маску, и бросила на племянника своеобразный взгляд, направлявшийся сперва на руки, а потом уже на лицо, точно она хотела сразу убедиться, не принесли он ей что-нибудь.
– Я иду наверх, – сказал Джиорджио, чувствуя отвращение к запаху жилья в ее комнате и ясно показывая, что он не желает останавливаться. – Прощай, тетя. Я хочу проветрить немного комнаты.
Он продолжал путь по коридору и дошел до двери в комнату дяди, но в тот момент, как он вставлял ключ в замок, сзади него послышались неровные шаги хромой тетки. Она шла за ним следом.
Эта старая заика, почти идиотка, с зараженным дыханием, как у умирающих от тифа людей, полусгнившая от сластей среди своих святых, эта старушка была чем-то вроде сторожа этого места! Это была родная сестра самоубийцы Димитрия Ауриспа.
У Джиорджио больно сжалось сердце при мысли, что ему, может быть, не удастся отделаться от ее присутствия и придется выслушивать ее заикание в почти священной тишине этого места, среди дорогих и ужасных воспоминаний. Он не сказал ничего и не обернулся, но открыл дверь и вошел.
В первой комнате было темно, немного душно и чувствовался своеобразный запах старинной библиотеки. Полоска слабого света обозначала место окна. Джиорджио секунду колебался, прежде чем открыть ставни; тетя Джиоконда закашляла в темноте. Нащупывая железные ручки у ставень, Джиорджио слегка дрожал от волнения, но открыл ставни, оставив спущенными жалюзи, и обернулся. В зеленоватом полумраке вырисовывались неясные контуры мебели и скривившаяся набок дряблая, покачивающаяся фигура старухи, которая шевелила беззубым ртом. Джиорджио поднял жалюзи, и волна солнечного света ворвалась в комнату. Выцветшие занавески заколебались от ветра.
Он остановился в нерешимости, не будучи в состоянии отдаться всецело своим чувствам и испытывая неудовольствие из-за присутствия старухи. Его раздражение дошло до того, что он не произносил ни слова из боязни, что его голос зазвучит сердито и резко. Он прошел в соседнюю комнату и открыл окно. Солнечный свет ворвался в комнату, и занавески заколебались. Он прошел в третью комнату и открыл окно. И там свет ворвался в комнату, и занавески заколебались.
Он не пошел дальше. Следующая, угловая, комната была спальня дяди. Он хотел войти в нее один. С тоской в сердце он услышал за собой неровную походку назойливой старухи и сел в ожидании ее ухода, продолжая упорно молчать.
Старуха медленно переступила порог. Увидя молча сидевшего Джиорджио, она остановилась в недоумении, не зная, что сказать. По-видимому, ей стало холодно от свежего ветра, врывавшегося в комнату через окно, потому что она сильно раскашлялась, стоя посредине комнаты, и при каждом приступе кашля ее тело раздувалось и опускалось, точно козий мех от периодического надувания. Она прижала к груди свои жирные, сальные руки с грязными ногтями, а во рту ее между пустыми челюстями болтался язык, покрытый беловатым налетом.
Как только кашель немного улегся, старуха вынула из кармана грязную коробочку и, взяв из нее пастилку, стала сосать ее, глотая слюну. Некоторое время она глядела на Джиорджио бессмысленным взглядом, как сумасшедшая, потом перевела взгляд на запертую дверь четвертой комнаты, перекрестилась и, усевшись на ближайший стул и сложив руки на животе, стала с опущенными глазами читать молитву по умершим.
«Она молится за душу брата, за душу осужденного», подумал Джиорджио. Ему казалось совершенно непонятным, что это была родная сестра Димитрия Ауриспа. Благородная кровь, обагрившая постель в соседней комнате и вытекшая из мозга, привыкшего к самой сложной интеллектуальной работе, эта кровь была одного происхождения с той разжиженной кровью, которая текла в жилах ханжи. Только жадность заставляет ее оплакивать щедрого брата. Какая это оригинальная молитва, возносящаяся из испорченного старческого желудка за благороднейшего из самоубийц! Сколько странностей являет нам жизнь!
Тетя Джиоконда вдруг опять закашляла. – Тетя, тебе лучше уйти отсюда, – сказал Джиорджио, не в состоянии долее сдерживать свое нетерпение. – Этот воздух вреден для тебя. Лучше уйди. Вставай, пойдем, я провожу тебя до коридора.
Тетка взглянула на него, пораженная его резким, необычайным тоном, встала и, хромая, прошла через все комнаты. Очутившись в коридоре, она опять перекрестилась, заклиная злого духа. Джиорджио запер за нею дверь, два раза повернул ключ в замке и остался, наконец, один на свободе, в доме умершего, в обществе невидимого дяди.
Обстановка возбуждала в душе Джиорджио много воспоминаний. Легким, шумным роем они поднимались от вещей и кружились вокруг него; прошлое глядело на него изо всех концов комнаты. Вещи, казалось, отдавали ему часть той духовной сущности, которой они были пропитаны. «Я, может быть, немного возбужден? – думал Джиорджио, приглядываясь мысленно к ясным образам, сменявшимся в нем с поразительной быстротой и одухотворенным высшей жизнью. – Может быть, мои представления не свободны от сверхъестественного влияния? Эти образы возникают в моем уме так же, как мечты? Однородны ли они по сущности? Может быть, это только плоды моих больных и возбужденных нервов?» Он стоял в полном недоумении перед великой тайной, испытывая ужасную тревогу на границе неведомого мира.
Джиорджио подошел к пюпитру. Это была страничка из Феликса Мендельсона: Domenica II post Pascha; Andante quasi Allegretto; Surrexit pastor bonus… Далее на столике лежали в куче партитуры для скрипки и рояля в лейпцигском издании: Бетховен, Бах, Шуберт, Роде, Тартини, Виотти. Джиорджио открыл футляр и увидел нежный инструмент с четырьмя беззвучными струнами, спавший на ложе из оливкового бархата. У Джиорджио явилось желание пробудить его, и он дотронулся рукой до квинты, которая издала резкий стон, заставив дрожать весь ящик. Это была скрипка работы Андреа Гуарнери, помеченная 1680-м годом.
Джиорджио вспомнил, как Димитрий импровизировал на скрипке, а он аккомпанировал ему на рояле; он чувствовал тогда почти невыносимую тревогу, стараясь следить за скрипкой Димитрия, играя наугад, боясь нарушить темп, взять неверный тон или фальшивый аккорд, пропустить какую-нибудь ноту.
Димитрий Ауриспа почти всегда импровизировал на поэтические темы. Джиорджио вспомнил, как чудно он импровизировал в один октябрьский день на лирическую тему из «Принцессы» Альфреда Теннисона. Джиорджио сам перевел ему эти стихи на итальянский язык, чтобы Димитрий мог понять их, и предложил их ему как тему. Но где же был теперь этот листок?
Ему хотелось испробовать новое печальное ощущение, и он принялся искать листок в альбоме, лежавшем между партитурами. Он был уверен, что найдет его, так как вполне ясно помнил о существовании этого листка. Действительно, он скоро нашелся.
Это был листок бумаги, исписанный лиловыми чернилами. Бумага была смята, пожелтела и стала мягкой, как паутина, а чернила сильно побледнели. Джиорджио показалось, что листок этот дышал грустью страницы, написанной в давно прошедшие времена дорогой рукой, исчезнувшей навсегда.
«Я написал это! Это мой почерк!» – повторял мысленно Джиорджио, с трудом различая буквы. Это был робкий, неровный, почти женский почерк, носивший еще отпечаток школы, переходного возраста и неопределившейся нежной души, которая жила во мне даже в этом отношении!
Он постоял несколько минут перед дверью в комнату, где свершилось трагическое событие. Он чувствовал, что не владеет собой. Его нервы были расшатаны и изменяли и искажали все его ощущения. Какой-то обруч сдавливал ему голову, расширяясь соразмерно с биением крови в артериях, точно эластичное и холодное вещество. И подобный же холод пробирал его по спине.
Под влиянием неожиданного наплыва энергии Джиорджио почти резким движением открыл дверь и вошел в комнату. Не оглядываясь кругом, он пошел по направлению полосы света, проникавшей в комнату через дверную щель, и открыл дверь на один из балконов. Потом он открыл дверь на другой балкон и обернулся, немного запыхавшись, взволнованный от этого быстрого движения, сделанного под влиянием какого-то чувства ужаса. Он заметил, что корни его волос стали нечувствительными.
Прежде всего ему бросилась в глаза кровать. Это была простая кровать из орехового дерева, без резьбы и украшений, без полога, покрытая зеленым одеялом. Несколько секунд Джиорджио не видел ничего, кроме кровати, как в тот ужасный день, когда он переступил порог и, точно окаменелый, остановился перед трупом дяди.
Вызванное воображением мертвое тело с закутанной в черную шаль головой и не скрещенными на груди, а вытянутыми по бокам руками снова заняло свое место на одеяле. Яркого солнечного света, врывавшегося в комнату через раскрытые двери на балкон, было недостаточно, чтобы рассеять этот призрак. Видение не было постоянным, но прерывалось, точно глаза Джиорджио все время мигали, хотя на самом деле они оставались совершенно спокойными.
В окружавшей тишине послышался шорох червяка, точившего дерево, и этого незначительного факта было достаточно, чтобы моментально разрядить сильное напряжение нервов, как от укола иголкой опустошается надутый пузырь.
Все подробности ужасного дня встали в его памяти: неожиданное известие, привезенное в Торретте ди Сарса около трех часов дня запыхавшимся посланным, который плакал и заговаривался от волнения; возвращение домой верхом с быстротой молнии под палящими лучами солнца по накаленным склонам гор; внезапные приступы слабости, заставлявшие его качаться в седле; дом, оглашенный рыданиями и хлопаньем дверьми от сильного ветра; шум в артериях и наконец его бурное появление в комнате, вид мертвого тела, раздувавшиеся с шумом занавески, звон лампадки на стене.
Событие произошло 4 августа утром без всяких подозрительных приготовлений. Самоубийца не оставил после себя никаких писем, даже племяннику. Завещание, по которому он делал своим единственным наследником Джиорджио Ауриспа, было написано задолго до самоубийства. Было вполне ясно, что Димитрий постарался скрыть причины своего решения и уничтожить все поводы для предположений, а также следы поступков, предшествовавших конечному поступку. Все в его комнатах было найдено в наиполнейшем порядке. Никаких бумаг не валялось на письменном столе; все книги стояли в шкафах. На столике у кровати лежал открытый ящик с пистолетами и больше ничего.
«Почему он лишил себя жизни? – Этот вопрос в тысячный раз возникал в уме Джиорджио. – Не было ли у него какой-нибудь тайны, которая терзала его сердце? Или, может быть, чрезмерное развитие его умственных способностей делало жизнь невыносимой? Он носил в себе свою судьбу, как я ношу ее в себе».
Джиорджио взглянул на маленькую серебряную лампадку, висевшую на стене у изголовья кровати. Этот изящный предмет работы старинного золотых дел мастера в Гуардиагреле – Андреа Галлучи был воспоминанием от матери Димитрия, чем-то вроде наследственной драгоценности. Он любил эмблемы религии, духовную музыку, запах ладана, распятия, гимны латинской церкви. Он был мистик, аскет, пылкий созерцатель внутренней жизни, но он не верил в Бога.
Джиорджио поглядел на ящик с оружием. Одна мысль, таившаяся в глубине его души, мелькнула перед ним с быстротой молнии. «Одним из этих, этим самым, я покончу с собой на этой же кровати». Недавно улегшееся возбуждение снова охватило его; корни волос опять приобрели чувствительность. Он ясно и отчетливо вспомнил, как он дрожал в тот ужасный день, когда захотел собственными руками поднять черную шаль с лица умершего, и сквозь повязку ему почудилась ужасная огнестрельная рана, образовавшаяся от удара свинцовой пули о кости черепа, о нежный и чистый лоб Димитрия. В действительности же Джиорджио видел только часть носа, рот и подбородок. Повязка в несколько рядов покрывала все остальное, вероятно, глаза выскочили из орбит. Но рот остался нетронутым, редкая и красивая борода оставляла его открытым, и на бледные, безжизненные губы, улыбавшиеся при жизни такой мягкой улыбкой, смерть наложила отпечаток неземного спокойствия, составлявшего резкий контраст с безобразной окровавленной частью лица, скрытой под повязкой.
Этот образ неизгладимо запечатлелся в душе наследника и по прошествии пяти лет сохранился в ней с такой же ясностью, как прежде, под влиянием роковой силы.
При мысли, что он ляжет на ту же кровать и покончит с собой тем же оружием, Джиорджио Ауриспа не волновался, как при внезапном решении, но испытывал какое-то неопределенное чувство, точно он давно знал, но не вполне ясно сознавал что-то такое, что стало теперь вполне ясным и должно было неминуемо совершиться. Он открыл ящик и стал разглядывать пистолеты.
Это было изящное дуэльное оружие с гранеными стволами, не особенно длинное, старинной английской работы, с очень удобными ручками. Оно покоилось на светло-зеленом сукне, немного потертом по краям. Необходимые принадлежности лежали тут же. Оружие было большого калибра, и крупные пули, направленные умелой рукой, должны были иметь вполне решительное действие.
Джиорджио взял один из пистолетов и взвесил его на ладони руки. «Через пять минут я мог бы уже быть мертвым. Димитрий указал место, где я должен буду лечь». Игра воображения показала ему его самого, лежащего на одеяле. Но этот червяк, этот червяк! Джиорджио ясно слышал, как он подтачивал дерево, и это приводило его в ужас. Он заметил, что эта отвратительная работа происходила в дереве кровати, и понял горькое чувство человека, который слышит перед смертью, как червь точит под ним дерево. Представляя себе мысленно, как он нажмет курок, Джиорджио почувствовал ужасную тоску и отвращение к этому поступку. Убедившись в том, что он может отложить свое намерение и не лишать себя жизни теперь же, он искренно вздохнул от облегчения. Тысячи невидимых нитей связывали его еще с жизнью. Ипполита!
Он порывисто вышел на балкон, на яркий свет. Широкая, голубая и таинственная даль расстилалась перед его глазами. Солнце наклонялось над горной массой, обливая ее мягким золотым светом, точно над возлюбленной, которая ожидала его, лежа, а очертания Маиеллы, облитой жидким золотом, округлились на фоне неба, подобно контурам налитой груди.







