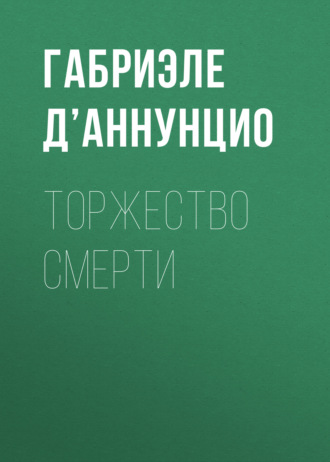
Габриэле д’Аннунцио
Торжество смерти
Да здравствует Мария!
И опять до его слуха донеслись звуки гимна, и слева показался дом Божьей Матери в кишащей массе народа – красное здание, залитое огненными лучами, высящееся над мирскими холщевыми навесами и сияющее чудовищной силой.
Да здравствует Мария!
Мария да здравствует!
Звуки затихли, и церковь исчезла за поворотом дороги. Внезапно свежее дыхание пробежало по волнующимся нивам, и широкая голубая полоса появилась на горизонте.
– Вот и море! Вот и море! – воскликнул Джиорджио таким голосом, точно они были спасены от опасности.
И сердце наполнилось радостью.
– Ободрись, дорогая! Погляди на море!
V. Tempus destruendi
1
Стол был накрыт на террасе. Светлый фарфор, голубой хрусталь и красные цветы гвоздики придавали ему веселый вид. Стоячая лампа освещала террасу золотистым светом, привлекая ночных бабочек, летавших в прохладе летнего вечера.
– Погляди, погляди, Джиорджио! Это настоящая адская бабочка, у нее глаза, как у демона. Видишь, как они блестят?
Ипполита указывала на одну бабочку странного вида, крупнее всех остальных, покрытую густым рыжим пушком, с глазами навыкат, сверкавшими на свету, как два рубина.
– Она сядет сейчас на тебя! Она сядет сейчас на тебя! Спасайся!
Она весело смеялась над инстинктивным беспокойством, которое Джиорджио не умел скрыть, когда бабочка касалась его крыльями.
– Мне хочется непременно поймать ее! – воскликнула она детски капризным тоном, стараясь схватить адскую бабочку, порхавшую вокруг лампы.
Но ее усилия были тщетны. Она опрокинула стакан, рассылала фрукты на скатерти и чуть не разбила абажур у лампы.
– Старайся, старайся, – сказал Джиорджио, подзадоривая ее. – Все равно тебе не удастся поймать ее.
– Нет удастся, – ответила упрямица, глядя ему в глаза. – Хочешь держать пари?
– На что?
– На что хочешь.
– Хорошо: a discretion?
– A discretion.
Мягкий свет лампы освещал ее богатый и теплый румянец, идеальный румянец, «состоящий из бледного янтаря, матового золота и начавшей отцветать розы», в котором, по мнению Джиорджио, заключалась вся загадочная красота венецианки, переселившейся в прекрасное королевство Кипра.
В волосах Ипполиты был приколот красный цветок гвоздики, яркий, как страстное желание. Ее оттененные ресницами глаза блестели, как озера, окруженные плакучими ивами в часы сумерек.
В таком виде Ипполита была обворожительна и являлась нежным и сильным предметом наслаждения, страстным и великолепным животным, предназначенным для того, чтобы украшать обеденный стол или постель и вызывать двусмысленные картины эстетического сладострастия. Животный элемент выступал резче в этом освещении: она была весела, резва, гибка, стройна и жестока.
«Как она меняется у меня на глазах, – думал Джиорджио, глядя на нее с острым любопытством. – Мое желание и ум рисуют ее облик. В таком виде, как она постоянно представляется мне, она только продукт моего неусыпного воображения. Она вообще существует только во мне самом, а внешность ее изменчива, как сон больного человека. Gravis dum suavis. Когда я дал ей этой прозвище? – Он не мог хорошенько припомнить, когда дал ей это идеально благородное прозвище, целуя ее в лоб. Подобное экзальтированное состояние казалось ему теперь немыслимым. Он смутно припоминал некоторые сказанные ею слова, и ему казалось, что они выражали глубокий ум. – Кто говорил в ней тогда, как не мой ум? Я гордился тем, что доставил своей печальной душе созерцание этих выразительных губ, которые могут так редкостно красиво изливать свою печаль».
Он взглянул на ее губы. Они были довольно грациозно сжаты вследствие напряженного внимания Ипполиты, старавшейся воспользоваться удачным моментом, чтобы поймать ночную бабочку.
Она действовала теперь крайне осторожно и хитро, желая быстрым жестом зажать в руке крылатую добычу, неустанно кружившуюся вокруг лампы. Ипполита хмурила брови и напрягалась, как лук, чтобы быть готовой броситься на бабочку. Она бросалась уже два или три раза, но все было бесполезно. Бабочка не давалась ей в руки.
– Сдавайся, – сказал Джиорджио, – я буду умерен в требованиях.
– Нет.
– Сдавайся.
– Нет. Плохо тебе будет, если я поймаю ее.
И она с дрожащим терпением продолжала охоту.
– Она улетела! – воскликнул Джиорджио, потеряв из виду воздушную поклонницу пламени. – Она спаслась.
Ипполита выпрямилась с искренней досадой, желая во что бы то ни стало выиграть пари, и стала внимательным взглядом искать беглянку.
– Вот она! – воскликнула Ипполита торжествующим тоном. – Вот она на стене! Видишь?
Но она сейчас же спохватилась и понизила голос.
– Не шевелись, – прошептала она, обращаясь к другу.
Бабочка неподвижно сидела на освещенной стене, напоминая маленькое темное пятно. Ипполита в высшей степени осторожно подкрадывалась к ней, и тень от ее стройного гибкого тела вырисовывалась на белой стене. Ее рука поднялась и быстрым движением схватила бабочку.
– Готова! Она у меня в кулаке.
Ею овладела детская веселость.
– А что я теперь сделаю с тобой? Я посажу ее тебе за воротник. Ты теперь тоже в моей власти.
Она делала вид, что собирается привести свою угрозу в исполнение, как в тот день, когда они бежали вниз по холму.
Джиорджио смеялся; ее веселость пробуждала в нем остатки молодости.
– Ну, сядь теперь, – попросил он, – и ешь спокойно свои фрукты.
– Подожди, подожди.
– Что ты хочешь сделать?
– Подожди.
Она вынула из волос шпильку, которой был приколот цветок гвоздики, и зажала ее между губами. Затем она тихонько открыла кулак, взяла бабочку за крылья и приготовилась проткнуть ее.
– Какая жестокость! – воскликнул Джиорджио. – Как ты жестока!
Она улыбнулась, продолжая делать свое дело, а маленькая жертва хлопала ослабевшими крыльями.
– Как ты жестока! – повторил Джиорджио более тихим, но более глубоким тоном, замечая на лице Ипполиты смешанное выражение удовольствия и отвращения. По-видимому, ей нравилось колоть и искусственно возбуждать свою чувствительность.
Джиорджио казалось, что она уже прежде несколько раз проявляла болезненную склонность к подобному раздражению своей чувствительности. Агония ребенка на гумне, слезы и кровь богомольцев в церкви вызывали в ней не только чувство чистого сострадания. Он помнил так же, как она ускоряла шаги в сторону группы любопытных, наклонившихся над парапетом в Пинчио, и хотела непременно увидеть следы крови самоубийцы на тротуаре.
«Жестокость кроется в основе ее любви, – подумал он. – В ней есть какая-то разрушительная сила, которая проявляется тем резче, чем сильнее ее охватывает порыв страсти». Несколько раз ее лицо напоминало ему голову Медузы, когда он лежал бессильный после порыва страсти или не помня себя в пылу любви и глядел на нее полуоткрытыми глазами.
– Погляди! – сказала она, показывая ему проткнутую бабочку, которая еще шевелила крыльями. – Погляди, как блестят ее глаза.
И она вертела бабочку на все лады перед лампой, точно это был драгоценный камень, который она заставляла играть.
– Это красивая брошь! – добавила она и легким движением воткнула ее себе в волосы. – А ты все думаешь, думаешь и думаешь, – продолжала она, пристально глядя Джиорджио в глаза. – Но о чем же ты думаешь? Прежде ты говорил, по крайней мере, и, может быть, даже слишком много. А теперь ты все молчишь с таинственным видом заговорщика… Ты имеешь что-нибудь против меня? Говори, если даже ты будешь причинять мне этим горе.
Ее голос вдруг изменился – в нем звучали нетерпение и упрек. Она заметила опять, что ее друг был не только вдумчивым и одиноким зрителем, но и внимательным и, может быть, враждебным наблюдателем.
– Говори же! Лучше прежние дурные слова, чем это загадочное молчание. Что с тобой? Ты недоволен своим пребыванием здесь? Ты несчастен? Мое постоянное присутствие утомляет тебя? Ты обманулся во мне?
Это неожиданное нападение рассердило его, но он сдержал свой гнев и даже постарался улыбнуться.
– Почему ты ставишь мне эти странные вопросы? – сказал он спокойным тоном. – Разве тебе надоедает видеть меня постоянно в раздумье? Я как всегда думаю о тебе и о том, что касается тебя.
И из боязни, что она почувствует тень иронии в его словах, он сейчас же добавил с нежной улыбкой:
– Ты обогащаешь мой ум. Моя внутренняя жизнь так полна в твоем присутствии, что мне неприятно слышать звук собственного голоса.
Эти неестественные слова, ставившие ее на высокий пьедестал духовного творчества и делавшие создательницей возвышенной жизни, успокоили Ипполиту. Лицо ее приняло серьезное выражение, а ночная бабочка в ее волосах с непрерывной быстротой продолжала хлопать крылышками.
– Оставь меня молчать без всяких подозрений, – продолжал он, понимая перемену, уже совершенную его искусственными словами в женской душе, которую ослепляла и экзальтировала идеальная любовь. – Оставь меня молчать. Разве ты хочешь, чтобы я говорил, когда ты видишь, что я умираю под твоими излюбленными ласками? Знай же, что не только твои губы вызывают во мне ощущения, которые превосходят все границы. Ты сама постоянно вызываешь во мне и порывы чувства, и порывы мысли. Ты совершенно не в состоянии представить себе, какой вихрь поднимает в моем мозгу какая-нибудь одна твоя поза и какие видения вызывает во мне самый незначительный из твоих жестов. Когда ты движешься и говоришь, я присутствую при целом ряде чудесных явлений. Иногда ты как бы возбуждаешь во мне воспоминание о жизни, которой я никогда не жил. Глубокий мрак внезапно освещается, и я сохраняю о нем воспоминание, как о неожиданной победе. Что представляют для меня тогда хлеб, вино, фрукты, все эти материальные предметы, которые действуют на мои чувства? Какое значение имеют тогда самые отправления моих органов, внешние проявления моего физического существования? Мне без малого кажется, что когда я говорю, звук моего голоса не долетает до той глубины, в которой я живу. Мне чудится, что я должен оставаться неподвижным и немым, чтобы не разрушать своих видений, когда ты проходишь, постоянно преображаясь, через миры, которые ты сама открыла…
Он говорил медленно, не отрывая глаз от Ипполиты, словно на него действовало магически ее необычайно светящееся лицо, обрамленное темными волосами, казавшимися еще темнее во мраке ночи, и среди них умирающее создание, не перестававшее хлопать крылышками. Ее лицо, которое было так близко и в то же время неосязаемо, разбросанные на столе предметы, ярко-красные цветы на высоких стебельках, легкие крылатые создания, кружившиеся вокруг источника света, величественная тишина и спокойствие звезд, музыкальное дыхание моря, одним словом, все его впечатления казались ему сном. Его собственное «я» и собственный голос были нереальны. Смена мыслей и слов происходила в нем каким-то легким и непонятным образом. Как в лунную ночь при виде сверхъестественного виноградника, так и теперь сущность его жизни и жизни всех предметов была окутана дымкой сна.
2
Джиорджио, еще полураздетый после купания, глядел из палатки, разбитой на берегу моря, на Ипполиту, закутанную в белый купальный халат и оставшуюся постоять на берегу моря на самом солнцепеке. Время от времени глаза Джиорджио почти болезненно щурились. Яркий полуденный свет вызывал в нем новое смешанное чувство физического недомогания и какого-то непонятного страха. Это были самые ужасные часы дня, – часы яркого света и полной тишины, говорившие о пустоте жизни. Джиорджио понимал языческое суеверие – священный страх перед летней полуденной жарой на берегу моря, обитаемом коварным и тайным богом. В основе этого неясного страха лежало что-то похожее на тревожное ожидание неожиданного и внезапного видения. Он казался себе самому по-детски слабым и дрожащим, словно совсем упал духом после какой-то неудавшейся попытки. Погружаясь в морские волны, подставляя лоб ярким лучам солнца, проплывая короткое расстояние, упражняясь в своем любимом занятии, он чувствовал явные признаки упадка сил, начинающегося отцвета молодости – разрушительной работы-неприятельницы; он чувствовал, что железный круг еще более сжался вокруг его жизнеспособности и отнял еще одну зону для инертности и бессилия. И чем больше он глядел на женскую фигуру, залитую светом солнца, тем глубже становилось это чувство мускульной слабости.
Ипполита распустила по плечам волосы, чтобы дать им обсохнуть. Склеенные водой прядки были так темны, что отливали лиловым оттенком. Ее стройное тело, закутанное в халат, вырисовывалось наполовину на серо-зеленом фоне неба и наполовину на голубом небосклоне. Профиль ее наклоненного лица еле виднелся из-под распущенных волос. Она была занята своей любимой забавой: ставила голые ноги на раскаленные камни и держала их так, пока возможно было терпеть жар, а затем погружала их в тепловатую воду, ласкавшую каменистый берег. Это двойное ощущение, казалось, доставляло ей бесконечное удовольствие, доходившее до самозабвения. Она укреплялась и закалялась в общении со здоровыми и свободными вещами, пропитываясь морской солью и солнечными лучами. Как могла она быть одновременно такой больной и такой крепкой? Как могло столько противоречий уживаться в ее существе и как могла ее внешность столько раз меняться в один день, в один час? Угрюмая и печальная женщина с ужасной болезнью; жадная на ласки любовница, страстный и судорожный пыл которой иногда напоминал предсмертную агонию и внушал Джиорджио страх, – это самое создание стояло на берегу моря и могло воспринимать своими органами чувств естественную прелесть окружающего мира, напоминая древнюю красавицу, наклонившуюся над гармоничным зеркалом воды.
Физическое превосходство Ипполиты было очевидно для Джиорджио и не только причиняло ему огорчение, но и вызывало в нем зависть. К ощущению слабости примешивалась ненависть, а ум его работал все энергичнее и склонялся к мести.
Голые ноги Ипполиты, которые она то грела на камнях, то освежала в воде, не были красивы; пальцы ног были даже искривлены, и вообще это были плебейские ноги, носившие явный отпечаток неблагородной расы. Джиорджио внимательно глядел на них с крайней проницательностью, точно подробности их формы должны были открыть ему какой-то секрет. «Сколько нечистых элементов кроется в ее крови! – думал он. – Она унаследовала все неразрушимые инстинкты своей расы, способные развиваться, несмотря ни на какие препятствия. Я не в состоянии очистить ее. Я могу только противопоставить ее реальной личности меняющиеся фигуры моих мечтаний, а она может только доставлять для моего одинокого опьянения свои необходимые для этого органы». Но в то время как он мысленно низводил женщину на ступень простого повода для игры воображения и не признавал никакой ценности за ее осязаемыми формами, он чувствовал, что связан именно с реальными качествами ее тела – не только с тем, что в ней было наиболее красивого, но и с тем, что в ней было наименее красивого. Открытие какой-нибудь уродливой черты ее лица не ослабляло связи между ними и не уменьшало силы ее обаяния. Самые грубые черты ее лица действовали на Джиорджио особенно привлекательно. Он прекрасно знал это явление, повторявшееся много раз. Его глаза с поразительной ясностью уже много раз замечали во внешности Ипполиты наименее заметные недостатки, и долгое время были не в состоянии оторваться от них, словно какая-то сила побуждала их разглядывать и преувеличивать эти недостатки. Это вызывало в Джиорджио какое-то непонятное волнение, за которым следовало сейчас же страстное чувственное желание. Это-то и послужило главным доказательством глубокого физического влияния одного человеческого существа на другое. Под подобным влиянием находился тот любовник без имени, которому больше всего нравились в его возлюбленной следы времени на ее бледной шее, прядка седых волос, становившаяся с каждым днем все шире, и выцветшие губы, мокрые от соленых слез, делавших впечатления от поцелуев более продолжительными.
Джиорджио стал думать о течении времени, о цепи, которая становилась все крепче от привычки, о неизмеримо печальной любви, обращавшейся в усталый порок. Он видел себя мысленно в будущем привязанным к телу Ипполиты, как каторжник к тачке, лишенным воли и мыслительной способности, отупевшим и пустым; сожительница его должна была состариться, отцвести, отдаться без сопротивления медленному действию времени, выпустить из ослабевших рук разорванную завесу иллюзий, но, несмотря на все это, сохранить свое роковое влияние на него; а дом его должен был опустеть и в безмолвном отчаянии ожидать последней посетительницы – смерти…
– Почему ты не постоишь на солнце? – спросила вдруг Ипполита, оборачиваясь к Джиорджио. – Видишь, как долго я выдерживаю жару? Я хочу действительно стать такой, как ты говоришь: как оливки. Как ты думаешь, я буду нравиться тебе тогда?
Она подходила к палатке, приподнимая рукой края своего широкого халата; движения ее стали мягкими и медленными, точно ее охватила неожиданная слабость.
– Я буду нравиться тебе?
Она немного наклонилась и вошла в палатку. Под многочисленными белоснежными складками халата ее худое тело изгибалось с кошачьей грацией, испуская теплоту и запах, которые показались Джиорджио в его взволнованном состоянии необычайно сильными. Ипполита стала усаживаться на циновке рядом с ним. Мокрые волосы падали на ее разгоряченное лицо с блестящими зрачками глаз и красными губами, напоминавшими плод среди ветвей дерева.
– Хочешь меня такую… как оливки?
В ее голосе, улыбке, на ее лице была какая-то необычайно таинственная и обворожительная тень. Казалось, что она поняла скрытую враждебность в Джиорджио и решилась во что бы то ни стало восторжествовать над нею.
– На что ты смотришь? – вдруг сказала она, вздрагивая. – Нет, нет, не гляди, они некрасивы.
Она подобрала ноги и спрятала их в складках халата.
– Нет, нет, я не хочу.
На минуту ей стало стыдно и неприятно, и она нахмурилась, точно заметила во взгляде Джиорджио искру жестокой правды.
– Гадкий! – сказала она полушутливым, полусердитым тоном после минутного молчания.
– Ты знаешь, что для меня ты вся красива, – ответил Джиорджио немного сдавленным голосом, притягивая ее к себе и желая поцеловать.
– Нет, подожди, не гляди!
Она отодвинулась от него и, скользнув в угол палатки, стала быстрыми движениями, точно украдкой, натягивать на ноги длинные черные шелковые чулки. Затем она повернулась к нему безо всякой стыдливости. На губах ее играла еле заметная улыбка. Вытянув по очереди под его взглядом обе ноги, казавшиеся очень красивыми в блестящих натянутых чулках, она прикрепила подвязки сперва над одним, потом над другим коленом. В ее манерах было что-то сознательно вызывающее, а в улыбке проглядывала легкая ирония. В глазах Джиорджио это немое и ужасное красноречие приобретало вполне определенное значение.
– Я всегда вызываю в тебе желание. Ты познал на моем теле все наслаждение, которого жаждет твое бесконечное желание, и я всегда буду окутана обманом, который производит без конца твое желание. Что мне до твоей проницательности, когда я могу в одну секунду снова соткать завесу, которую ты разорвал, и одеть тебе на глаза повязку, которую ты снял? Я сильнее твоего ума. Я знаю слова и жесты, которые преображают мой облик в тебе. Запах моей кожи может разрушить в тебе целый мир.
И действительно целый мир разрушился в нем, когда она приблизилась к нему со змеиным и вкрадчивым видом и улеглась рядом с ним на тростниковой циновке. Действительность опять обращалась в сказку, полную блестящих образов. Отблеск моря наполнял палатку дрожащим золотом и золотил тысячу маленьких волосков на ткани халата. В отверстии палатки виднелась величественно-спокойная водяная ширь, залитая ярким, почти зловещим солнечным светом. Но скоро и эти явления исчезли. Джиорджио слышал в тишине только биение крови в своем теле и видел только огромные глаза, устремленные на него с каким-то безумием. Ипполита окутывала его своим прикосновением, как облаком, и он вдыхал морской запах из всех пор ее тела. В ее мокрых густых волосах он нашел тайну самых отдаленных лесов из водорослей. И когда он окончательно потерял сознание, ему почудилось, что он летит в глубокую пропасть и ударяется затылком о скалу…
Позже он услышал точно издалека среди шелеста платья голос Ипполиты:
– Хочешь полежать еще здесь? Ты спишь? Он открыл глаза и прошептал в полусне:
– Нет, не сплю.
– Что с тобой?
– Я умираю.
Он постарался улыбнуться. Она тоже улыбалась, и ее зубы сверкали белизной.
– Хочешь, чтобы я помогла тебе одеться?
– Я сейчас сам оденусь. Ступай, ступай… Я сейчас же догоню тебя, – прошептал он, еще не вполне придя в себя.
– Так я пойду наверх. Я очень голодна. Одевайся и приходи.
– Да, хорошо.
Он сильно вздрогнул, почувствовав ее губы на своих губах, опять открыл глаза и постарался улыбнуться.
– Сжалься надо мной!
Он слышал скрип ее удаляющихся по песку шагов. Глубокая тишина воцарилась опять на берегу. Изредка с ближайших скал доносился слабый шум, похожий на чавканье животных, утоляющих жажду.
Прошло несколько минут. Джиорджио боролся с изнеможением, переходившим в летаргическое состояние. Он сделал над собой усилие и, вскочив с циновки и тряхнув головой, чтобы рассеять туман, неясным взором огляделся кругом. Он испытывал какое-то чувство пустоты, был не в состоянии привести свои мысли в порядок и почти не мог думать или действовать без страшного усилия. Он выглянул из палатки, и при виде яркого света его опять охватило чувство ужаса. «О, если бы я мог лечь опять и больше не вставать! Умереть! Больше никогда не видеть ее!» На него крайне тяжело действовала уверенность, что он опять увидит эту женщину через несколько минут, встретится с ней, будет получать от нее поцелуи и слышать ее голос.
Он не сразу стал одеваться. Безумные мысли мелькали в его усталом мозгу. Он машинально оделся и вышел из палатки, щуря глаза от яркого света. Красный свет почудился ему сквозь опущенные веки, и у него закружилась голова.
Внезапно в окружающей тишине и духоте до слуха Джиорджио донесся голос женщины, звавшей его сверху из обители.
Он вздрогнул и обернулся. Ему казалось, что он задохнется. Голос звонко и громко повторил его имя, точно хотел подчеркнуть свою власть.
– Иди!
Когда Джиорджио поднимался на гору, из окутанного дымом отверстия туннеля послышался грохот, отдававшийся эхом у самого мыса. Джиорджио остановился у рельс. Голова у него опять слегка закружилась, а в пустом мозгу мелькнула безумная мысль: «Лечь поперек рельсов… В одну секунду наступит конец всему!»
Быстрый и зловещий поезд с шумом промчался мимо него, обдав его ветром, и со свистом и грохотом исчез в отверстии противоположного туннеля, оставив позади себя черный дым.
3
Время жатвы подходило к концу. Проходя мимо сжатых полей, Джиорджио любовался красивыми обрядами, напоминавшими старую земледельческую литургию. Однажды он остановился у сжатого поля, где жнецы связали последний сноп, и с любопытством глядел на церемонию.
Дневная жара уступала место ясным и прозрачным часам, которые должны были собрать в свою хрустальную атмосферу неосязаемый пепел умирающего дня. Поле имело форму параллелограмма и было окружено огромными оливковыми деревьями; сквозь листву ветвей виднелись таинственные голубые воды Адриатики. Высокие конусообразные скирды возвышались на поле в равных расстояниях друг от друга. Женщины воспевали в своих песнях эти великолепные богатства, собранные руками людей. В центре поля группа жнецов, окончивших работу, окружала своего старшого. Все это были худощавые крепкие люди, одетые в полотняные одежды. Их руки и голые ноги были искривлены тяжелой и утомительной работой. В руке каждого из них блестел серп такой формы, как луна в первой четверти. Время от времени они простым жестом свободной руки вытирали с лица пот, падавший на жниво, блестевшее под косыми лучами вечернего солнца.
Старший сделал тот же жест и, подняв руку для благословения, воскликнул на богатом и звучном местном наречии:
– Оставим поле во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Люди с серпами громким голосом ответили ему:
– Аминь.
Эта красивая картина не выходила из головы Джиорджио, когда он шел по тропинке домой в обитель во время чудного заката солнца, окруженный волнами звуков. «Религиозная радость жизни, – думал он, – глубокий культ матери-природы, вечной создательницы, радующейся обилию своих сил; страстное поклонение всем производительным и разрушительным силам; сильное и упорное развитие атлетического инстинкта борьбы, преобладания, властвования, гегемонии – вот что составляло непоколебимое основание, на котором держался греческий мир в период своего развития!
В каждом греке укоренилось гомерическое понимание жизни. Энергичный грек, подобно воинам, воспетым в звучных гекзаметрах и встречавшим „с одинаково радостным приветствием гром и лучи солнца“, встречал с „одинаково радостным приветствием“ и добро, и зло, стремясь только к тому, чтобы распространять свое влияние и проводить в жизнь свой инстинкт властолюбия. Грек умел относиться с искренней радостью и к ужасному происшествию, и к страданиям. Даже в заблуждении, в несчастье, в пытке он видел только торжество жизни. Страдания были для него стимулом жизни и действовали на него, как возбуждающие лекарства, ускоряющие и усиливающие отправления органов, от которых зависит сила человеческого существа. В глубине его трагического чувства не зарождалось стремление освободиться от всех ужасов и унижений, но, как понял Фридрих Ницше, стремление быть самому вечной радостью бытия, возвышающейся над всеми ужасами и унижениями: быть самому всеми радостями, не исключая даже разрушения. Единственным достойным греков философом был Гераклит Эфесский, который, подобно Сивилле, „говорил вдохновенными устами без улыбки, без украшений, без благоухания и пришел через два века, как всемогущий бог“. Идея эволюции, постоянной изменчивости вещей, бесконечных космических перемен – основная идея современной философии – блестит в его образном афоризме: „Никто никогда не попадал два раза в одно и то же течение. Даже все мимолетное не имеет повторения“. Рассматривая Вселенную, Гераклит видел, что она не находится в состоянии постоянной неподвижности, а что в ней происходит безостановочный процесс образования и преобразования, в котором нет ничего прочного, кроме огненной энергии, действующей по определенным законам.»
Джиорджио остановился на повороте тропинки, услыша чей-то звонкий приближавшийся голос. Узнав его, Джиорджио почувствовал неожиданный порыв радости. Это был голос Фаветты, молодой певуньи с ястребиными глазами – звучное сопрано, постоянно возбуждавшее в нем воспоминание о чудном майском утре, сиявшем над лабиринтом цветущего дрока, над пустынным золотым садом, где он вообразил, что он открыл тайну радости, не подозревая присутствия чужого синьора, скрытого за изгородью. Фаветта шла с высоко поднятой головой и вела за веревку корову. Они громко пела, широко раскрывая рот. Все ее лицо было освещено солнцем. Пение лилось из ее горла с хрустальной чистотой, как ключевой источник. Белоснежное животное покорно шло за ней, а подгрудок его и вымя, наполненное луговым молоком, качались при каждом ее шаге.
Увидя чужого, певунья остановилась и собралась было совсем прекратить пение.
– О, Фаветта! – воскликнул Джиорджио, подходя к ней с радостным видом, точно встречая в ней подругу счастливых времен. – Куда ты идешь?
Она покраснела при звуке своего имени и смущенно улыбнулась.
– Я веду корову домой, – сказала она.
Она сразу остановилась, и морда животного уперлась ей в спину. Ее развитый бюст возвышался между двумя высокими рогами коровы.
– Всегда-то ты поешь! – сказал Джиорджио, любуясь ею. – Всегда!
– Эх, синьор, – ответила она, улыбаясь, – если отнять у нас пение, то что же нам останется?
– Ты помнишь то утро, когда ты собирала цветы дрока?
– Цветы дрока для твоей молодой?
– Да. Ты помнишь это?
– Помню.
– Спой мне опять эту песню.
– Я не могу петь ее одна.
– Так спой мне другую.
– Так, сейчас, перед тобой? Мне стыдно. Я буду петь по дороге. Прощай, синьор.
– Прощай, Фаветта.
Она пошла дальше по тропинке, таща за собой спокойное животное. Пройдя несколько шагов, она всей мощью голоса запела песню, показываясь иногда в освещенных местах.
Необычайно яркий свет был разлит на берегу и по морю после заката солнца; огромная волна неосязаемого золота начиналась у западного края небосклона и необычайно медленно спускалась на берег. Адриатика делалась все сильнее и нежнее, окрашиваясь в нежный цвет первых ивовых листьев на молодых отпрысках. Только пурпурно-красные паруса нарушали гармонию рассеянного света.
«Это настоящий праздник! – думал Джиорджио, ослепленный красотой зрелища и чувствуя, что все окружающее проникнуто радостью жизни. – Где дышит то человеческое существо, для которого весь день от зари до заката составляет один сплошной праздник, освященный новой победой? Где живет победитель, увенчанный венком смеха, этим венком из смеющихся роз, о котором говорит Заратустра? Где живет сильный и тиранический победитель, свободный от ярма всякой фальшивой морали, уверенный в своей власти, убежденный в том, что сущность человека важнее всех окружающих ее деталей, решившийся возвыситься над добром и злом в силу своей энергичной воли, способный даже заставить жизнь сдержать свои обещания?»
Джиорджио Ауриспа вспомнил слова Заратустры: «Когда сердце ваше учащенно бьется и готово выскочить подобно реке, выходящей из берегов, которую благословляют и которой боятся прибрежные жители, – вот где источник вашей добродетели».
Сколько раз сердце Джиорджио учащенно билось? Сколько раз он чувствовал, что по всему его существу разливается волна энергии? Он припоминал далекие эпизоды, в которых ему являлся призрак подобного радостного чувства. И все его искусственные стремления к «вакхическому» идеалу и прогрессивной жизни выливались в слова ученика к учителю – творцу и разрушителю: «Правда, тысяча взглядов устремлены теперь на твою гору и на твой кедр. Горячее желание возникло и распространилось, и многие научились уже спрашивать: „Кто же Заратустра?“» И все те, в чьи души ты вливал свое пение и свой мед, все скрывшиеся, все одинокие и попарно одинокие, все внезапно спрашивают свое сердце, говоря: «Так Заратустра находится между живущими? Не стоит больше жить, все бесполезно, все напрасно, если не жить с Заратустрой.»
Чувствуя, что он погибает, Джиорджио опять призывал в своем смертельном изнеможении восхвалителя жизни. «Действительно, подобно юношескому смеху, звучащему из тысяч уст, ты, Заратустра, проникаешь во все катакомбы, смеясь над теми, которые бодрствуют по ночам у трупов и гремят связками зловещих ключей. Твой смех, о Заратустра, испугает и опрокинет их, как ветер. Их обморок и пробуждение будут доказательствами твоей власти. И в те часы, когда на нас спустятся долгие сумерки и смертельная усталость, ты не сойдешь с нашего горизонта, о Восхвалитель жизни! Ты открыл нам новые звезды и новые ночные красоты. Действительно, ты разлил над нашими головами смех, как разбивают пеструю палатку. Отныне юный смех будет раздаваться из всех гробов, торжествующий ветер будет рассеивать всякую смертельную усталость. Ты сам предвещаешь и обещаешь нам это!»







