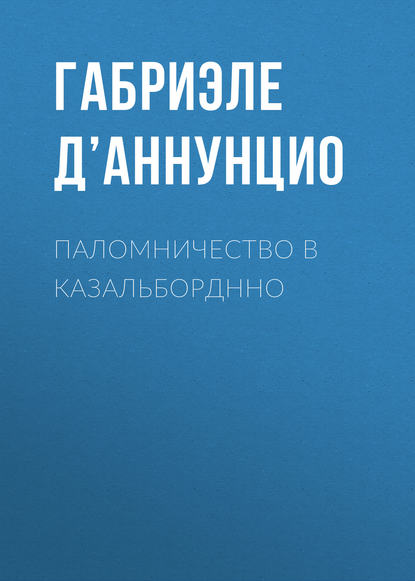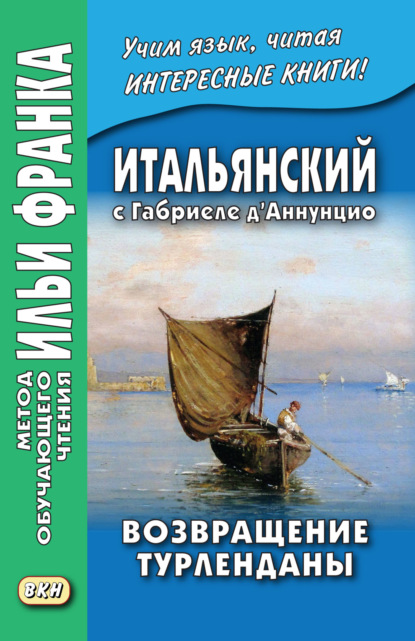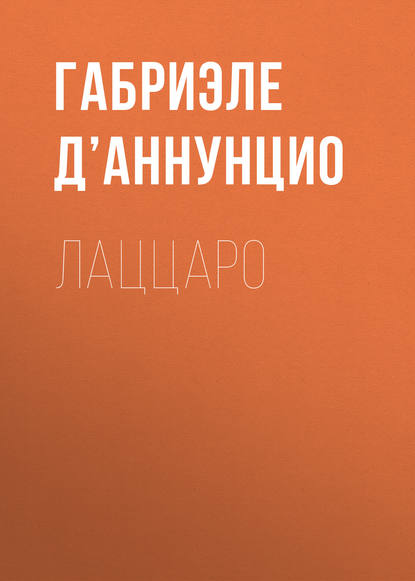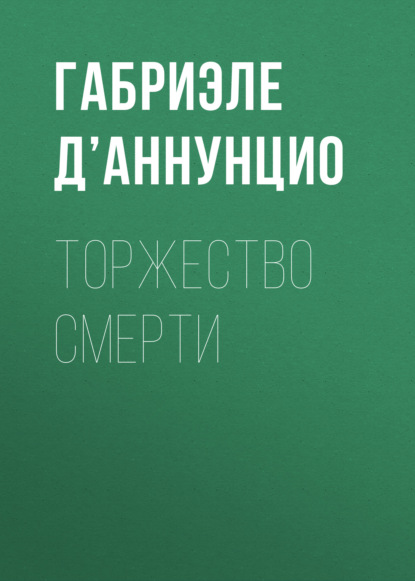 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Габриэле д’Аннунцио Торжество смерти
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Габриэле д’Аннунцио
Торжество смерти
I. Прошлое
Есть книги, которые для души и здоровья имеют обратное значение, смотря по тому, пользуется ли ими низкая душа, низменная жизненная сила или же возвышенная душа, мощная воля, – в первом случае они являются опасными, разрушающими, разъедающими книгами, во втором же – кликами герольдов, вызывающими храбрейших для проявления своей храбрости.
Фр. Ницше(По ту сторону добра и зла. Аф. XXX)1Увидя группу людей, перегнувшихся через парапет и глядевших на пролегавшую внизу улицу, Ипполита остановилась и воскликнула:
– Там что-то случилось!
Она слегка вздохнула от испуга и невольно положила свою руку на руку Джиорджио, точно хотела удержать его.
Джиорджио сказал, приглядываясь к жестам группы людей:
– Кто-то, по-видимому, бросился вниз. И добавил:
– Хочешь, вернемся назад?
Она секунду колебалась. В ней боролись страх и любопытство.
– Нет, пойдем дальше, – ответила она.
Они продолжали путь по крайней аллее, вдоль парапета. Ипполита невольно ускоряла шаги в сторону группы любопытных.
В послеобеденное время в мартовский день Пинчио был почти пуст. Редкий шум замирал в тяжелом, сыром воздухе.
– Так и есть, – сказал Джиорджио. – Кто-то лишил себя жизни.
Они остановились неподалеку от группы. Все эти люди пристально глядели вниз на тротуар. Это были все бедняки, без работы. На лицах их не отражалось ни сострадания, ни печали, и неподвижный взгляд придавал их глазам выражение животного отупения.
Какой-то долговязый юноша быстро подошел к группе, желая тоже поглядеть.
– Его уже нет, – ответил ему кто-то, прежде чем он успел наклониться над парапетом, и в голосе этого человека звучало смешанное чувство презрения и радостного торжества, точно ему доставляло удовольствие, что другие не могут более наслаждаться зрелищем. – Его уже нет, его унесли.
– Куда?
– В Санта Мария дель Пополо.
– Он умер?
Другой человек, худой и бледный, с широким шерстяным шарфом на шее, сильно перегнулся вперед и, вынимая трубку изо рта, громко спросил:
– Что там осталось от него?
Рот его был перекошен и оттянут в одну сторону, точно от ожога, и его передергивало, как будто он постоянно глотал вновь накоплявшуюся горькую слюну. Он говорил глухим, беззвучным голосом.
– Что там осталось от него?
Внизу на улице стоял, наклонившись у основания стены, какой-то разносчик. Публика затихла и неподвижно ожидала ответа. Внизу на камнях виднелось только черное пятно.
– Кровь, – ответил разносчик, продолжая стоять нагнувшись и роясь в пятне концом палки.
– А еще что? – спросил человек с трубкой. Разносчик выпрямился и поднял на кончике палки что-то, чего сверху нельзя было разглядеть.
– Волосы.
– Какого цвета?
– Светлого.
В запертом между двумя высокими стенами пространстве голоса звучали как-то странно.
– Джиорджио, пойдем! – попросила Ипполита взволнованным голосом, немного побледнев и оттягивая спутника, привлеченного отвратительной сценой и наклонившегося над парапетом вблизи группы людей.
Они молча отошли от трагического места. Болезненная мысль об этой смерти не покидала их и отражалась на их лицах.
Он сказал:
– Блаженны мертвые, потому что у них больше нет сомнений.
– Это правда, – ответила она.
Их слова звучали устало из-за тяжелого нравственного состояния. Она добавила, опустив голову, со смешанным чувством горечи и сожаления:
– Бедная любовь!
– Какая любовь? – рассеянно спросил Джиорджио.
– Наша.
– Ты, значит, чувствуешь, что ей приходит конец?
– Не с моей стороны.
– Так, может быть, с моей?
Плохо сдерживаемое раздражение делало его голос резким. Он повторил, глядя на нее:
– С моей стороны? Отвечай.
– Ты не отвечаешь? Ах, ты хорошо знаешь, что сказала бы неправду.
Она молчала и еще ниже опустила голову. Несколько минут оба с невыразимой тревогой старались читать в своей душе; затем он продолжал:
– Так начинается агония… Ты еще не замечаешь этого; я же со времени твоего возвращения постоянно наблюдаю за тобой и каждый день открываю в тебе новый признак…
– Какой признак?
– Дурной, Ипполита… Это ужасно – любить и постоянно сознавать это!
Женщина почти резко тряхнула головой и нахмурилась. Как уже часто случалось и прежде, они почувствовали враждебность друг к другу. Каждого оскорбляло несправедливое подозрение другого, и внутреннее возмущение переходило в глухое раздражение, выражавшееся в оскорбительных и непоправимых словах, тяжелых обвинениях и резких ответах. Их охватывало непреодолимое стремление мучить, колоть и терзать друг другу сердце.
Ипполита нахмурилась и замолчала, сдвинув брови и сжав губы, а Джиорджио с вызывающей улыбкой глядел на нее.
– Да, так начинается, – говорил он, продолжая ядовито улыбаться и пристально глядя на нее. – В глубине души ты чувствуешь беспокойство, какое-то смутное нетерпение, подавить которое ты не можешь. Когда ты находишься вблизи меня, ты чувствуешь, как в глубине твоей души поднимается что-то против меня – почти инстинктивное отвращение; тебе стоит невероятных усилий сказать мне слово, и ты плохо понимаешь, что я говорю тебе, и невольно даже в пустяшном ответе твой голос становится резким.
Она не прерывала его ни малейшим движением. Ее молчание оскорбляло его, и он продолжал говорить, побуждаемый не только низменным желанием мучить свою подругу, но и какой-то наклонностью все анализировать, наклонностью, ставшей более острой и утонченной благодаря его разностороннему образованию. Он старался придать своим словам определенность и ясность, взятые из книг психологов; но, как в монологах его ум искажал внутреннее состояние, над которым работал, так и в диалогах желание глубже анализировать часто затушевывало искренность его чувства и вводило его в заблуждение по поводу душевного состояния другого человека, которое он хотел исследовать. Его мозг, заваленный массой психологических наблюдений, приобретенных лично и от других психологов, часто смешивал и ошибался, анализируя душевное состояние его самого и других; поэтому его умозаключения нередко являлись искусственными и неверными.
– Не думай, что я упрекаю тебя, – продолжал он. – Ты не виновата. Каждая человеческая душа содержит в себе некоторое количество чувствительности для израсходования на любовь. Это количество, естественно, тратится с течением времени, как все остальное. Когда оно исчерпано, никакие усилия не могут помешать прекращению любви. А ты уже давно любишь меня – уже почти два года. Второго апреля настанет вторая годовщина. Подумала ли ты об этом?
Она покачала головой. Он повторил, точно говорил сам с собою:
– Два года!
Они направились к скамейке и сели. Ипполита казалась сильно уставшей и даже разбитой. Тяжелая черная карета проехала по аллее, скрипя колесами по песку; из улицы Фламиния донеслись до них слабые звуки рожка, затем наступила тишина и закапал редкий дождь.
– Эта вторая годовщина будет печальной, – беспощадно продолжал Джиорджио. – Тем не менее, необходимо отпраздновать ее. Я люблю все горькое.
Страдания Ипполиты вылились в неожиданной улыбке.
– К чему все эти гадкие слова? – сказала она с необычайной мягкостью и взглянула Джиорджио в глаза долгим и глубоким взглядом. Оба снова с невыразимой тревогою старались анализировать свое душевное состояние. Ипполита прекрасно понимала, от какой ужасной болезни страдает ее друг и какова скрытая причина его резкости.
– Что с тобой? – добавила она, желая вызвать его на разговор и облегчить его страдания. Ее мягкий голос смутил Джиорджио. Он не ожидал этого. Видя по ее тону, что она понимает и жалеет его, он почувствовал сострадание к себе, и глубокое волнение заставило его сразу перемениться.
– Что с тобой? – повторила Ипполита, дотрагиваясь до его руки и желая таким образом увеличить силу своего влияния на него.
– Что со мной? – ответил он. – Я люблю.
Его слова потеряли всякую язвительность. Обнажая свою неисцелимую рану, он чувствовал к себе жалость. Смутное неприязненное чувство, возникшее в его душе по отношению к женщине, казалось, рассеялось. Он сознавал, что несправедливо обижать ее, подчиняясь роковой необходимости. В его несчастье было виновато не человеческое существо, а самая сущность жизни. Он должен был винить не возлюбленную, а любовь, к которой по натуре все его существо стремилось с непобедимой силой; любовь была наивысшей из всех земных горестей, и он был связан с нею, может быть, до самой смерти.
Он молчал в раздумье, и Ипполита спросила его:
– Ты, значит, думаешь, что я не люблю тебя, Джиорджио?
– Да, видишь ли, я думаю, что ты любишь меня, – ответил он. – Но можешь ли ты доказать мне, что завтра, через месяц, через год, одним словом, всегда ты будешь одинаково счастлива принадлежать мне? Можешь ли ты доказать мне, что ты моя целиком в этот момент? Что в тебе принадлежит мне?
– Все.
– Ничего или почти ничего. Мне не принадлежит то, что я хотел бы иметь. Я не знаю тебя. Как всякое человеческое существо, ты заключаешь в себе целый мир, непроницаемый для меня, и самая пылкая страсть не поможет мне проникнуть в него. Я знаю только маленькую долю твоих ощущений, мыслей и чувств. Слова служат несовершенным выражением внутреннего мира человека. Души невозможно передать, и ты не можешь дать мне свою душу. Даже в высшем опьянении чувств мы не сливаемся в одно, а остаемся всегда двумя отдельными, чужими существами, внутренне одинокими. Я целую тебя в лоб, а под ним, может быть, работает мысль, которая не принадлежит мне. Я говорю с тобой, и, может быть, какая-нибудь моя фраза возбуждает в твоем уме воспоминание из других времен, до начала моей любви. Какой-нибудь человек проходит и глядит на тебя, и в твоем уме происходит работа, которой я не могу заметить. Я не знаю также, сколько раз отражение твоей прежней жизни освещает настоящий момент… О, какой у меня безумный страх перед твоей прежней жизнью! Иногда, когда я нахожусь вблизи тебя, я целиком отдаюсь очарованию, ласкаю тебя, слушаю, говорю и отдаюсь тебе. И вдруг я леденею от одной мысли. Что, если я невольно возбуждаю в тебе воспоминания, призраки уже испытанных ощущений, печаль давно минувших дней? Я не могу выразить своих страданий. Возбуждение, дававшее мне иллюзию какого-то единения между нами, внезапно проходит. Ты удаляешься и ускользаешь от меня, становишься недоступной. Я остаюсь в ужасном одиночестве. Десяти, двадцати месяцев близких отношений как будто не существовало; ты являешься для меня чужой, как прежде, когда не любила меня. И я больше не ласкаю тебя, не говорю и ухожу в себя; я избегаю всякого внешнего проявления чувства и боюсь, чтобы малейший толчок не всколыхнул в глубине твоей души накопившихся в ней в безвозвратные прошлые времена горьких осадков. И тогда наступает долгое тягостное молчание, и наши духовные силы расходуются бесполезно и безжалостно. Я спрашиваю тебя: «О чем ты думаешь?» Ты отвечаешь мне: «О чем ты думаешь?» Я не знаю твоих мыслей, как ты не знаешь моих. Расщелина делается все глубже и переходит в пропасть. Глядеть в эту пропасть так страшно, что побуждаемый каким-то слепым инстинктом я бросаюсь на твое тело, сжимаю и душу тебя, горя нетерпением обладать тобой. Высшего наслаждения я не знаю, но какое наслаждение вознаградит за наступающее после него горькое чувство?
– Я не испытываю этого, – ответила Ипполита. – Я сильнее отдаюсь чувству, может быть, моя любовь сильнее.
Признание ею своего превосходства снова укололо больного.
– Ты слишком много думаешь и следишь за своими мыслями, – сказала Ипполита. – Они, может быть, привлекают тебя больше, чем я, потому что являются всегда новыми и разнообразными, тогда как я уже потеряла прелесть новизны. В первое время твоей любви ты был менее задумчив и более оживлен. Ты не успел еще полюбить все горькое, так как расточал больше поцелуев, чем слов. Раз ты сам говоришь, что речь не служит совершенным выражением мыслей, то не следует злоупотреблять ею, а ты злоупотребляешь, и даже жестоко.
Ей нравилась одна фраза; она не могла удержаться от желания произнести ее и добавила после минутного молчания:
– Анатомия предполагает существование трупа.
Но Ипполита раскаялась, как только произнесла эту фразу – она показалась ей грубой, неженственной и резкой. Ей стало жаль, что она не сохранила мягкого, снисходительного тона, только что смутившего Джиорджио. Она еще раз отступила от своего намерения быть для друга терпеливой и нежной целительницей.
– Видишь, ты портишь меня, – сказала она с сожалением в голосе.
Он еле улыбнулся. Оба понимали, что в этом споре они только оскорбляли любовь.
«Любит ли она меня еще? – думал Джиорджио. – И почему она так раздражительна? Может быть, она чувствует, что я говорю правду или то, что скоро станет правдой. Раздражительность – дурной признак. Но ведь и в глубине моей души тоже кроется эта глухая и постоянная раздражительность. Я знаю ее настоящую причину: я ревную Ипполиту. Но к чему? Ко всему, даже к тому, что отражается в ее глазах…»
Он взглянул на нее. «Она прекрасна сегодня. Она бледна. Я хотел бы видеть ее всегда печальной и больной. Когда она поправляется, то кажется мне другой женщиной. Когда же она смеется, я не могу отделаться от смутного враждебного чувства, чуть ли не злобы по отношению к ее смеху. Впрочем, не всегда».
Его мысли путались и на секунду остановились на аналогии между вечерней зарей и наслаждавшейся ею Ипполитой. Под бледной кожей ее лица разливалась легкая фиолетовая краска; на шее ее была подвязана нежная желтая ленточка, оставлявшая открытыми две черные родинки. «Как она прекрасна! Выражение ее лица почти всегда глубоко, вдумчиво и страстно. В этом и заключается секрет ее очарования. Ее красота никогда не надоедает мне и всегда заставляет меня мечтать. Из чего состоит ее красота? Я не могу объяснить себе этого. Физически Ипполита некрасива. Глядя на нее иногда, я испытываю глубокое разочарование. Черты ее лица являются тогда в моих глазах такими, как они есть в действительности, неизмененными и освещенными духовным выражением. Впрочем, у нее есть три божественных элемента красоты: лоб, глаза и рот».
Мучения, испытанные им за два года при мысли о жизни его любовницы среди незнакомых ему людей в те часы, которые она не могла проводить с ним, давили в этот момент его сердце. Что она делает? С кем видится? С кем говорит? Как она держит себя со знакомыми, среди которых живет? Но на эти вечные вопросы не было ответа.
«Каждый из этих людей отнимает у нее что-то, – думал страдалец, – и отнимает что-то и у меня. Я никогда не узнаю, каково было влияние этих людей на нее и какие мысли и чувства они возбуждали в ней. Она красива и очаровательна; этот род красоты волнует мужчин и возбуждает в них желание. Она возбуждала желание среди этой ужасной толпы, а оно проявляется у мужчин во взгляде; взгляд свободен, и женщина предоставлена ему. Что испытывает женщина, замечая, что она возбуждает желание? Она несомненно волнуется и испытывает какое-нибудь чувство, хотя бы отвращения, хотя бы неприязни. Итак, какой-то чужой человек может взволновать женщину, которая любит меня. Что же после этого остается на мою долю?»
Он сильно страдал, потому что его рассуждения освещались физическими образами.
«Я люблю Ипполиту любовью, которую считал бы вечной, если бы не знал, что каждая человеческая любовь приходит к концу. Я люблю ее и не могу представить себе высшего наслаждения, чем то, которое она дает мне. Тем не менее сколько раз при виде других женщин меня охватывало внезапное желание, и глаза женщины, виденные где-нибудь мимоходом, оставляли в моей душе мутный осадок печали. Сколько раз я думал при виде женщины, встреченной где-нибудь на улице или в гостиной, или о любовнице друга: какова ее манера любить? В чем состоит ее секрет любви? И в течение некоторого времени эта женщина волновала мое воображение без особенной интенсивности, но с медленным упорством и с некоторыми промежутками. Некоторые из этих образов даже внезапно вставали в моем уме, когда я ласкал Ипполиту. А почему бы у нее не могло явиться такое же желание при виде мужчины? Если бы у меня был дар ясновидения и я мог заглянуть ей в душу и обнаружить в ней подобное желание, хотя бы мимолетное, как молния, я несомненно счел бы свою любовницу навсегда запятнанной и думал бы, что умру от огорчения. Я никогда не получу этого материального доказательства, так как по воле природы душа моей любовницы невидима и неосязаема, несмотря на то что она подвержена внешнему влиянию гораздо больше, чем тело. Но аналогия освещает ее душевное состояние; не может быть сомнений относительно возможности появления в ней подобных чувств. Может быть, в этот самый момент она видит на своей душе недавнее пятно, и оно разрастается под ее взглядом».
Он сильно вздрогнул от боли. Ипполита спросила его мягким голосом:
– Что с тобой? О чем ты думал? Он ответил:
– О тебе.
– Как?
– Дурно.
Ипполита вздохнула и спросила: Хочешь – пойдем?
– Пойдем, – ответил он.
Они встали и направили шаги по той дороге, по которой пришли. Ипполита сказала тихо и со слезами в голосе:
– Какой печальный вечер, мой друг!
Она приостановилась, точно хотела вдохнуть в себя печальную атмосферу умирающего дня. Все было тихо кругом. Пинчио был совершенно пуст и окутан фиолетовой дымкой, в которой колокольни и статуи белели, как привидения. На город внизу спускался туман. Падали редкие капли дождя.
– Куда ты пойдешь сегодня вечером? – спросила она. – Что Ты будешь делать?
Он ответил в унынии:
– Я не знаю, что буду делать.
Мучаясь, будучи вместе, они с ужасом думали о хорошо известных им еще более тяжких страданиях, вскоре ожидавших их. Оба знали, как воображение будет ночью терзать их беззащитные души.
– Если хочешь, я приду к тебе сегодня ночью, – робко сказала Ипполита.
Глухое раздражение терзало душу Джиорджио, и побуждаемый непобедимым желанием мстить и быть злым, он ответил:
– Нет.
Но сердце говорило ему иное: «Ты не сможешь оставаться вдали от нее сегодня ночью, не сможешь, не сможешь», и, ясно сознавая невозможность этого, несмотря на слепое враждебное подзадоривание, он как бы вздрогнул внутренне, точно гордость его умирала, побежденная охватившей его сильной страстью. Он повторил про себя: «Я не смогу оставаться вдали от нее сегодня ночью, я не смогу этого», чувствуя, что какая-то посторонняя сила побеждает его. Жуткое ожидание чего-то трагического зародилось в его душе.
– Джиорджио! – испуганно воскликнула Ипполита, сжимая его руку.
Джиорджио вздрогнул. Он узнал место, где они останавливались поглядеть на пятно крови, оставленное самоубийцей внизу на тротуаре, и спросил:
– Ты боишься?
Она ответила, продолжая сжимать его руку:
– Немного.
Он отделился от нее и, подойдя к парапету, наклонился над ним. Мрак уже окутывал улицу внизу, но ему казалось, что он видит все-таки черноватое пятно, так как представление о нем ясно сохранилось в его памяти. Под влиянием впечатлений этого вечера призрак мертвого тела смутно встал в его уме: неясные очертания молодого тела с белокурой окровавленной головой. «Кто он? Почему он лишил себя жизни?» Он увидел себя самого мертвым в таком же положении. Несколько бессвязных мыслей быстро прорезали его ум. Он увидел, точно освещенного светом молнии, своего бедного дядю Димитрия, младшего брата отца, кровного родственника, – самоубийцу: лицо под черным покровом на белой подушке, длинная, бледная мужественная рука, на стене подвешенная на трех цепочках серебряная лампадка для святой воды, изредка качавшаяся с легким звоном при дуновении ветра. «А что, если я брошусь вниз? Небольшой прыжок вперед, быстрое падение, потеря сознания при прорезывании пространства!» Он представил себе удар тела о камень и вздрогнул. Но сейчас же все его тело охватило какое-то чувство отвращения, тягостное и в то же время странно-приятное. Воображение представило ему прелести предстоящей ночи – сладко уснуть и проснуться наутро с наплывом нежности, таинственным образом накопившейся во время сна. Мысли и образы сменялись в нем с поразительной быстротой.
Он обернулся и встретил устремленный на него взгляд Ипполиты; он понял, что выражали ее большие расширенные глаза, подошел к ней и ласковым обычным движением взял ее под руку. Она крепко прижалась к его руке. Оба почувствовали внезапную потребность прижаться друг к другу и в забвении слиться воедино.
– Запирают, запирают!
Крики сторожей нарушили тишину под деревьями.
– Запирают!
После этих криков тишина казалась еще более тягостной. Громкие крики сторожей произвели на обоих любовников неприятное впечатление. Они ускорили шаги с целью показать, что слышали крики и собирались уходить, но настойчивые голоса продолжали повторять в разных направлениях по пустынным аллеям:
– Запирают!
– Проклятие! – воскликнула Ипполита с досадою, нетерпеливо ускоряя шаги.
На колокольне Тринита де Монти прозвонили Angelus. Рим походил на огромное серое бесформенное облако, спустившееся на самую землю. Там и сям в ближайших домах внизу краснели окна, расплывшиеся в тумане. Падали редкие капли дождя.
– Ты придешь ко мне сегодня ночью, неправда ли? – спросил Джиорджио.
– Да, да, приду.
– Скоро?
– В одиннадцать.
– Если ты не придешь, я умру.
– Я приду.
Они взглянули друг другу в глаза и обменялись опьяняющим обещанием.
Он спросил, охваченный порывом нежности:
– Ты простишь меня?
Они снова поглядели друг на друга взглядом, полным бесконечной любви.
Тихим голосом он произнес:
– Ненаглядная! Она сказала:
– Прощай. Жди меня в одиннадцать.
– Прощай.
Они расстались на Грегорианской улице. Ипполита пошла вниз по улице Капо Ле-Казе. Джиорджио глядел, как она удалялась по мокрому тротуару, блестевшему при свете витрин. «Вот она оставляет меня, возвращается в незнакомый мне дом к своей обычной вульгарной жизни, сбрасывает идеальный покров, которым я окутываю ее, и становится другой, обыкновенной, женщиной. Я ничего больше не знаю о ней. Низменные нужды обыденной жизни охватывают, занимают и унижают ее. – Из цветочной лавки на него пахнуло фиалками, и в сердце его зародились неясные желания. – Ах, почему мы не можем устроить нашу жизнь соответственно нашим мечтам и жить всегда только друг для друга».
2Было десять часов утра, когда лакей пришел будить Джиорджио. Он спал крепким сном молодого человека, проведшего ночь, полную любви.
Он ответил лакею недовольным тоном, поворачиваясь на другой бок:
– Меня нет дома ни для кого. Оставьте меня в покое.
Но из соседней комнаты послышался голос назойливого посетителя.
– Извини, что я настаиваю, Джиорджио. Мне крайне необходимо поговорить с тобой.
Он узнал голос Альфонса Экзили, и дурное настроение его еще более ухудшилось.
Экзили был его товарищ по школе, человек с весьма ограниченными умственными способностями, разорившийся из-за карточной игры и пьянства и превратившийся в авантюриста в погоне за деньгами. Он мог казаться красивым, несмотря на то, что порок испортил его лицо, но в его манерах и во всей его внешности было что-то неблагородное и вкрадчивое, обнаруживающее человека, принужденного подвергаться постоянным унижениям и искать способа выпутаться из неловкого положения.
Он вошел, подождал, пока лакей вышел из комнаты, и, принимая довольно развязный вид, сказал, наполовину глотая слова:
– Извини, что я обращаюсь к тебе, Джиорджио. Мне необходимо уплатить карточный долг. Помоги мне. Сумма маленькая – всего триста лир. Извини, Джиорджио.
– Ты, значит, платишь карточные долги? – спросил Джиорджио, с полным равнодушием нанося ему оскорбление. Он не сумел окончательно порвать с ним сношения и при встрече относился к нему с необыкновенным презрением, пользуясь им, как палкой, которой отбиваются от гадкого животного. – Ты удивляешь меня.
Экзили улыбнулся.
– Полно, не будь гадким! – сказал он просительным тоном, как женщина. – Ты ведь дашь мне эти триста лир? Даю тебе слово, что завтра же верну их.
Джиорджио расхохотался и позвонил. Явился лакей.
– Отыщите связку маленьких ключей в моем платье там, на диване.
Лакей отыскал ключи.
– Откройте второй ящик стола и дайте мне большой бумажник.
Лакей подал ему бумажник.
– Ступайте.
Когда он вышел, Экзили спросил с полуробкой, полусдержанной улыбкой:
– Может быть, ты дашь мне четыреста лир?
– Нет. Получай, это последние. Теперь уходи. Джиорджио не подал ему денег, но положил их на краю постели. Экзили улыбнулся, взял деньги и, кладя их в карман, сказал тоном, в котором звучали лесть и ирония: