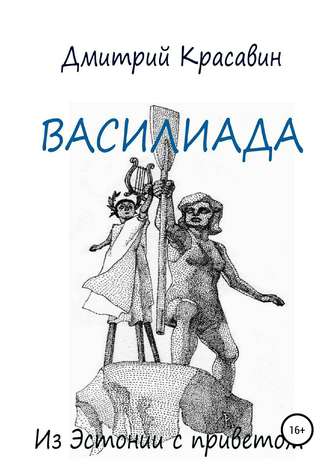
Дмитрий Красавин
Василиада
Медитация в пустом доме
В камине тлеют головешки.
Сползают тени вдоль портьер
и заползают вперемешку
с моими мыслями на дверь.
Сосредоточившись на двери,
я медитирую.
Мой бюст
летает в сумраке портьерном.
Дом одинок, и вечер пуст.
Ночь, улица, фонарь…
И фонарей, и улиц —
во как!
И две аптеки за углом!!!
А мне все так же одиноко,
как будто вновь
с тобой
вдвоем.
Со скуки
Прощайте утки, гуси, куры…
И ты прощай, любимый хряк.
Мне скучно.
Все соседки – дуры.
Я поднимаю красный стяг!
Пусть наш бычок слегка позлится.
Пусть помычит, грозя врагу.
Мне надоело здесь коптиться —
я с флагом в поле побегу.
Махну направо
и налево.
Вперед махну.
Махну назад.
Вставай, страна!
Пойдем на дело!!
Дрожи, презренный демократ!!!
Поражение
Мы в ссоре вновь.
Твои слова
полны бесплотных осуждений.
Они глупы…
Ты не права…
Я докажу…
Но голова
уже касается коленей
твоих безумно-стройных ног…
Я побежден…
Прости им Бог!
Труба
Труба красавца теплохода
ему верна лишь,
как раба.
В любых портах, в любых походах,
во дни торжеств и при невзгодах -
где теплоход – там и труба.
Он – белоснежен.
Она – в саже.
Он мчит вперед.
Она ревет
Мне как-то странно было даже —
что ж он ей шею не свернет?
Но, я подрос, окончил КВИМУ.[57]
От старых дум нет и следа.
Я знаю: тот красавец сильный
лишь потому, что с ним – труба!
Воспоминания
Воспоминания, воспоминания.
Лист пожелтелый лениво кружится.
Дождь барабанит по лысым камням
и пузырит на перроне лужицы.
Кем-то забытый дрожит черный песик —
шкура обвисла и лезет клочьями.
Жалобно поезд гудит, словно просит:
встать и обсохнуть от мокрой осени.
Строчка вагонов за городом тает,
мерно отстукивая расстояния.
Тихо дождинка с окошка стекает.
Воспоминания, воспоминания …
Полнолунье
Ночью странной,
ночью лунной,
выбив локтем витражи,
прыгну в сад.
Тропой пурпурной
убегу от сытой лжи.
Лунный свет,
скользя наклонно,
тронет влажный дым осин
и прольется вниз
со звоном,
теплым ветром уносим.
Простерев над садом крылья,
я вольюсь в его струи,
Лунным светом,
Лунной пылью
лягу в волосы твои,
отражусь в зрачках зеленых,
повторяясь в зеркалах,
ворох лет, бездумных, сонных,
обращу в безгласый прах.
Ты поднимешь руки-крылья,
отряхнешь вериги слов,
недоверия, бессилья, и. .
над кромкою лесов,
над бескрайним Океаном,
над заснувшею Землей
мы торжественно и плавно
полетим к звезде иной.
Мальчик хочет
Поезд мчался на Питер. В соседнем купе уже в сотый раз мальчик просился в Тамбов. Голова раскалывалась от выпитой с приятелями на перроне плохой водки, от спертого воздуха плацкартного вагона и от мальчика, который хочет в Тамбов. Я вышел в тамбур, закурил… Лязг вагонных колес, мелькание желтых огней за стеклом вагонной двери, вкупе с набившей оскомину мелодией, головной болью, желанием опохмелиться и привели к созданию прилагаемого ниже…
Исчез Тамбов. Летит на Питер поезд,
гудком охрипшим время разодрав.
Колеса бьют по рельсам: «Скорость. Скорость!»
Душа кричит: «Гуд бай, гуд бай, май лав!»
Багряный ветер не осушит слезы,
не охладит мою больную грудь,
не повернет к Тамбову паровоза —
ни колесо, ни рельсы не загнуть.
О, как осилить расставанья муки?
Как воспарить в сонм дремлющих светил?
Любовь моя, к тебе тяну я руки:
– Где ты сейчас? Где утренний кефир?
По сторонам несутся ввысь перроны,
мешаясь с пеной желтой полутьмы.
Я весь в огне трясусь между вагонов,
смотрю в их зев, а снизу – смотришь ты.
В руках кефир. В глазах – сплошная мука.
В просвете ног мелькают тени шпал.
«Вот до чего доводит нас разлука», —
подумал я, икнул и зарыдал.
Спринтеры
Им в груди ветер дул попутный.
Они бежали к цели задом
по прелой скатерти лоскутной,
прошитой времени снарядом.
Сияла цель им в отраженьях
набухших влагой облаков,
как обещанье воскресенья
монет на поле Дураков.
О складки пятки спотыкались.
Колени двигались не в лад.
Виновных тени отсекались,
а все когда переругались,
к чему, забыли, зарекались
со старта пятиться назад.
Не так ли мы сквозь катаклизмы
идем «вперед» – к капитализму?
Метель
Метель…
Под самый Новый год.
Снег жгучий, как шрапнель,
с боков и снизу в лица бьет.
Метель метет,
метель.
Метель…
Уходит в память день.
Спадает встреч волна.
Скользит в былое год, как тень
от будущего сна.
Мельканье звезд, огней, машин…
Обрывки чьих-то фраз…
Метель из порванных седин
опутывает нас.
На миг затихла и…
швырнув
из тьмы в грядущий год,
захохотала, повернув
в анфас беззубый рот.
Моя Любовь
Моя Любовь к тебе древнее Рима!
Древнее звезд,
парящих в вышине
на тонких крыльях ангелов незримых.
Я знал о Ней еще в предвечном сне!
Когда весь мир был сжат в одно мгновенье,
когда лепились замыслы светил,
Господь в мое земное воплощенье
Ее углем меж ребер положил!
И вот, творя судеб предназначенье,
мы встретились.
Но ты не хочешь внять,
что со времен библейского творенья
на нашей встрече – Божия печать!
Герберы
Герберы на праздничном столе
среди рюмок, пива и закусок
одиноки, словно «Шевроле»
где-нибудь в селении за Тарусой.
Нереалистичны.
Невпопад.
Диссонанс капусте и селедке.
Кто их подарил?
Какой фанат?
Они стоят – три бутылки водки!
Над столом висит сивушный чад,
гости перепили, переели…
Где-то на окраине слышен мат.
Кто-то под столом скатерку стелет…
Герберы на праздничном столе…
Одиноки, словно звезды в небе…
Бросьте их владельцу «Шевроле».
Пусть к себе, в Париж, за водкой едет!
Крушение империи
В империи пошел сплошной разлад!
Опять свободу просят готы.
Варяги сели на швертботы,
рванули к грекам.
А Гийом
провозгласил себя царем
над всеми турками.
Втроем:
Луцилий, Марк и Диомид
достали где-то динамит
и трон рванули.
Крики, брань…
Гийома выслали в Сызрань,
он осознал все, слезы льет…
Луцилий в спешке дело шьет
на Диомида.
Марк – крутой,
торгует в Персии икрой.
Болтают всякое в народе:
когда-то все о недороде,
да об удоях молока…
Теперь такая мелкота
уж не волнует.
Весь народ
на баррикадах пиво пьет.
Народу – зрелищ подавай,
а там хоть Рим распродавай.
О чем я тут? Ах, о развале…
Кто у нас шефом на вокзале?
Кто за собой всех поведет
и хлеба даст, и штоф нальет?
И на кого искать управу?
Да я и сам не знаю, право…
Ильич – так тот таскал бревно,
а нам, татарам, все равно.
Залп Авроры
Аврора жахнула средь ночи холостыми.
Завыли псы.
Перекрестился поп.
Бегут года, а эхо все не стынет,
и президент с экрана морщит лоб.
– Вперед, друзья, шеренгой в ногу!
Конец войне и нищете!
Голодным – хлеб! Земля – народу! —
вещал Ильич с броневика толпе.
И верил сам…
А может, и не верил
или забыл о том, что говорил.
Толпа – ничто. Ведь главное – Идея!
О ней он думал. Только ею жил.
И за Идею снова отобрали
у наших дедов землю, мир и хлеб.
И продолжались вечные баталии,
и кровь текла на жертвенник побед.
Сейчас идеи выброшены.
К Богу
уж третий вождь почтенье показал.
Шеренги сбиты, и толпой, не в ногу,
мы все пришли на рыночный вокзал…
Движение
Движение по спирали…
Движение по прямой…
По шумной магистрали…
По ломанной кривой…
Движение – шаг навстречу…
Движение – шаг назад…
Движение беспечно,
бесцельно, наугад…
Твоей руки движение
и следом – твоих глаз…
Движение – воздвижение…
Движение – экстаз.
Движение ветра в полдень…
Движение планет…
Луны в прозрачной колбе…
Твоих ни «да», ни «нет»…
Движение – сомнение
в попытках все понять…
Как праздник искушения,
который надо ждать…
В заснеженной постели
с утра метет метель…
Движение к долгой цели
оправдывает цель.
Часть и целое
Часть – это целое, но
без кусочка,
как, например, джентльмен
без платочка
или как лес
без лесного уюта,
или – десантник
без парашюта.
Может кусочек и мал, и невзрачен,
может лишь точкой одной обозначен,
но
без его долевого участья,
целое вечно останется
частью.
Пожарище
Клубы дыма, запах гари,
перемешанной с золой,
над завьюженною далью,
над упавшею звездой,
над моими письменами,
над звонками в Никуда,
над прощания цунами,
над твоим «ни Нет, ни Да»,
над бескрылою надеждой,
над ленивою водой,
над мечтой, что стала прежней…
Дым и гарь над всей Землей.
Сон в духе ретро
Ты заблудилась.
Но в пространстве
возникла связь былых времен.
Так, пригласить тебя на танцы
позволил мне мой странный сон.
Кружась в огромном белом зале,
ловя улыбки в зеркалах,
мы были первыми на бале,
повсюду слыша:
– Ах, ах, ах!
– Ах, как она прекрасна, право!
– Какой галантный кавалер!
– Какие па!
– Ах, браво! браво!
– Вот где изящности пример!
Король предложил тебе руку,
но ты сказала тихо:
– Нет, —
и обрекла его на муку
от сладких грез на сотни лет.
Потом заря гасила свечи.
Звенели звезды в унисон.
Ты говорила:
– Время лечит.
Ты клала руки мне на плечи
и, не назначив новой встречи,
грустя, покинула мой сон.
В ночи
И этот сон,
и эта ночь,
и это лето…
И шорох листьев в унисон
с дыханьем ветра…
И море темное – глаза…
И в лунном свете – губы…
– Люб-лю, – я тихо прошептал.
И вверх взметнули трубы
каскад кадансов,
песен,
фуг!
К Земле склонились звезды…
Я ждал…
Вы молвили:
– Мой друг,
есть баксы – все возможно.
Я был богат – богаче нет.
Но трубы замолчали.
Я дал Вам тысячу монет,
потом завел в ночи мопед
и укатил в печали.
Дым
Пугая дымом комаров,
кружащих роем в балагане,
вы не заметили Богов
над золочеными главами
бездарных бонз в тени оконцев.
Вам, не привыкшим к свету солнца,
светлее было в темноте
и многолюднее в пустыне.
Быть первым – значит быть в хвосте, —
так вас учили, и поныне
вы продолжаете страдать
от кашля, насморка, простуды…
И, не листая Книги Судеб,
беретесь судьбы толковать.
Нет, катаклизмов здесь не будет.
Никто не будет пировать,
и вами изгнанный Левит
ваш балаганчик не спалит.
Кто вас осудит?
Кто простит?
Дым все
кружит,
кружит,
кружит.
З-З-З-З-З-З-З-З-З-З…
Зажжен закат зеркальных залов
за занавесками зари.
За запределием забавы
зажжен закат.
Закат зажгли…
Звенят забытых звонниц звоны,
зовут законченных зевак
забить законами законы,
зарыть зубатый зебру-знак…
Зовут завесить заграницы…
Звонарь запоры заказал…
Земля забыла закруглиться.
Звучит запевом зов «Зарницы».
Зажжен закат. Заполнен зал…
Гербарий
Я подарю тебе гербарий
давно засохнувших надежд,
чтоб, несмотря на запах гари,
презрев ухмылочки невежд,
ты по-крестьянски улыбнулась
моей наивности.
Потом
слегка взгрустнула, что не сталось
войти нам в тот прозрачный дом
сплошь алогичного пространства,
где невозможно утаить
текущих слов непостоянство,
запутав тонкую их нить;
где сны от яви не закрыты;
где ложь не прячется в углах;
где овцы – целы, волки – сыты,
и свет в огромных зеркалах,
не преломляясь, побеждает
черед прилипчивых теней;
где в длинных комнатах летает
пух прошлогодних тополей…




