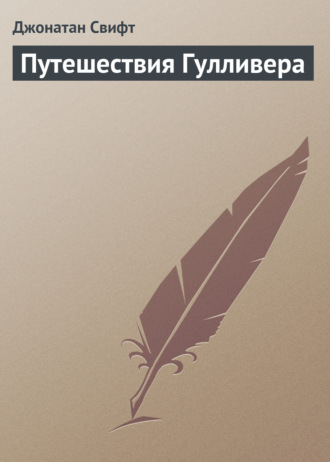
Джонатан Свифт
Путешествия Гулливера
Часть вторая
Бробдингнег
Глава 1
Двадцатого июня тысяча семьсот второго года я снова покинул Англию. Видно, самой судьбой мне было предначертано вести деятельную и беспокойную жизнь.
До мыса Доброй Надежды «Эдвенчер» шел при попутном ветре. Там мы бросили якорь, чтобы запастись свежей водой, и тут в трюме обнаружилась течь. Было решено выгрузить наши товары на берег и переждать период зимних штормов. Уже на берегу капитан Джон Николс заболел тропической лихорадкой, и это задержало нас на южной оконечности Африки до конца марта. Наконец паруса были подняты и наше торговое судно благополучно миновало Мадагаскарский пролив.
«Эдвенчер» держал курс на север, и некоторое время нам сопутствовали умеренные северо-западные ветры, обычные для этих широт. Но девятнадцатого апреля погода неожиданно изменилась: с запада налетел сильнейший шторм, не утихавший почти три недели. Нас отнесло к востоку от Молуккских островов, на три градуса к северу от экватора. Второго мая эти неутешительные новости сообщил нам капитан.
Тем временем ветер прекратился, море успокоилось, но радоваться затишью нам пришлось недолго. Капитан, имевший немалый опыт в плавании по этим морям, отдал приказ готовиться к еще более сильной буре, которая и в самом деле вскоре обрушилась на нас.
Видя, что ветер крепчает, мы убрали косой парус на бушприте и приготовились убрать фоксель. Погода становилась все хуже; осмотрев, прочно ли закреплены пушки, мы убрали бизань. Было решено держаться подальше от берега, чтобы нас не снесло на рифы. Румпель лежал на полном ветре, но тут шквалом сорвало один из парусов. Пришлось спустить рею, снять с нее клочья паруса и весь такелаж.
К этому времени буря бушевала в полную мощь, стремительно унося наш корабль в открытое море, и это продолжалось не менее двух недель. По моим подсчетам, за время шторма «Эдвенчер» отнесло по крайней мере на полторы тысячи миль к востоку, так что даже бывалый моряк не мог бы сказать, в какой части света мы находимся. Провианта у нас было вдоволь, корабль находился в хорошем состоянии, экипаж был здоров, однако пресной воды было маловато, и это начало беспокоить капитана.
Шестнадцатого июня тысяча семьсот третьего года вахтенный юнга заметил землю, а на следующий день мы подошли к берегам большого острова или континента – этого мы не знали. На юге далеко в море выступала песчаная коса и виднелась бухта, но сможет ли войти в нее такое большое судно, как «Эдвенчер», оставалось под вопросом. Мы бросили якорь на расстоянии трех миль от бухты, и капитан отправил на берег шлюпку с дюжиной вооруженных матросов. Туда же были погружены пустые бочонки на случай, если мы обнаружим источник пресной воды. Я упросил Джона Николса отпустить меня с матросами взглянуть на неизвестную землю. Мое обычное любопытство и здесь меня не покинуло.
Высадившись на берег, мы не нашли ни ручья, ни родника, а также никаких признаков того, что эта суша обитаема. Матросы блуждали по пустынному побережью в поисках хоть какого-нибудь источника, а я побрел в противоположном направлении, удалившись от них почти на милю. По пути я не встретил ничего примечательного: вокруг расстилалась все та же бесплодная каменистая пустыня.
Разочарованный и уставший, я повернул назад и не спеша зашагал по направлению к бухте. Но едва я приблизился к месту нашей высадки, как остолбенел от неожиданности: матросы, не дожидаясь меня, погрузились в шлюпку и что есть силы налегали на весла, направляясь к кораблю. Я открыл было рот, чтобы возмущенно закричать, но тут же в ужасе осекся. Шлюпку догоняло по морю исполинского роста существо, похожее на циклопа. Вода едва доходила ему до колен.
Я не поверил собственным глазам.
Лодка неслась, опережая преследователя на полторы мили; к тому же дно бухты было скользким и каменистым, и великан то и дело спотыкался. У меня не хватило мужества дожидаться, что из этого выйдет. Я запаниковал и со всех ног пустился наутек вглубь дикого побережья. Бежал я до тех пор, пока не свалился без сил на склоне какого-то крутого холма.
Отдышавшись, я наконец-то смог осмотреться. Внизу простирались возделанные поля, но что меня поразило больше всего – трава на меже достигала двадцати футов в высоту. Через ячменное поле вилась широкая дорога, по которой я решил хоть куда-нибудь добраться, и лишь много позже я понял, что это была всего-навсего узкая тропка, ведущая к ферме.
Я спустился по этой дороге к полю, а когда начал пересекать его, то мне стало казаться, что я нахожусь в густом темном лесу, – созревающий ячмень достигал сорока футов в высоту. Только через час я добрался до дальнего края, где наткнулся на изгородь высотой в сто двадцать футов; о размерах бревен, из которых она была сколочена, я не мог составить даже приблизительного представления. Чтобы попасть с ячменного поля на соседнее, нужно было подняться по каменным ступеням, а сделать это я никак не мог, потому что ступени были гораздо больше моего роста. Пришлось искать щель в изгороди.
Внезапно я замер. К ступеням приближался такой же исполин, как тот, что погнался за шлюпкой. Ростом он был с добрую колокольню, а каждый его шаг был шириной не менее десяти ярдов. Охваченный ужасом, я метнулся в сторону и спрятался в ячмене. Оттуда мне хорошо было видно, как великан сверху осматривает соседнее поле и зовет кого-то, сложив ладони рупором у рта. С непривычки мне показалось, что я слышу раскаты грома. На зов тотчас явились семеро таких же чудищ с серпами в руках, причем каждый из этих серпов был раз в шесть больше нашей косы. Одетые победнее, чем первый исполин, они, видимо, были здесь работниками, потому что без промедления подчинились приказу и принялись жать тот самый ячмень, в котором я прятался.
Мне ничего не оставалось, как снова удирать без оглядки. Это оказалось непросто. Передвигался я с большим трудом, а в некоторых местах ячмень рос так густо, что мне едва удавалось пролезть между его стеблями. Тем не менее я упорно шел по полю до тех пор, пока не наткнулся на груду стеблей ячменя, сломанных и измятых ветром и дождем. Пробраться сквозь нее не было никакой возможности – стебли перепутались между собой, а острые усики колосьев вонзались в тело, раня и причиняя нестерпимую боль.
В отчаянии я рухнул в борозду и от всего сердца пожелал себе смерти. Я оплакивал свою овдовевшую жену и детей-сироток, корил себя за безрассудство и упрямство, толкнувшие меня на новое путешествие несмотря на уговоры родных и друзей.
Меня душила тоска. Я невольно вспомнил Лилипутию и остров Блефуску, жители которых относились ко мне как к величайшему чуду. Легенды о моих подвигах передавались из уст в уста, а здесь я ничтожнее самой ничтожной букашки. «Но и это еще не худшее из несчастий, – размышлял я, – ибо дикость и жестокость, нередкие среди обычных людей, на этой земле, возможно, пропорциональны росту ее обитателей. Что может меня ожидать, кроме горькой участи быть пойманным и съеденным первым встречным варваром? Несомненно, философы правы, утверждая, что великое и малое – понятия относительные».
Пока я предавался печальным размышлениям, жнецы приблизились и один из них был уже в десяти ярдах от той борозды, где я лежал. Стоило громадине сделать еще шаг или взмахнуть серпом, как я буду раздавлен исполинским башмаком или рассечен надвое сверкающим лезвием. Охваченный ужасом, я отчаянно завопил.
Великан замер, наклонился и долго всматривался, пока не понял, откуда доносятся крики. С минуту он настороженно разглядывал меня, словно незнакомого зверька, и наконец отважился поднять, сжав мою талию между большим и указательным пальцами, и поднести к глазам. Я едва не завизжал от страшной боли, однако мне хватило ума сдержаться, – я не издал ни звука, пока он держал меня в воздухе на высоте шестидесяти футов над землей. Единственное, что я себе позволил, как только моя голова перестала кружиться, – умоляюще сложить руки и внятно пропищать несколько фраз.
Я боялся, что великан брезгливо отшвырнет меня в ячмень – так, как иногда мы стряхиваем с себя неприятное насекомое, но, очевидно, я его заинтересовал. Он продолжал меня изучать, удивляясь, до чего же я похож на настоящего человека, только микроскопических размеров. Его громадные пальцы причиняли мне такую нестерпимую боль, что я едва сдерживал стоны. Умоляющими жестами я дал жнецу понять, что он вот-вот меня раздавит. Видимо, он догадался, в чем дело, потому что, осторожно завернув меня в полу своей одежды, бросился к своему хозяину. Я вздохнул с облегчением, положившись на волю Господа.
Теперь пришел черед фермера рассматривать меня со всех сторон.
Я смирно стоял на огромной каменной ступени размером с нашу городскую площадь, а хозяин подробно расспрашивал жнеца об обстоятельствах необычной находки. Затем фермер наклонился и соломинкой толщиной с нашу трость приподнял полы моего камзола: очевидно, он решил, что одежда – это нечто вроде оперения или чешуи, которыми одарила меня природа. Затем он взял меня в руку и попытался получше рассмотреть мое лицо, руки и ноги, после чего осторожно опустил меня на землю и поставил на четвереньки. Я тут же вскочил на ноги и принялся расхаживать перед ним, желая показать всем своим видом, что не имею ни малейшего желания бежать.
Фермер и жнецы уселись в тесный кружок, чтобы понаблюдать за моими движениями. Я остановился, повернулся к ним лицом, с улыбкой снял шляпу и отвесил глубокий поклон. Затем, опустившись на одно колено, вынул из кармана кошелек с золотом и протянул его хозяину фермы. Великан положил кошелек на ладонь, поднес близко к глазам, стараясь рассмотреть, после чего потыкал соломинкой, но так и не понял, что это такое. Тогда я показал ему знаками, чтобы он положил руку на землю, потом я вынул все монеты из кошелька и высыпал фермеру на ладонь. У меня при себе было шесть испанских золотых и двадцать или тридцать мелких монет. Результат тот же – фермер потрогал кончиком мизинца сперва одну монету, потом другую, но так и не понял значения моего подарка и дал мне знак собрать монеты и спрятать их в карман. Я исполнил его требование.
Только после этого великан сделал вывод, что я разумное существо.
Он попытался со мной заговорить, и хотя звук его голоса был подобен грохоту водяной мельницы, отдельные слова звучали достаточно внятно. Я как можно громче отвечал фермеру на разных языках, он напряженно прислушивался, приближая к моему лицу огромное волосатое ухо, но увы – мы не понимали друг друга. Жнецы тем временем вернулись в поле, а их хозяин, расстелив носовой платок на ладони, присел на корточки и велел мне взобраться на платок. Это было несложно, я подчинился и даже улегся в ладони фермера для большей безопасности. Он закутал меня в платок, словно младенца в пеленку, и в таком виде понес домой.
Придя к себе на ферму, хозяин позвал жену и показал ей меня. Женщина от неожиданности взвизгнула и попятилась – точь-в-точь как английская леди при виде жабы или паука. Однако очень скоро великанша ко мне привыкла и, видя, какой я смирный, приветливый и безопасный, успокоилась и стала относиться ко мне ласково.
Был полдень; слуги подали скромный обед, состоявший из одного мясного блюда. Это был кусок говядины на огромной тарелке около двадцати четырех футов в диаметре. За стол сели фермер, его жена, трое детей и пожилая дама, очевидно бабушка. Хозяин дома поместил меня на столе около себя. От края стола до пола было не меньше тридцати футов, и я отодвинулся подальше, опасаясь свалиться. Фермерша отрезала тонкий ломтик говядины, положила его на самое маленькое блюдце и, накрошив туда же хлеба, поставила передо мной. Отвесив поклон, я вынул свои вилку и нож и принялся за еду, что доставило всем присутствующим большое удовольствие. Хозяйка велела служанке принести ликерную рюмочку, в которую, на мой взгляд, входило не меньше двух галлонов, и наполнила ее какой-то жидкостью. Я с трудом поднял этот сосуд обеими руками и провозгласил, что пью за здоровье прекрасной леди. Все поняли мой жест и от души расхохотались, едва окончательно не оглушив меня. Напиток напоминал слабый сидр и имел весьма приятный вкус.
Затем фермер знаками предложил мне подойти к его тарелке. Идя по столу, я неосторожно споткнулся о крошку хлеба и упал, но тут же вскочил на ноги. Мое падение явно встревожило всех, кто сидел за столом, и мне пришлось помахать шляпой в знак того, что все обошлось благополучно.
Рядом с фермером сидел его младший сын, десятилетний забияка. Когда я приблизился к тарелке хозяина, мальчишка внезапно схватил меня за ноги и поднял вниз головой так высоко, что у меня дух захватило. К счастью, фермер мигом отнял меня у озорника и влепил ему такую затрещину, что она наверняка выбила бы из седла целый эскадрон европейской кавалерии. Великан до того рассердился, что велел сыну выйти вон из-за стола. Однако я не хотел, чтобы мальчишка затаил на меня злобу, и поэтому постарался дать понять его отцу, что прошу простить неразумное дитя. В конце концов фермер смягчился и мальчик снова занял свое место.
Когда обед подходил к концу, позади меня неожиданно раздался сильный шум, будто дюжина ткачей разом взялась за работу на своих станках. Обернувшись, я увидел, что на колени к хозяйке вспрыгнула кошка и, свернувшись клубком, сладко замурлыкала. Кошка показалась мне громадной – в три раза больше самого крупного нашего быка. Я, боясь, чтобы она не бросилась на меня, как на мышь, испуганно попятился, хоть и находился на другом конце стола, а фермерша крепко держала свою любимицу и поглаживала. Мои страхи оказались напрасными – животное не обратило на меня ни малейшего внимания. Я настолько осмелел, что приблизился к ее морде, но кошка лишь выгнула спину и прижалась к своей хозяйке. Во время обеда, как это обыкновенно бывает в деревенских домах, в столовую вбежали несколько собак, но я, сам не зная почему, не испытал ни малейшего страха. Одна из них была мастифом величиною с четырех слонов, другая – борзой, породу остальных я затрудняюсь назвать.
Все еще сидели за столом, когда в комнату вошла кормилица с годовалым младенцем на руках и присела на скамью прямо напротив того места, где я прохаживался. Увидев меня и, очевидно, приняв за живую игрушку, младенец поднял такой оглушительный рев, что, случись это в Челси, непременно рухнул бы Лондонский мост. Его матушка не придумала ничего лучше, как поставить меня перед ребенком, который тут же умолк, сгреб меня и попытался засунуть в рот. Я так отчаянно завопил, что младенец в испуге снова заревел и разжал пальцы. Если бы фермерша не успела подставить под мое летящее на пол тело свой передник, я непременно сломал бы себе шею. Чтобы успокоить крикуна, кормилица стала забавлять его погремушкой, похожей на бочонок с камнями, однако младенец не унимался, и тогда кормилица присела на табурет, решив прибегнуть к последнему средству – дать ребенку грудь. Зрелище сосущего грудь младенца-великана произвело на меня неизгладимое впечатление.
После обеда фермер отправился в поле и велел жене, чтобы она позаботилась обо мне. Я настолько утомился, что глаза мои слипались. Хозяйка это заметила, уложила меня на свою кровать и укрыла чистым батистовым носовым платком, который, однако, оказался толще и грубее паруса военного корабля.
Я проспал около двух часов и видел во сне свою семью.
Тем печальнее было проснуться в огромной полутемной комнате, лежа в одиночестве на бескрайней подушке. Фермерша, видно, занялась домашними делами и заперла дверь на ключ. Кровать возвышалась над полом на восемь ярдов, а мне нужно было срочно спуститься, чтобы справить малую нужду. Звать кого-либо на помощь было бесполезно: мой голосишко звучал здесь не громче комариного писка. Пока я размышлял, что же предпринять, на постель успели взобраться две крысы. Принюхиваясь, они засновали по покрывалу, пока одна из них не заметила меня. Я в ужасе вскочил и выхватил нож как раз в ту секунду, когда крысы на меня набросились. Мне удалось распороть брюхо самой крупной, несмотря на то что она была величиной с волкодава, а ее голый хвост достигал в длину двух ярдов. Другая бросилась прочь, но я догнал ее и ранил. После этих подвигов я стал прохаживаться по покрывалу среди кровавых пятен, чтобы перевести дух и немного прийти в себя после пережитого.
Тут в комнату вошла хозяйка. Увидев, что я весь в крови, она стремглав бросилась к кровати и схватила меня на руки. Я попытался объяснить, что случилось, указывая на мертвую крысу и давая доброй женщине понять, что я цел и невредим. Вытащив нож, я помахал им, – тут-то фермерша все поняла. Она позвала служанку и велела убрать следы учиненного мною побоища. Не без смущения я попытался объяснить хозяйке, что хотел бы наконец-то выбраться по нужде, но лишь с превеликим трудом она сообразила, в чем дело. Женщина взяла меня на руки, отнесла в сад, поставила на землю и отвернулась.
Там я поспешно укрылся между листьями щавеля и наконец-то покончил с этой затянувшейся историей.
Глава 2
В фермерской семье была еще и девятилетняя дочь. Для своего возраста девочка была очень смышленой и обладала чудесным характером. Добрая, спокойная, небольшого роста – всего около сорока футов. Любимым ее занятием было шитье кукольных нарядов, которые она сама придумывала.
Вместе с матерью она смастерила постель в игрушечной колыбельке, которую поместили в небольшой ящик, вынутый из комода. Ящик поставили на полку, подвешенную к потолку, чтобы уберечь меня от крыс. Там я и спал до тех пор, пока жил на ферме. Моя постель с каждым днем становилась все удобнее – по мере того как я осваивал язык великанов и мог объяснить, что мне требовалось. Моя маленькая подружка, увидев однажды, как я управляюсь со своим туалетом, попыталась взять на себя обязанность одевать и раздевать меня. Однако я лишь раз позволил девочке это сделать, поскольку предпочитал сам ухаживать за собой. Она сшила для меня семь сорочек из самого тонкого полотна, какое только можно было раздобыть, собственноручно стирала мои вещи и обожала умывать меня. Этот очаровательный ребенок стал еще и моей учительницей: она терпеливо обучала меня своему языку. Я указывал на тот или иной предмет, девочка называла его и радовалась, когда я запоминал слово и повторял его за ней. Спустя короткое время я уже мог попросить все необходимое. Девочка дала мне имя Грильдриг, которое в переводе означает «человечек», «карлик». Так оно и осталось за мной не только в этой семье, но и много позже.
Я называл девочку моей Глюмдальклич, то есть нянюшкой. И я всегда буду обязан ей за то, что остался цел и невредим в чужой стране, и никогда не забуду о ее заботе и душевной ко мне привязанности. К сожалению, впоследствии мне суждено было стать невольной причиной ее горя.
Вскоре между соседями фермера поползли слухи о том, что он нашел в поле странное существо величиной почти со сплекнока (местного зверька шести футов длины), но очень похожего на человека. Поговаривали, что это создание отлично копирует людей – произносит многие слова, передвигается на двух ногах, понимает приказы и даже пользуется ножом и вилкой, когда ест мясо. Строение тела у него хрупкое, руки нежные, а лицо белее, чем у ребенка из благородной семьи.
Ближайший сосед и большой приятель моего хозяина однажды явился выяснить, насколько вся эта болтовня соответствует действительности. Меня немедленно вынесли и поставили на стол в кухне, где я по просьбе фермера устроил целое представление. Я прохаживался взад и вперед, размахивал ножиком как шпагой, кланялся гостю, интересуясь его делами и здоровьем, отпускал любезности, – словом, в точности выполнял все, чему учила меня моя нянюшка. Этот пожилой подслеповатый человек даже нацепил на нос очки, стараясь получше меня рассмотреть. К стыду своему, я не смог удержаться от смеха – сквозь стекла очков глаза любопытного гостя были похожи на полную луну, когда она ярко светит сквозь оконные стекла. Домашние, догадавшись о причине моего хохота, тоже рассмеялись, но простак был до того глуп, что затаил обиду, решив, что насмехаются над ним самим.
Этот фермер по натуре своей был известный сквалыга и, на мою беду, дал соседу поистине дьявольский совет. Он предложил показывать меня за деньги, словно диковинку, на ярмарке в ближайшем городе, находившемся всего в двадцати двух милях от фермы. Потом мой хозяин стал шептаться с соседом, и когда гость, мстительно ухмыляясь, взглянул в мою сторону, сердце мое сжалось от недоброго предчувствия.
Наутро моя милая Глюмдальклич выведала все у матери и, чуть не плача от стыда и горя, все мне рассказала. Она отчаянно боялась, что грубые и невежественные крестьяне покалечат меня или ненароком придушат. Зная мою натуру достаточно хорошо, девочка опасалась, что я буду смертельно оскорблен, если меня начнут показывать за деньги, как какого-нибудь уродца, на потеху толпе. «Родители, – горько проговорила моя нянюшка, – обещали отдать мне Грильдрига, но я вижу, что мечта моя никогда не сбудется. В прошлом году в день рождения они подарили мне маленького ягненка, а когда я его вырастила, он пошел под нож мясника…»
Я принял новость совсем не так близко к сердцу, как Глюмдальклич. Вера в то, что в один прекрасный день я верну свою свободу, никогда не покидала меня. Пока же я был пленником и не мог распоряжаться собственной судьбой. Что же до позорной участи быть игрушкой в чьих-то руках… Я и без того чувствовал себя чужаком в этой стране и смотрел на все философски. Даже король Англии, окажись он на моем месте, вынужден был бы смириться.
Уже на следующий день, следуя совету соседа, фермер повез меня в город, поместив в специальный дорожный ящик. Хорошо еще, что он взял с собой дочь, мою нянюшку. Девочка сидела на лошади позади отца и крепко держала ящик в руках. Он был прямоугольным, закрытым со всех сторон, и лишь сбоку в нем имелась маленькая дверца для входа и пара небольших отверстий вместо окон – для доступа свежего воздуха. Глюмдальклич позаботилась обо мне: она положила на дно ящика стеганое кукольное одеяльце, на которое я мог бы сесть или лечь.
Эта поездка страшно меня утомила, хоть и длилась всего полчаса. Дорога была ухабистой, каждый шаг лошади, бежавшей рысью, равнялся примерно сорока футам. Я чувствовал себя будто в запертой каюте корабля, угодившего в сильнейший шторм, когда волна то возносит судно к небу, то низвергает его в бездну. Весь переезд равнялся пути между Лондоном и Сент-Олбансом. Фермер сошел с коня у гостиницы, в которой обычно останавливался, наезжая в город, и, посоветовавшись с ее хозяином, решил показывать меня не на ярмарке, а прямо здесь. Он нанял грультруда, то есть глашатая, который должен был оповестить горожан, рыночных торговцев и крестьян, что в гостинице за небольшую плату можно будет увидеть совершенно необыкновенное существо, которое очень похоже на человека, но размером со сплекнока, умеет произносить слова и проделывать всевозможные забавные штуки.
Посмотреть представление было очень много желающих. Меня поставили на столе в самой большой комнате, моя нянюшка устроилась на табурете рядом, чтобы охранять меня и руководить моим «выступлением». Хозяин заведения во избежание давки пускал в помещение не более тридцати человек за раз, и все они должны были соблюдать полную тишину.
По команде Глюмдальклич я бодро маршировал взад и вперед по столу; девочка задавала мне простые вопросы – я исправно отвечал, стараясь говорить как можно громче. Я обращался к публике с приветствием, снимая шляпу и кланяясь словно болванчик, затем приглашал всех снова встретиться со мной… И до чего же это было несносно! Я брал наперсток, наполненный вином, и пил за здоровье гостей, выхватывал нож и, делая свирепое лицо, изображал из себя корсара, девочка протягивала мне соломинку – в то же мгновение я становился гвардейцем с пикой наперевес.
В тот день меня показывали зрителям не меньше двенадцати раз, и к концу представления мне все это так надоело, что я взмолился о пощаде. За порогом зрители рассказывали обо мне такие чудеса, что народ брал гостиницу приступом. Фермер, понимая, что наткнулся на золотую жилу, всячески оберегал меня от толпы. Он никому не разрешал приближаться или прикасаться ко мне, кроме своей дочери. Тем не менее какой-то озорной школяр ухитрился запустить в меня орехом величиной с нашу тыкву. К счастью, мальчишка промахнулся, иначе моя голова оказалась бы расплющенной. Я не без удовольствия наблюдал, как возмущенные зрители взашей вытолкали хулигана из гостиницы.
В городе было объявлено, что следующее представление назначено на ближайший базарный день. Как только мы вернулись домой, мой хозяин занялся изготовлением более удобного походного жилища для меня. Первый переезд и затянувшийся дебют в качестве заморского дива довели меня до полного изнеможения. Я едва держался на ногах, и мне понадобилось целых три дня, чтобы восстановить силы. Но и между «гастролями» я не знал ни минуты покоя. Дворяне со всей округи, прослышав обо мне, постоянно наведывались на ферму, чтобы взглянуть на диковинное существо. Чуть ли не ежедневно прибывало до полусотни господ с женами, детьми и престарелыми родственниками. Фермер и тут имел немалую прибыль – он пускал на представление одно семейство, а плату брал как за полный зрителей зал. В течение нескольких недель у меня не было отдыха, кроме дня, когда мой хозяин решал передохнуть.
Вскоре ему в голову пришла мысль объехать со мной крупные города королевства. Приготовив все необходимое для дальнего путешествия и отдав распоряжения по хозяйству, фермер простился с женой и детьми и семнадцатого августа тысяча семьсот третьего года – то есть примерно через два месяца после моего появления в его доме, – мы отправились в столицу, расположенную в трех тысячах миль от фермы.
Хозяин усадил дочь позади себя, а Глюмдальклич держала на коленях дорожный ящик, пристегнутый к ее поясу цепью. В ящике находилась моя персона, оберегаемая словно драгоценный самородок; девочка обила стены моего домика самой мягкой тканью, а пол устлала войлоком, поставила мне кроватку, снабдила бельем и всем необходимым для дальнего путешествия. Нас сопровождал всего один работник, везший на крепкой лошади багаж.
Фермер устраивал представления во всех городах, которые попадались нам по пути. Он пользовался любой возможностью подзаработать – случалось, мы сворачивали на сотню миль в сторону от дороги в какое-нибудь богатое имение. Поэтому двигались мы медленно, делая в день не больше ста пятидесяти миль. Щадя меня, добрая Глюмдальклич лукавила: она говорила отцу, что очень устает от верховой езды. Девочка часто вынимала меня из ящика, чтобы я мог подышать свежим воздухом и взглянуть на окружающий мир. При этом она не выпускала меня из рук, опасаясь случайностей. Нам довелось переправляться через полдюжины рек, в десятки раз глубже и шире Нила или Ганга, и я не припоминаю в тех краях ручейков наподобие нашей Темзы.
Двадцать шестого октября мы прибыли в столицу королевства великанов, именуемую Лорбрульгруд, то есть «Гордость Вселенной». Фермер остановился в гостинице на главной улице неподалеку от королевского дворца. На этот раз были развешены афиши с точным описанием моей особы и моих талантов. Хозяин нанял большой зал и установил в нем стол высотой в три фута, обнесенный решеткой, чтобы уберечь меня от падения. Такой была моя новая сцена, а в остальном все должно было происходить как обычно.






