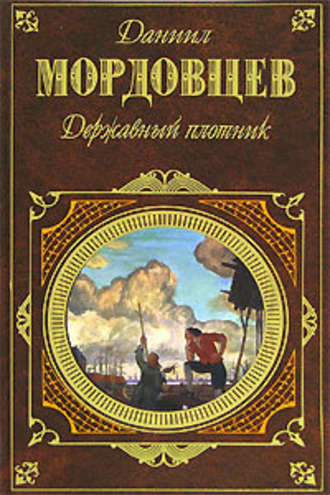
Даниил Мордовцев
Державный плотник
VI. КОНЕЦ ЧУМЫ
Снова звон колоколов над Москвой, но уже не набатный, а унылый, похоронный. И в каком-то особенном, глубоко потрясающем душу порядке идет мрачно торжественный перезвон, словно стонет бесконечно великая медная, но живая человеческая грудь. Сначала застонет Иван Великий, и тоскливо пронесется с высоты Кремля по всей Москве это страшное металлическое стенание, а за ним застонут ближайшие церкви, потом дальнейшие, и стон этот идет от центра города к окраинам, а потом снова возвращается к центру, и снова тот же круговой стон. Можно подумать, что вся Москва наконец вымерла и это Москву хоронит кто-то невидимый.
Нет, это Москва хоронит своего архиепископа, новоубиенного Амвросия.
На кладбище Донского монастыря, на краю двух свежевырытых глубоких могил, стоят на «марах» два гроба. В одном гробу лежит что-то в архиепископском облачении со всеми принадлежностями святительского сана. Что-то лежит, потому что лицо лежащего в гробу закрыто пеленою. В другом гробу лежит что-то в полном архимандричьем облачении, и тоже с закрытым пеленою лицом.
В первом гробу лежит Амвросий, во втором – его брат Никон.
Около могил с одной стороны стоит целый сонм духовенства в черных ризах, с другой – власти и зрители. Тут же у первого гроба и граф Орлов, такой глубоко задумчивый, задумчивый в себе, словно бы думы его были далеко от этого гроба, от этой могилы. Да, они далеко: они носятся где-то над Дунаем, около красивой, гордой головы того, которому вот этот лежащий в гробу мертвец помогал когда-то «рублями» и «полтинами» и который теперь, как «князь тьмы», начинает затмевать славу Орловых...
Немножко поодаль стоят и безмолвно, но с какой-то невыразимой нежностью в глазах смотрят в разверстые могилы две молодые девушки в траурной одежде больничных сиделок. Это – Лариса и Настя, мысли которых тоже не здесь: одной – где-то у неведомого Прута, другой – на кладбище Данилова монастыря, и обе что-то вспоминают: одна – светлорусую головку, от которой локон вот тут, на груди; другая вспоминает «сенцы» и бестолково щелкающего соловья.
За ними виднеется кругленькая фигурка и живое, с добрыми глазами лицо веселого доктора. И на его добром лице легкая дума и еще что-то новое. Он тоже о чем-то вспоминает...
Обряд отпевания кончен, и слышится только под стон всех московских церквей надгробное слово, которое не все слушают, занятые своими мыслями, может быть, своими надгробными словами.
– Видя вас, печальные слушатели, – возглашает оратор, – с особенным сердец соболезнованием гробу сему предстоящих и сам сострадая, что к утешению вашему сказать теперь могу я, несчастный проповедник! О, времена! О, нравы! О, жизнь человеческая, океан перемен неизмеримый!
А слушатели то слушают и сострадают, то задумываются о себе...
Но внимание слушателей неожиданно привлекает звон кандалов где-то тут вблизи. Это ведут кого-то сюда. Толпы раздвигаются, а кандалы звякают все ближе и ближе, да звякают так отчетливо по душе и по сердцу, что этого звяканья не может заглушить протяжный, стонущий звон всех московских колоколов.
Это ведут колодников в цепях, проститься с тем, кого они убили в своем темном неведении. Но как они все изменились! Вон впереди всех гремит лошадиными железными путами Савелий Бяков. Куда девалась его длинная седая коса? Вместо нее – белая как лунь, гладко обстриженная голова. Остался один его гигантский рост, да и то видна уже старческая сгорбленность. За ним в кандалах Васька-дворовый, что еще не так, казалось бы, давно вприсядку плясал, идя на приступ к Кремлю, и он постарел. И Илюша-чудовидец сгорбился, погромыхивая железом.
Тут же гремит кандалами и рыжий с красными бровями солдат. Как мало теперь напоминает он того, который, подсмеиваясь над хохлом Забродею, копал могилу молодому сержантику на берегу Прута!
Приводят и других колодников, становят у могил в виду обоих гробов.
И проповедник обращается к ним с своим глубоко правдивым по чувству, но не по существу укором.
– О, бесчеловечные души! – продолжает проповедник свое слово, протягивая руки к колодникам. – Послушайте гласа вашего пастыря, из гроба с умилением к вам вопиющего.
И он указал рукою на первый гроб. Арестанты невольно взглянули на него. Гигант-солдат глянул и в ближнюю могилу и потупил глаза, а рыжий перекрестился, звонко звеня ручными кандалами. Глаза веселого доктора тоскливо взглянули на него.
– «Людие паствы моея! – взывает сей во гробу лежащий. – Людие паствы моея! Что сотворих вам, яко тако ожесточиста на мя сердца ваши? Сего ли я от вас ожидал воздаяния?»
Из-под красных бровей текли слезы и разбивались в мелкие брызги о железные кольца наручней.
– «Людие паствы моея! Что сотворих вам? Я прилагал заботы о сохранении от бича божия жизни вашей, а вы у меня мою старческую жизнь отняли мучительски. Или вы не слышите доселе в глубине сердец ваших, как влекомая за власы седая голова моя колотится о помост церковный, который был, ради вашего спасения, весь облит моими слезами? Али не слышится вам, как старые кости мои, ломимые дрекольем вашим, хрустят в смертных мучениях? За что же? Что сотворил я вам, людие паствы моея?»
– О, будет! – рыдает кто-то позади толпы.
Даже гигант седой не выдерживает: падает на колени
Наконец надгробное слово кончено. Все вздохнули: так мучительно долго раздавался этот возглас, словно бы в самом деле из гроба: «Людие паствы моея! Что сотворих вам?»
Стоящий рядом с проповедником протодиакон возглашает:
– Блаженные и вечно достойные памяти преосвященному Амвросию, новоубиенному архиепископу московскому и калужскому вечная память!
– Вечная память! – повторяют все вместе с клиром.
– Блаженные памяти преосвященного Амвросия, архиепископа московского и калужского злочестивым убийцам анафема! – вновь возглашает протодиакон.
– Анафема-анафема-а-на-фе-ма! – повторяет клир.
Преступников уводят. Сивоголовый великан, уходя, еще раз заглянул в глубь могилы: любопытно!
Гробы опустили в могилы. Застучали комья земли о крышки, уже заколоченные. А слышат ли те, что там лежат под гробовыми крышками, этот стук земли?
Когда преступников вывели за ограду, к одному из них, к краснобровому, с безумною радостью бросилась собачонка. Несчастный взял ее на руки и целовал, а она, тихо визжа, лизала наручники кандалов.
Орлов, все время задумчиво стоявший, бросил и свою горсть земли в могилу, а потом, увидав веселого доктора, подозвал его к себе.
– Ну что, господин доктор, как стоят дела в городе? Что мор?
– Мор издыхает, ваше сиятельство, – отвечал доктор, думая о чем-то.
– Это верно?
– Верно-с. Пуля уже на излете, она не смертельна.
– Что же нам остается еще сделать? – спросил Орлов после небольшого раздумья.
– Вашим сиятельством сделано уже многое, но все еще главное не сделано, – спокойно отвечал доктор.
– Что же такое? – торопливо спросил Орлов.
– Надо накормить всех голодных: это труднее всего.
Орлов задумался. Толпы стали расходиться. У ограды и у ворот стояли тысячи оборванных, полунагих, с худыми лицами и протягивали руки.
– Видите, ваше сиятельство? – Доктор указал на эти толпы голодных.
– А что же? – озабоченно спросил граф.
– Это мор протягивает руку за куском. Если он не получит куска, то возьмет самого человека, и того, который просит, и того, который не дает.
– Спасибо, господин доктор. Мы еще с вами поговорим.
И Орлов оставил кладбище.
Пробираясь к выходу, веселый доктор столкнулся с Ларисой и Настей.
– Что же, Крестьян Крестьяныч, когда же? – спросила первая.
– Что, милая девочка?
– Да туда, в Турцию.
– Погодите, погодите, милые барышни. Еще здесь дело есть. А там и в дорогу.
* * *
Прошли сорочины после похорон Амвросия.
Всю ночь на 21 ноября 1771 года жившие около Донского монастыря москвичи и обитатели самого монастыря слышали стук топоров где-то вблизи монастырской ограды и покрикивания рабочих.
– Эй, паря! Крепи больше эту верею-вереюшку.
– Креплю! Что орешь! Сам знаю, что дядя Савелий крепенек таки, того и гляди, обломит люльку-то свою.
– Ишь ты, покои каки написали знатные! Два столба с перекладиной, вот и покой.
– А тебе бы арцы, аспиду, самому поставить!
– За что так?
– За то, аспид!
– Что ж! Сказывали ребята, в Питере, слышь, арцами теперь виселицы-то ставить учали, один, слышь, столб, а от ево лапа идет, бревно, значит, на лапу-то и вешают.
– Так не арцы это, а глагол.
– Ну, глагол... все едино виселица. А рази только троих вешать будут?
– Троих, чу.
– А ты кобылу-то крепче ладь: на ей пороть будут.
– Знаю... Страивали и кобыл немало: Москва-то матушка на их езжала довольно.
– А веревки-то крепки ль к виселицам?
– Крепки, не сорвутся, а и сорвутся, так наземь же упадут, не на небо.
– То-то, а то в шею накладут.
– Что ж! Побьют, не воз навьют.
А наутро оказалось, что на том самом месте, где убит был Амвросий, возвышаются три огромные виселицы с эшафотом, а кругом них несколько «кобыл», эдакие оригинальные и удобные приспособления для сечения кнутом: оседлает эту деревянную кобылку осужденный, привяжут его ремнями к этой лошадке спиною кверху, да и стегают до мяса да до самой кости становой. Ишь, как ловко выдумали! А допрежь было проще, на чистоту, выведут этого человека на базар, где народу больше, да опрокинут это сани какие ни есть кверху полозьями, вот-де и кобыла готова. И пишут спины.
Москвичей навалило на это позорище видимо-невидимо: не всех, стало быть, взяла чума на тот свет, есть кому посмотреть на тех, кого вешать да кнутовать будут. Эко торжище!
Скоро заслышали и стук барабанов и бряцанье кандалов, такое бряцанье, словно бы гнали табун скованных коней. Да и был их, точно, целый табун: не одну сотню нагнали скованных.
В числе первых старые наши знакомые: дядя Савелий с седою бородой, Васька-дворовый, Илюша-чудовидец да краснобровый солдат, да только уж не рыжий, а тоже седой. А других и перечесть нельзя, кажется.
Тут и собачонка Маланья, веселая такая, резвая. Она увидала своего любимца краснобрового и знает, что он и сегодня возьмет ее после на руки и поцелует.
Конвойные солдаты с сухим подьячим во главе поставили под виселицы четырех арестантов, в том числе и краснобрового солдата.
Собачке и видно его хорошо впереди всех, она и хочет броситься к нему, но конвойные солдаты не пускают ее, а только улыбаются ей: они тоже полюбили ее, Маланью. Маланья целых два месяца не отходила от острога, где сидел ее любимец, как ни старались отгонять ее часовые. Сначала она выла, ее били да швыряли в нее: а она все тут торчит. Потом им стало ее жаль, и они посвистывали ей издали, заигрывали с нею. А она тоже ничего. Дальше – больше – и совсем полюбили ее, как свою родную: делились с нею и порционами, и ласками, а когда холода настали, то и прятали ее в свои тулупы, потому псица-де махонькая, безобидная. Ну, и совсем друзьями зажили солдатики с доброю Маланьею.
– Как же это, паря, их четыре, а виселиц всего три?
– А как! Начальство уж само знает как: двух на одну вздернут.
– То-то и я мекаю себе: как же это?
Бьют барабаны, читают приговор, приводят статьи законов:
– «...Разбойников, которые учинили смертное убивство, наказывать смертию...»
– Ишь ты, смертию.
– А ты как бы думал, животом!
– «...кто на людей на пути и на улицах вооруженной рукою нападет и оных силою пограбит или побьет, поранит и умертвит, оного колесовать и на колесо тело положить».
Прочитали приговор. Завязывают глаза четырем главным, в том числе и краснобровому, не видать больше красных бровей! Собачка так и запрыгала от радости, когда увидала, что ее любимцу завязывают глаза: играть, значит, с ним в жмурки, как вон, она видала, солдаты, бывало, в полку игрывали. Одному это завяжут глаза, а другие бегают от него, а он их ловит, растопырив руки, а Маланья за ним бегает, лает, хватает его за штаны, весело так! А он – хвать! И поймал Маланью. Веселье на всю роту.
А вон сухой подьячий подходит к Ваське и к краснобровому и подносит к ним шапку. Вот смешно!
– Вымай жребии! – кричит он Ваське.
Васька сует руку мимо шапки, глаза-то завязаны, так не видать, а потом и в шапку, и вынимает из шапки какую-то маленькую бумажку. Подьячий берет ее...
– Пустой! – громко кричит подьячий и подносит краснобровому.
И краснобровый вынимает бумажку.
– Пустой! – опять кричит подьячий.
«Что они делают? Вот выдумали игру», – думается собачонке, и она глаз не сводит с этой новой игры, и так бойко, весело мелет ее хвост в воздухе.
– По второму жребию! – кричит другой подьячий, толстый.
Опять подносят шапку к Ваське. Опять Васька вынимает бумажку.
– Повесить! – кричит подьячий.
Собачонка вздрагивает. Уж не ее ли повесить? Ведь она слышала, что – вешают собак.
Но вздрагивает и Васька... и опускает руки и голову. Ему на шею тоже надевают веревку. Что же дальше будет? Вот смешная игра!
Подьячий опять подносит шапку к краснобровому. Тот опять вынимает бумажку.
– В Рогервик сослать! – кричит подьячий и развязывает краснобровому глаза.
А вот что-то опять кричат, и вместо жмурок те, что с завязанными глазами, уже висят в воздухе и болтают ногами, только арестантские коты стучат друг о дружку.
А там других начали класть на какие-то подмостки и сечь большими, толстыми треххвостными ремнями, те кричат:
– Ох, батюшки! Православные, простите! Ой, ох, ой!
А тут этим ноздри рвут щипцами... кровь... крики...
* * *
Весна 1772 года. По дороге к Рогервику плетется партия арестантов, погромыхивая кандалами. Все, и арестанты с вырванными ноздрями, и конвойные, идут вперемешку, разговаривают, шутят, смеются.
Чего ж не смеяться! Все равно всем жить скверно, да и недолго.
Впереди партии бежит собачонка, веселая такая, довольная, хвост бубликом.
– ...«Маланья» да «Маланья», так за Маланью и пошла.
– И в Турции, баишь, была?
– Была. Под Кагулом на штурм с нами ходила, на самого турецкого визиря лаяла.
– Ишь ты, занятная. А давно у вас?
– С самой турецкой земли, как под забором солдаты подняли щенка, жалко стало, все же оно творение.
– Знамо, творение жалко. И в Москве была?
– И в Москве, и в карантинах бывала, и мор мы с ей на Москве перебыли. Уж и времячко же было – и-и! И не приведи Бог, а особливо как мы за Богородицу шли. А вон что вышло!
– Что ж! Теперь на Бога поработаете – зачтется вам.
– Так-то так, а все бы семью повидать хотелось.
– Оно нешто, да и нам не лучше.
Одной Маланье весело: радостно поглядывает она на своего краснобрового любимца, и тому на сердце легче делается... Скоро Рогервик, говорят. Маланья и Рогервик увидит, видала она и Кагул, и Яссы, и Хотин, и Киев, и Москву, а тут и Рогервик. Вот веселье! Только изредка она вспоминает высокого, доброго хохла, что иногда носил ее за пазухой. Куда он сгинул?
* * *
В тот же день, очень далеко от Рогервика, именно в Киеве, по Крещатику, звеня валдайским колокольцем под дугою, бежала ямская тройка, впряженная в крытую дорожную брику. По пыли, густым слоем насевшей на кузов брики, можно было видеть, что не одну сотню верст проколесила она по неизмеримым и неисходимым трактам матушки-России.
У одного из перекрестков тройка должна была несколько приостановиться, потому что самою серединою улицы проходила, неприятно звякая кандалами, партия арестантов.
Арестанты препровождались сворами, навязанные на длинные канаты. В передней своре выдавалась атлетическая фигура одного арестанта, смуглого, красивого, с выбритою до половины головой.
Из дорожной брики выглядывали два женских лица. Это были Лариса и Настя. В той же брике, против них, помещалась кругленькая фигурка мужчины. Это был веселый доктор.
При виде атлета-арестанта у веселого доктора невольно вырвался крик сожаления. Наскоро порывшись в кармане, он ловко бросил червонец прямо к ногам атлета. Атлет глянул на брику, узнал того, кто ему бросил червонец, перекрестился, еще взглянул на доброе лицо доброго человека и безнадежно махнул рукой. Вот тебе и «хатка», вот тебе и «вишневый садочек».
Партия прошла далее. Но доктор не мог не заметить, что рядом с первою сворою арестантов шла высокая красивая, с огромной черною косою девушка и плакала.
– Бедная Горпина! – сказал как бы про себя доктор, а потом, обращаясь к конвойному солдату, спросил: – Куда, служба, гонят их?
– У Сибирь, – был ответ.
– Бедная, бедная Горпина, – повторил доктор.
– Кто это, Крестьян Крестьяныч? – спросила Лариса с горестным участием.
– Да все невинные дети, как и вы, милые девочки, – с горькою улыбкою отвечал веселый доктор. – Не там, так здесь, не так, так эдак – придет наносная беда, перемелет в муку человека – и нету его. Где? – спросишь – куда пропал человек? – «У Сибирь». И у всякого-то, милые девочки, есть своя проклятая «Сибирь».
– И своя «Турция», – тихо, многознаменательно добавила Лариса.
– А когда их не будет? – спросила Настя.
– Когда? Эх, беляночка! Не скоро... Когда люди поумнеют.
Видение в публичной библиотеке
Исторический сон
I would recall a vision which
I dream’a Perchance in sleep.
Byron. «The dream»[13]
Ясный тихий июльский день клонится к такому же ясному тихому вечеру. Спускающееся где-то там, за финляндским горизонтом солнце обливает червонным золотом массивный купол Исаакия, острые шпицы Адмиралтейства и Петропавловский собор. Вдоль Невского тянутся привычные для глаз световые полосы от правой стороны к левой, а гигантская тень от Публичной библиотеки все вырастает и тянется все дальше и дальше.
Тихо в Публичной библиотеке. Время стоит летнее, жаркое. Учащаяся молодежь еще не съезжалась к приемным экзаменам, набирается сил среди родных полей и лесов; остальная петербургская интеллигенция отдыхает по дачам, по деревням, на водах; ученые люди делают свои летние ученые экскурсии; в Петербурге остаются только товарищи министров, наборщики да дворники. Читальные залы и отделения Публичной библиотеки пусты. Оттого и тихо так.
Только в Ларинской зале над большим столом наклонилась седая борода и шуршит жесткими пожелтевшими листами старой книги. В «Россике», в углу, виднеется классическая фигура спящего сторожа. Тихо кругом, так тихо, точно на кладбище. Да это и в самом деле великое, мировое кладбище голов человеческих, гениальных, умных и – увы! глупых. Только извне в это тихое пристанище смерти и бессмертия доносятся неясные отзвуки жизни. То задребезжит нетерпеливый звонок конки, то прогромыхает по глухому торцу извозчичья карета, отзовется где-то гармоника, и опять все тихо. На карнизах, за окнами, голуби хлопают крыльями об стены и гнусливо воркуют. То прорежет воздух резкий писк стрижей – и словно растает в этом же воздухе.
Как тихо, как хорошо, как задумчиво работается среди этого могильного уединения, летом, в нашем драгоценном книгохранилище! Только тот, кто работает в нем летом и раздумывался над отошедшею в вечность жизнью и мыслью людей, имена, чувства, деяния и помыслы которых как бы замурованы, словно египетские мумии в катакомбах, в этих бесконечных рядах массивных шкапов и витрин, только тот поймет чистые наслаждения, даваемые душе этой работой, а иногда и жгучую, обидную тоску о том, что все это, отошедшее в вечность, должно было бы быть не тем, чем оно было...
Удар крыльев голубя о стекло выводит седую бороду из задумчивости. Он встает и разминает окоченевшие от продолжительного сидения члены.
Влево, в мраморном кресле, с обращенным к западу бледным лицом покоится мраморный старик. Нервное, худое, высохшее до костей лицо его глубоко задумчиво и глубоко скорбно, до того скорбно, что оно кажется перекошено от злобы. Но это не злоба, а скорбь, беспросветная, безнадежная за все человечество скорбь.
Седая борода тихо, как-то робко приближается к мраморному старику, сидящему в глубоком мраморном кресле. Костлявые худые руки с тонкими и крючковатыми, словно когти хищной птицы, пальцами, кажется, бессильно впились в мрамор ручек кресла да так и окаменели в своем бессилии. Худое, остроконечное и ссохшееся, как у Агриппины-старшей, лицо вытянуто вперед, словно старик, что-то созерцая, вслушивается во что-то, что не от мира сего, но и от этого именно мира. Белки мраморных глаз кажутся белками слепого, который прислушивается к работе своего собственного мозга, заключенного под этим мраморным черепом. Жидкие, тонкими прядями волосы обрамляют покрытый резкими морщинами гениальный лоб. Голову охватывает узкая ленточка, – ну сущая Агриппина-старуха! Тонкие губы до того ввалились в беззубый рот и до того сжаты, что, кажется, деснам больно, хоть они и мраморные. Жестко сидеть старику, уж он слишком долго сидел на своем веку, бичуя зло и глупость человеческую, издавая книгу за книгой, которые, как беспощадная артиллерия, пробивали брешь за брешью в отживших, но все еще крепких, как стены пеласгийских построек, человеческих ложных верованиях, и под него подложили мраморную подушку, чтобы ему не жестко было сидеть и громить старые стены человеческой глупости.
Седая борода остановилась в немом созерцании перед этим страшным стариком.
На мраморном крыле кресла глубоко прорезаны резцом скульптора слова:
Houdon, 6 fecit[14]. 1781
«Так вот ты где, могучий фернейский отшельник. Как ты стар, и худ, и беспомощен. А не мощным ли дыханием этого беззубого старушечьего рта ты затушил костры инквизиции, пылавшие столько столетий и приносившие кровавые гекатомбы тому доброму Богу, который весь был кротость и всепрощение? Не твои ли жалкие костлявые руки остановили безжалостные руки палачей, занесенные в застенках и в мрачных тюрьмах над жертвами человеческой глупости и неправды? Не эти ли слабые руки расшатали старые порядки всего мира и внесли в этот мир новый светоч знания, правды, человечности? А как ты теперь жалок! Тебя притащили сюда с какого-то чердака, где ты был заброшен с старым негодным хламом, и поместили на почетное место, рядом с „котом царя Алексея Михайловича“.
Седая борода подходит к витрине, из которой выглядывает этот котик «Тишайшего». Под ним две подписи, одна по-русски, та, что приведена выше, другая – французская, современная самому котику:
Le vray portrait du chat du grand DUC de Moscovie[15]. 1661
«Здравствуй, киця. Как ты терся и мурлыкал около державных ног „Тишайшего“? Хорошо ли исполнял свою службу, хорошо ли ловил в царском терему мышек, не щадя живота своего? А может, и воробышков ловил вопреки государевым указам? И по крышам гулял с дворскими кошечками? А служил ли ты верою и правдою, без мечтанья, благоверному государю и великому князю Федору Алексеевичу? Ведь этот портрет снят с тебя как раз в год рождения этого царевича, и ты, верно, играл с ним в его колыбельке. А дожил ли ты, старый кот, до рождения благоверной царевны Софьи Алексеевны и благоверного царевича Петра Алексеевича?»
Глубоко задумалась седая борода, стоя у витрины с котиком. Ведь и портрет исторической зверушки способен навести на серьезные исторические размышления: для историка все, всякая тряпка от прошлого, портрет кота, – все это материал, как для геолога зуб мамонта.
Тень от здания библиотеки растет и тянется все дальше, дальше. Бьет восемь часов.
Кто ж это смотрит так величаво на задумавшуюся седую бороду? Это она, великая Семирамида Севера. Во весь свой царственный рост выступает она из золотой рамы. Величаво поставил ее на своем полотне даровитый художник. Около нее жертвенник с горящим над ним огнем. Около нее книги, следы ее царственных работ и дум. Атласное тяжелое белое платье, кажется, скрипит у нее на высокой груди от дыхания. Горностаевая мантия небрежно спущена с плеч и тянется по ковру.
Что выражает ее неуловимая улыбка? А то, что она умнее всех, могущественнее и, как женщина, хитрее. Значит, была хитра, коль одурачила этого мраморного старика, этого злюку, ядовитого язычка которого боялась вся Европа. Храповицкий наивно записал в своем «Дневнике» эту ее ловкую проделку под 6 февраля 1791 года. «Австрийцы за нас не вступятся, – говорила Семирамида Севера Храповицкому в то время, когда тот занимался „до поту перлюстрацией“, – им обещан Белград от пруссаков, кои с согласия Англии берут себе Данциг и Торунь. Я послала письмо к Циммерману в Ганновер по почте, через Берлин, дабы через то дать знать прусскому королю, что турок спасти он не может. Я таким образом сменила Шуазеля, переписываясь с Вольтером»[16].
Чисто женская проделка! Ловкая Семирамида знала, что и Фридрих-Вильгельм Прусский занимается в Берлине, как и она сама в Петербурге, «перлюстрацией» чужих писем и непременно прочитает ее коварное письмо к Циммерману, как и в Париже, прежде, читали ее письма к Вольтеру. А мудрый философ думал, что она пишет ему лично: нет, ей хотелось свалить Шуазеля этим письмом, и она свалила его.
В другом месте, под 5 августа того же года, у Храповицкого записано: «В продолжение разговора я напоминал государыне о смене Шуазеля перепискою с Вольтером и что ныне по корреспонденции с Циммерманом сменили Герцберга. „И впрямь так, – изволили сказать, – я и забыла“.
Где же помнить всех, кого вы провели и вывели!
Седая борода постояла перед портретом, постояла, покачала задумчиво головой и снова присела к столу, где лежала большая старая книга с жесткими пожелтевшими листами. И опять та же невозмутимая могильная тишина и те же слабо доносящиеся извне отзвуки жизни, замирающий стук экипажей, замирающий в воздухе глухой звон далекого колокола.
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он...
Далекою стариною, молодостью повеяло от этого стиха, словно от засохшего и полинялого лепестка розы в пожелтевшем от времени альбоме.
А эти книги на полках, массы книг, это же засохшие лепестки жизни, следы дум, страданий, счастья: это стоят на полках высушенные человеческие головы, сердца и остовы покойников.
Седая борода, отодвинув от себя книгу, откинулась на спинку кресла и задумалась. Ни над чем так хорошо не думается, как над умной книгой.
Но что это, как будто стукнуло там, в той половине залы, где сидит мраморный старик? Нет, это не так, это треснул на полке где-то пересохший переплет книги.
Стук повторился. Как будто скрипнула шашка паркета, другая: и паркет пересох, как кожаный переплет книги.
Слышатся как будто шаги в «Россике». Но это, конечно, сторож. Нет, сторож спит.
Что же это? Шаги приближаются, медленные тяжелые шаги. Да, кто-то идет.
Седая борода оглядывается туда, откуда приближаются шаги. Что же это такое! Происходит что-то непостижимое, страшное...
Это идет мраморный старик, что сидит в мраморном кресле. Не может быть, чтобы это был он – мрамор не может ходить. Но нет, он идет: полы мраморной мантии шевелятся; ноги в мраморных сандалиях передвигаются мерно и медленно, как старческие ноги вообще; голова старика заметно трясется, плотно сжатые губы беззвучно шевелятся и безжизненно-мраморные глаза светятся жизнью – они устремлены вперед, туда, где в золоченой раме стоит у пылающего жертвенника Семирамида Севера с опустившеюся с плеч горностаевою мантией.
Что же это такое? Не бред ли расстроенного воображения? Не сон ли? Нет, вон голуби по-прежнему воркуют за окном и шуршат о карниз крыльями, с Невского доносится глухой гул удаляющихся экипажей – все тот же вечерний звон доносится издалека и точно тает в воздухе.
Зашуршало что-то вправо, и словно стена дрогнула. Это дрогнула золотая рама, задрожало полотно и от него медленно, неслышно отделилась женщина в горностаевой мантии: она вышла из полотна и как тень сошла на пол, шурша складками атласного платья
Вот она двигается, волоча за собою горностаевую мантию. На лице все та же приветливая, но загадочная улыбка.
И мраморный старик, и женщина в горностаевой мантии сближаются, идут навстречу друг другу. И лицо мраморного старика скривилось улыбкой. Опущенные руки поднимаются и почтительно складываются у сердца, дрожащая голова низко наклоняется.
– Ah! C’est vous, mon philosophy[17], – слышится тихий ласкающий голос.
– C’est moi, madame! C’est moi, qui salue la grande Semiramis du Nord[18], – шепчут мраморные губы.
– Какая счастливая встреча! Что привело вас в мое скромное царство? А меня еще так огорчило было ваше письмо к князю Голицыну, в котором вы писали обо мне: «Оu est le temps, que e n’avais que soixante et dix ans? ‘aurais couru l’admirer! Оu est le temps que ‘avais encore de la voix! e l’aurais chantee sur tout le chemin du pied des Alpes a la mer d’Archan-gel!»[19]. А теперь вы пришли ко мне, как я рада!
– Да, государыня, я пришел к вам, несмотря на мои годы: меня давно манила к себе великая северная звезда... Я имел счастье писать вашему величеству: «C’est maintenant vers l’etoile du nord qu’il faut que tous les yeux se tournent. Votre maeste imperiale a trouve un chemin vers la gloire inconnue avant elle a tout les autres souverains!»[20]. И вот я у ваших ног.
Что-то захрустело, вроде костей, и мраморный старик опустился на колени.
– О! Встаньте! Не вам склонять передо мной ваши достойные колени: весь мир должен склониться перед вашим гением.
И она тихо положила руку на мраморное плечо старика.
– Встаньте!
И старик, стуча костями и мрамором, встал.
– Я повинуюсь вашему величеству. Но вспомните, что я писал вам, когда вы любезно приглашали меня на ваш карусель: «La reine Falestrice ne donna amais de carouzel, elle alia caoler Alexandre le Grand, mais Alexandre serait venu vous faire la cour»[21].
– И вы пришли вместо него? Это очень любезно с вашей стороны.
– Смею ли я, государыня, так думать! Я, скромный отшельник Фернея, жалкий старик.
– Не говорите так! Весь мир вам рукоплещет...
– Рукоплескал, государыня... Теперь мир рукоплещет только вам!
– Oh! vous me caolez, mon philosophe[22].
– Non, madame, tout le monde, tout L’univers vous caole![23]
– О! Вы непобедимы...
– На словах, государыня, только... А вы...
– Что я! Слабая женщина... Не будь у меня друзей таких, как вы, я была бы ничто... Помните, я писала вам по поводу ваших слов об Александре Македонском: «Поистине, государь мой, я более дорожу вашими сочинениями, чем всеми подвигами Александра, и ваши письма доставляют мне более удовольствия, чем угодливость, которую бы мне оказал этот государь».
– Вы слишком милостивы, государыня, – осклабляется беззубый рот.
– О нет! Я только справедлива. Вы же ко мне действительно более чем милостивы.
– Чем же, ваше величество?
– А хоть бы вашими письмами к князю Голицыну.
– А разве он давал их читать вам, государыня?
По лицу вопрошаемой скользнула неуловимая тень и спряталась в глазах.
– Да, показывал.
Но лицо ее говорило не то, что говорили уста. В ее тонкой улыбке сквозила картина, перенесшая ее в прошлое, в ее кабинет: у окна стоит Левушка Нарышкин и ловит муху, а в стороне, у особого столика, сидит Храповицкий и, утирая фуляром красное вспотевшее лицо, перлюстрирует письмо Вольтера к князю Голицыну; сама же она сидит за своим письменным столом и пишет тайное послание Фридриху Прусскому о разделе Польши: «Tout cela, monsieur mon frere, me confirme dans le sentiment que pour aller a eu sur, il sera plus conve-nable – de rendre mon parti en Pologne superieur par une somme considerable – pour a cheter cet etat qui n’attende que des marchands pour se vendre»[24].







