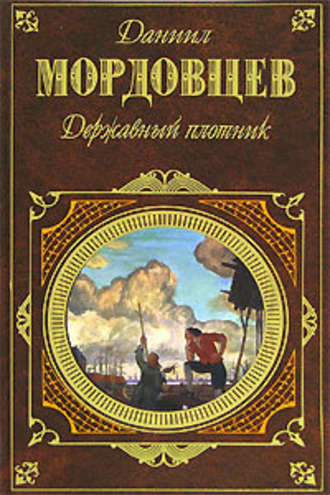
Даниил Мордовцев
Державный плотник
Сидение Раскольников в Соловках
Историческая повесть из времени начала раскола на Руси в царствование Алексея Михайловича
I. БУРЯ НА БЕЛОМ МОРЕ У СОЛОВОК
По Белому морю, вдоль Онежской губы, по направлению к Соловецкому острову медленно плыла небольшая флотилия из кочей, наполненных стрельцами. Кочи шли греблей, потому что на море стояла невозмутимая тишь, наводящая одурь на мореходов. Весна 1674 года выдалась ранняя, теплая, и вот уже несколько дней солнце невыносимо медленно от зари до зари ползло по безоблачному небу, почти не погружаясь в море даже ночью и нагоняя на людей тоску и истому. Марило так, что казалось, и небо было раскалено, и от моря отражался жар, и груди дышать было нечем. Кругом стояла такая тишина, что слышен был малейший плач морской чайки где-то за десятки верст, хотя самой птицы и не было видно, да и ей в эту жарынь не леталось. Весла гребцов медленно, лениво, неровно опускались в морскую лазурь и блестели на солнце спадавшими с них алмазными каплями, а с самих гребцов по раскрасневшимся лицам катился пот, смачивая разметавшиеся и всклокоченные пряди волос и бороды.
На переднем, на самом большом из всех кочей судне, у кормы, под натянутым на снасти положком сидит старый монах и, водя грязным толстым пальцем по развернутой на коленях книге, читает, гнуся и спотыкаясь на титлах да на длинных словах. На трудных словах особенно трясется его седая козелковая бородка:
– «И от Троицы князь великий поеде и с великою княгинею и с детьми в свою отчину на Волок Ламской тешитися охотою на зверя прыскучаго и на птица летучая. И тамо яко некоим от Бога посещением нача немощи, и явися на позе его знамя болезненно, мала болячка на левой стране на стегне, на изгиби, близ нужного места, с булавочную голову, верху у нея нет, ни гною в ней нет же, а сама багрова. И тогда наипаче внимаше себе, яко приближается ему пременение от маловременнаго сего жития в вечный живот»...
– «От маловременного сего жития в живот вечный»... вон оно что! А все никто как Бог, – рассуждал монах, переводя дух и поправляя на голове скуфейку. – Уж и теплынь же, воевода.
– Что и говорить, тепла печка Богова, – отвечал тот, кого назвали воеводою, сидевший тут же под холстовым напястьем.
А с задних судов доносился говор и смех, но как-то вяло, лениво. По временам кто-то затягивал песню, другой подхватывал – и лениво, монотонно тянули:
Сотворил ты, Боже, да и небо-землю.
Сотворил же, Боже, весновую службу.
Не давай ты, Боже, зимовые службы,
Зимовая служба молодцам кручинна.
Молодцам кручинна, да сердцу неусладна...
– Али в экое пекло лучше! – протестует чей-то голос.
– «...И посла по брата своего по князя Ондрея Ивановича на потеху к себе. Князь же Ондрей приехал к нему вскоре. Тогда князь великий нужею выеха со князем Ондреем Ивановичем на поле с собаками», – продолжал гундосить монах под пологом.
...Ино дай же, Боже, весновую службу,
Весновая служба молодцам веселье.
Молодцам веселье и сердцу утеха.
– ...А я в те поры был у его, у Стеньки, в водоливах на струге, как он гулял с казаками. А она, полюбовница ево, царевна персицка, сидит на палубе, на складцах, словно маков цвет, изнаряжена, изукрашена, злато-серебро на ей так и горит. А Стенька выпил-таки гораздо, да и ну похваляться перед казаками: мне, говорит, все нипочем, всего добуду и Москву достану. Да и подходит это к своей полюбовнице, берет ее на руки, словно дитго малую, подносит к борту да и говорит: «Ах ты, Волга-матушка, река великая! Словно отец с матерью ты меня кормила-поила, златом-серебром, славой-честию наделила, а я тебя ничем не одарил... На ж тебе, возьми!» Да так, словно шапку, и махнул в воду свою полюбовницу.
– Что ты, братец ты мой! И утопла?
– Как топор ко дну.
Это ведут беседу стрельцы, сидя на носу передового судна. Судно это наряднее всех остальных кочей. Нос и корма его украшены резьбой и расписаны яркими цветами. На вершине мачты, над вертящимся кочетком, водружен восьмиконечный крест. Пониже, в неподвижном воздухе висит на натянутой снасти красный флаг с изображением Георгия Победоносца. Это судно воеводское. Несколько чугунных пушек поблескивает на солнце, выглядывая за борт.
– ...Что ж, воевода, говоря по-божьему, их, старцев, дело правое, – говорил монах, – двумя персты все мы от младых ногтей маливались, и я, и ты. Вон и в этой книге, гляди-тко, изображен старец, видишь? Вон у его перстики-то два торчат, аки свечечки, а большой перст пригнут.
И монах тыкал пальцем в изображение на одной странице книги.
– Так-то так, я и сам не больно за три персты-то стою, – нехотя отвечал воевода, – да они за великого государя не хотят молиться: еретик-де.
– Ну, это дело великое, страшное: об ем не то сказать, а и помыслить-то, и-и! Спаси Бог!
Они замолчали. Молчали и стрельцы, только гребцы медленно и лениво плескали веслами да назади тянули про «весновую службу»:
А емлемте, братцы, яровы весельца,
Да сядемте, братцы, в ветляны стружочки.
Да грянемте, братцы, в яровы весельца,
В яровы весельца – ино вниз по Волге.
– Вон и они про Волгу поют. Хороша река, вольна, – снова заговорил стрелец.
– Как же ты с Волги сюда попал, коли у Разина служил?
– Да у него-то я неволей служил... Допрежь того служба моя была у воеводы Беклемишева, и там, как Стенька настиг нас на Волге да отодрал плетьми воеводу...
– Что ты! Воеводу! Беклемишева?
– Ево, да это еще милостиво, диви что не утопил... Ну, как это попарил он нашего воеводу, так и взял нас, стрельцов, к себе неволей. А после я и убег от него.
– И ноздри тебе на Москве не вырвали?
– За что ноздри рвать? Я не вор.
– А ты видел, как потом Стеньку-то на Москве сказнили?
– Нет. В те поры мы стояли в черкасских городех, потому чаяли, что етман польской стороны, Петрушка Дорошонок, черкасским людям дурно чинить затевал.
– А я видел. Уж и страсти же, братец ты мой! Обрубили ему руки и ноги, что у борова, а там и голову отсекли, да все это – на колья... Так голова-то все лето на колу маячила: и птицы ее не ели, черви съели, страх! Остался костяк голый, сухой: как ветер-то подует, так он на колу-то и вертится да только кости-то цок-цок-цок...
На западе, ближе к полудню, что-то кучилось у самого горизонта в виде облачка. Да то и было облачко, которое как-то странно вздувалось и как бы ползло по горизонту, на полночь.
– Никак, там заволакивает аер-от...
– И впрямь, кажись, облаци Божьи. Не разверзет ли Господь хляби небесны? – крестится монах.
– А добре бы было, страх упека.
Воевода расстегнул косой ворот желтой шелковой рубахи, зевнул и перекрестил рот.
Облачко заметно расползалось и вздувалось все выше и выше. Казалось, что в иных местах серая пелена, надвигавшаяся на юго-западную половину неба, как бы трепетала. Старый помор-кормщик, сидевший у руля воеводского судна, зорко следил своими сверкавшими из-под седых бровей рысьими глазками за тем, что делалось на горизонте и выше. Жилистая, черная, как сосновая кора, рука его как-то крепче оперлась на руль.
Слева, по гладкой, почерневшей поверхности моря прошла полосами змеистая рябь. Неизвестно откуда взявшаяся стая чаек с плачем пронеслась на восток, к онежскому берегу, которого было не видно. Душный воздух дрогнул, и кочеток заметался и заскрипел на верху воеводской мачты. Что-то невидимое затрепетало красным полотном, на котором изображен был Георгий, прокалывающий змия с огромными лапами.
– Ай да любо, ветерок! Теперь бы и косым паруском можно, – послышалось откуда-то.
– Напинай, братцы!
– Стой! Не моги! – раздался энергичный голос старого кормщика-помора.
Вдали, на западе, что-то глухо загремело и прокатилось по небу, словно пустая бочка по далекому мосту. Солнце дрогнуло как-то, замигало, бросило тени на море и скоро совсем скрылось. Высоко в воздухе жалобно пропискнула, как ребенок, какая-то птичка, и скоро голос ее затерялся где-то далеко в неведомом шуме.
– Не к добру, – проворчал старый кормщик, вглядываясь во что-то по направлению к Соловкам. – На экое святое место да ратью идти!..
– Ты что, дядя, ворожишь? – спросил, подходя, тот стрелец, что служил у Стеньки Разина в водоливах.
– Что! Зосима-Савватий осерчали, дуют.
– Что ты, дядя! За что они осерчали?
– А как же! На их вить вотчину, на святую обитель ратью идем.
– По делам, не бунтуй.
Небо загремело ближе, и как бы что-то тяжелое, упав и расколовшись, покатилось по морю. Порывом ветра, неизвестно откуда сорвавшегося словно с цепи, метнуло в сторону полотняный намет и, потрепав в воздухе, бросило в воду. Монах, придерживая скуфейку, прятал под полу книгу, а воевода торопливо застегивал ворот рубахи и крестился «Свят-свят-свят... »
Торрох! Раскололось и обломилось, казалось, все небо над головами оторопелых стрельцов, по-над морем там и здесь пронеслись огненные стрелы, снова разорвалось небо, и хлынул дождь.
* * *
Все кругом крестились, полной грудью втягивая посвежевший влажный воздух и выставляя под дождь разгоревшиеся головы и лица.
– Ай да важно! Разлюли-малина, – раздавались веселые голоса.
Кто-то запел по-детски: «Дожжик-дожжик, припусти!..» Один старый кормщик глядел сурово, заставляя судно поворачиваться левее.
– Водоливы! К плицам! – громко закричал он. – Воду выливай.
Действительно, воды налило много. Кочи стали идти грузнее. Намокшее красное полотно с Георгием Победоносцем болталось, как тряпка, тяжело хлеща по снастям. Ветер крепчал и вздымал море, которое, казалось, распухало, а местами прорывалось и белело тяжелыми брызгами. Беляки шли грядами, и кочи, сбившись с первого курса, тыкаясь в белые буруны носами, метались в беспорядке, как щепки. Кое-где слышались испуганные голоса, резкие выкрики кормщиков.
Монах, упав на колени и ухватившись одной рукой за уключину, громко молился и вздрагивал всем телом, когда его окатывало солеными брызгами: «Господи, спаси! Всесильный, не утопи! Пророк Иона! Пророкушка, матушка! Во чреве китов», – бессвязно стонал он, поднимая правую руку к небу, которое на него свирепо дуло и брызгало водой. Воевода, ухватившись обеими руками за мачту, испуганно озирался, бормоча не то молитвы, не то заклинания: «Охте мне! Светы мои! Зосим-Савватий! Соловецки! Охте, охте!» Стрелец, что служил у Стеньки Разина водоливом, торопливо сбрасывал с себя сапоги, рубаху и порты, как бы собираясь броситься в море и плыть, сам не зная куда.
Одно судно, на котором еще недавно раздавалась песня о «весновой службе», потеряв руль, отбилось в сторону и перекидывалось с гребня на гребень, как пустое корыто. Другие кочи также разбились врозь и то выскакивали на белые гребни валов, то ныряли, болтая в воздухе жалкими мачтами, словно маленькими веретенами. Ветер завывал и взвизгивал, как бы силясь растрепать и оборвать ничтожные снасти, которые потому именно и не обрывались, что были слишком ничтожны...
Еще раз небесная пелена разодралась сверху донизу, и треснул гром; звякнул второй раз еще резче и заколотил по небу сотнями орудий.
На отбившемся и потерявшем руль судне раздался отчаянный крик: «О-оо! Православные! Батюшки! Спасите, кто в Бога верует!»
– Наляг на гребки, братцы! С Богом, наляг! – хрипло командовал кормщик воеводского судна, направляя ход его к тому месту, откуда неслись отчаянные крики.
Гребцы налегли всей грудью, то погружая весла глубоко в пенящиеся волны, то скользя лопастями по бокам валов. Судно вздрагивало, то тыкаясь в воду носом, то западая кормой, так что кормщик, казалось, правил свое судно на водяную перекатывающуюся гору. Судно, потерявшее руль, видимо, потопало: края его чуть заметно чернели в пенящихся бурунах, и только виднелись руки, протягивающиеся к небу, словно рассвирепевшее небо собиралось бросить им спасительные веревки, а на мачте и на снастях отчаянно бились те, которые искали спасения повыше от зияющей и клокочущей бездны.
Не успело воеводское судно настигнуть погибавшее, как последнее совсем захлестнуло темно-зеленым с белым гребнем буруном. Руки, тянувшиеся к небу, разом упали и замолкли на клокочущей поверхности моря, то подымаясь, то исчезая в воде.
– Кидай причалы! Подавай концы, детушки! – не выпуская из рук руля, повелительно и с мольбою кричал старый помор-кормщик.
Взвились в воздухе, разматываясь и кружась волчком, бичевы и веревки и упали в воду в том месте, где потопавшие боролись с волнами, бледные, с исказившимися от ужаса лицами. Иной, видимо, с отчаянием и злобой погибающего отбивался от топившего его, не умевшего плавать и держаться на воде соседа. Иные руки хватались за веревки, другие, безнадежно поколотив воду, исчезали совсем под нею. Более умелые и сильные боролись с волнами сами и плыли к спасительному судну.
– Православные, спасите Киршу! Полуголове помогите, батюшки! – взмолился воевода, забыв свой собственный страх.
А Кирша, стрелецкий полуголова, взобравшись на мачту потонувшего и уже скрывшегося под водою судна, не чувствуя, что сама мачта опускается все ниже и ниже, умолял сиплым голосом:
– Православные! Отцы мои! Не покиньте! Тону.
Набежавшим буруном тряхнуло мачту, руки Кирши скользнули по мокрому дереву, и он, подняв руки к небу, исчез под водою.
– Господи! Помяни во царствии раба... Господи! – с ужасом шептал воевода, безумно озираясь.
– Да, прогневались на нас святые угоднички Зосима-Савватий за то, что мы хотим их святую обитель разорить, – твердил старый кормщик. – Преподобные, помилуйте!
II. ЧЕРНЫЙ СОБОР И ПОСОЛ КИРША
На другой день после грозы и бури стояло чудное летнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетевшею бурею и разметавшее стрелецкую флотилию, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубее, чище и приветливее, чем было до бури. Остров, святая вотчина преподобных Зосимы и Савватия, с темною зеленью, иглистыми лесами и резко очерченными берегами, у которых кружились, реяли в прозрачном воздухе, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартыны-рыболовы и острохвостые стрижи, казалось, радостно тянулся к небу своими церквами и башнями, словно так и вышедшими, как из купели, из голубой морской пучины. Спасшиеся от потопления стрелецкие суда-большаки и кочи тихо, едва заметно колыхались у берега на поверхности глубокой Соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и серыми, поросшими мохом камнями.
Но в самом монастыре было неспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырские ворота и все входы и выходы были заперты. По стенам ходили часовые с ружьями, зорко следя за тем, что делалось на берегу, около стрелецких кочей, и прислушиваясь к смутному говору и смятению, господствовавшим в стенах обители. Соборный колокол, разнося гул далеко по острову и по морю, не то бил сполох, не то созывал черный собор, всю братию и богомольцев, священников и диаконов, соборных старцев и братию рядовую и больничную, монастырских служек и трудников, служилых людей, усольцев и всех православных христиан. В то же время пушкари монастырские по башням и бойницам чистили и заряжали наряд, пушки и пищали затинные. Монастырские голуби, которым так привольно жилось в монастыре на всем готовом, и сизые, и белые волосатые, и глинистые, рудо-желтые, и турмана всех цветов и «в штанцах», белоглазые глуповидные галки, космополиты воробьи и стрижи, охотники до всего высокого и грандиозного, до высоких церквей и грандиозных скал, – все эти пернатые отшельники и певчие, выпугнутые из своих келий-гнезд необычным движением, звоном и суетнею на стенах и башнях, шумно кружились над монастырем и кричали на все птичьи голоса, не зная, где присесть и что думать о суетившейся черной братии, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошек для своей крылатой скромной братии. Один особенно любимый черною братиею глинистый турман «в штанцах», видя общую суматоху и приняв ее сглупу за общее торжество, такие выделывал в воздухе кувырки, что Исачко Воронин, сотник и стратег всего монастырского воинства, зарядив на монастырской стене последнюю затинную пищаль, так залюбовался на воздушные кувырки любимого монастырского голубя и так задрал свою бородатую голову к небу на этого сорванца-птицу, что чуть не опрокинулся со стены.
На звон колокола из всех монастырских келий, словно черные тараканы из щелей, посыпала черная братия: из пекарен и трапез, из прядильных и дубильных изб, из странноприимных и больничных домов и из схименных конурок. Все это, как пчелы, гудело и торопливо, насколько могло, направлялось к собору, на площадке у которого уже виднелась старшая монастырская братия, отцы строители и рядители: архимандрит Никанор, необыкновенно большебровый и горбоносый старик, келарь Нафанаил, кругленький и пузатенький старичок с красным носом и бородкою в виде двух клоков немытой шерсти, отец Геронтий, сухой и длинный, как сыромятный кнут, чернец, с лицом испостившегося «мурина», городничий старец Протасий – остробородатый, с плутоватыми глазами постный лик. Тут же и мирские лица – сотник Исачко, уже сошедший со стены, и сотник же кемлянин Самко: первый – косой на оба глаза, но необыкновенно меткий пушкарь со вздернутым носом и бородою, второй – с покляпым носом рыжий мужик с рыжею, широкою, как лопата, бородою.
Тут же в кругу стоял и стрелецкий полуголова Кирша, которого накануне мы видели на мачте погибшего судна. Кирша не утонул: он погрузился было в море, но его зацепили багром за кафтан и спасли. У Кирши в руках какая-то бумага. Рядом с ним – тот монашек с козелковой бородкой, что читал на море воеводе книгу о преставлении государя и великого князя Василия Ивановича.
Сборище у соборного круга увеличивалось с каждою минутой. Сошлись не только монастырские жители, но и пришедшие издалека, из всех концов Московского государства богомольцы и богомолки – из Архангельска, из Москвы, Сибири, с Дону, Волги и даже из черкасской земли. Был тут и галанский немец из Амбурха-града, имевший торговый дом в Архангельске и часто наезжавший в Соловки для покупки у братии поташу, смолы и рыбьего зуба; это был бритый, круглощекий, с голубыми глазами за пивною слюдой немец, и звали его Каролусом Каролусовичем. Каролус Каролусович тоже пришел полюбопытствовать, по какому случаю такой собор в монастыре. Вместе с ним и с семейством архангельского купца Неупокоева, приехавшим поклониться соловецким угодникам, вышла к собору и «саглицкая» немка мистрис Пристлей, давно жившая в Архангельске со своим мужем, агентом одного лондонского торгового дома мистером Пристлеем, и известная всем архангельцам под почетным титулом «саглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой». Это была высокая сухощавая женщина с розовыми щеками, белыми и выдающимися, как у кролика, зубами и глинистыми, как перья у голубя «в штанцах», волосами. Амалея Личардовна приехала в Соловки просто из любопытства, посмотреть на это московитское, как ей казалось, Уэстминстерское аббатство. В долгое пребывание в Архангельске она порядочно выучилась говорить по-русски и была особенно хорошо знакома с женою Неупокоева и его дочкою, семнадцатилетнею девушкою Оленушкою, с которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское сборище и послушать, что там будет.
Когда они пришли к сборищу, то увидели, что какой-то широкоплечий, со сросшимися бровями стрелец, это был Кирша, подал архимандриту Никанору свиток с висевшею на шнурке черною печатью, а тот, развернув свиток и повертев его в руках как что-то такое, которое не знаешь с которого конца и начать, передал в руки сухому монаху с лицом мурина, грамотею Геронтию.
* * *
Геронтий развернул свиток, нагнулся к печати, как бы обнюхивая ее, выпрямился, как смоленый шест, кашлянул словно из бочки и тоже словно бы из бочки начал что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме отдельно выкрикиваемых слов: «сие наше», «со-со-соборное послание», «и завещание», «передаем и повелеваем неизменно хранити», «и по-и поко-и покорятися святей во-восточней церкви...» Далее отец Геронтий овладел трудностями дьяческой с завитками каллиграфии, и из бочки потекли плавно страшные слова:
– «Аще ли мя кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней церкви и освященному собору или начнет прекословити и противлятися нам, – гремело на весь черный собор, – и мы такового противника, данною нам властию от святаго и животворящего Духа, аще будет от освященнаго чина, извергаем и обнажаем его всякаго священнодействия и благодати, и проклятию предаем...»
При слове «проклятие» сдержанный ропот прошел по собору. Все груди, по-видимому, тяжело дышали. Все усиленно, мучительно-напряженно вслушивались в читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно – «проклятие»; кто-то кого-то проклинал... Кого же, как не их, черную смиренную братию, братию рядовую, служек и трудников? А за что? Вон какие мозоли они понатерли на своих грубых ладонях, работая на святых угодничков Зосим-Савватия... А их проклинают... Трудно дышит братия, слышно даже это усиленное дыхание...
Иные не то скорбно, не то укоризненно качают поникшими головами...
У отца Никанора ходенем ходят большие брови, а лицо все более и более краснеет. Старец Протасий, оглядывая исподлобья черную братию, глубоко вздыхает. Один Исачко-сотник косит своими глазами на Киршу-стрельца и как бы хочет сказать: «А попробуй, мы те покажем Кузькину мать...»
– «Аще же от мирского чина, – продолжают вылетать слова из сухой бочки, – отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православнаго всесочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен уд, допреже вразумится и возвратится в правду покаянием».
Отец Геронтий передохнул и поправил на висках и на лбу волосы, потому что и на лбу и на висках проступал пот. От волнения и натуги свиток дрожал в его руках и печать на шнуре колыхалась. Сотник Исачко от скуки, он человек ратный и письмо не его дело, его дело зелье нарядное да пищаль затинная, Исачко выследил над монастырем своего любимца голубя, турмана «в штанцах», и искоса опять поглядывал на его отчаянные кувырки в воздухе.
– Что дале, на нет чти, – нетерпеливо и дрожащим голосом понукнул архимандрит.
– «Аще ли кто не вразумится, – продолжал отец Геронтий, – и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего – да будет и по смерти отлучен и непрощен, и часть его и душа со Иудою-предателем и с роспеншими Христа жидовы и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, каменные и древеса да разрушатся и да растлятся, и той да будет неразрешен и не разрушен и яко тимпан бряцаяй во веки веков, аминь!»
* * *
Многие стояли бледные, дрожащие. Одни робко, недоумевающе поглядывали друг на друга, другие с какою-то робкою мольбою смотрели на старого архимандрита. Отец Никанор – стар бывал человек, живал и на Москве, и архимандричал в Саввином монастыре, и на глазах у царя бывал, и царь его жаловал. Что-то он, отец Никанор, скажет? Или так-таки всех и выдаст головой анафеме? Али на них и закона нет? А Никанор стоит заряженный, как затинная пищаль. Губы его дрожат. Он вспоминает, как в Москве, лет пять тому назад, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться от двуперстия и сугубой аллилуйи, пасть сметием и прахом под нозе Никона... И стыд за прошлый позор, и поздняя злость на свою тогдашнюю слабость потоком гнали его старую, но кипучую еще кровь от сердца к пунцовым щекам, к глазам. Вон Аввакум-протопоп не убояся собора нечестивых и пребысть крепок, аки адамант и яко скала нерушим...
Оленушка, взглянув на Никанора, испуганно прижалась к матери. Ее синие, как морская вода под ярким солнцем, длинные глаза расширились и потемнели.
* * *
– А что дале, после аминя? – резко вдруг спросил Никанор.
– После аминя скрепа дьяка Патриарша приказа, – отвечал Геронтий.
Никанор, взяв из рук его свиток и обведя глазами собор, выпрямил свое старое тело. Он видел, что грамота с проклятием произвела удручающее впечатление на всю братию и даже на ратных людей, преданных монастырю, между которыми, кроме местных поморов и усольцев, находилось несколько донских казаков, после поражений Стеньки Разина перекинувшихся с Волги на Белое море, на службу к соловецким старцам, ибо Стенька не раз говаривал своим удалым молодцам, что и он когда-то был в Соловках и маливался соловецким угодникам. Никанор всего более боялся, чтобы ратные люди под страхом анафемы не покинули монастырь на произвол судьбы, и потому сразу решил, что ему делать. Он подошел к Кирше, как к посланцу царского воеводы, и стал так, чтобы его видели ратные люди, особенно сотники Исачко и Самко.
– Ты по что прислан к нам? – спросил он громко посланца.
– Прислан я с грамотой, – отвечал Кирша, поводя сросшимися бровями.
– Мы вычли оное безлепичное лаяние патриарша дьяка и то бреханье на ветер пустили. По что ж еще ты прислан к нам?
– Прислан я, – заговорил Кирша по-заученному, – от воеводы Ивана Мещеринова, чтоб вы, соборная и рядовая братия, добили челом великому государю...
– А потом что?
– Чтоб принесли великому государю вины свои...
Никанор перебил его, схватив за руку:
– Вин за нами перед великим государем нет и не бывало, и добивать нам челом великому государю непочто, окроме как молиться за его государское здоровье, и мы то делаем, – скороговоркой проговорил он. – Поди и доложись о сем твоему воеводе... Слыхал?
– По указу его царского пресветлого величества, – как бы не слушая его, продолжал Кирша, – воевода приказал вам монастырь отпереть и государевых ратных людей принять с честью.
Никанор окончательно вспылил.
– Али твой воевода царским словом торговать стал! – закричал он. – Али пресветлое царское слово может исходить из такого поганого смердьего рта, как у твоего воеводы? Али у великого государя бумаги и чернил недостало, чтобы слово его пресветлое всякими пьяными глотками в кабаках выкрикивалось? А! Так, что ли?
Озадаченный Кирша не знал, что отвечать. Он догадался, что воевода сделал оплошность.
– Говори! – приставал к нему Никанор. – Как твой воевода смел украсть царское слово? Али он не знает, что царское слово, как и словеса Господа нашего Исуса Христа, либо в церкви, как святое Евангелие, должны возглашаться, либо царскою грамотою, по титуле, объявляться? А! Так вы этого не знали?
По собору прошел ропот одобрения. Головы поднялись уверенно, бледность сбежала с лиц. Исачко смело и дерзко измерял своими косыми глазами Киршу, как бы вызывая его на немедленную потасовку. Послышались выкрики: «Али на них и суда нету!», «Али они и впрямь своим дурным наше доброе извести хотят!», «Чего их слушать! Воровство их знамое!»
Кирша стоял как притравленный зверь, озираясь по сторонам. А прибывший с ним монашек испуганно топтался на месте, точно выглядывая норку или скважинку, в которую можно было бы юркнуть.
* * *
В это мгновение в самую середину круга протискивался какой-то оборванец с длинными, как у простоволосой бабы, никогда не чесанными пасмами волос, падавшими ему на худое, аскетическое лицо и на плечи. Оборванец был босиком, в одной, чужой по-видимому, рубахе, которая была слишком длинна для него. Из-под рубахи виднелись голые, худые, как щепки, икры ног. На шее у него, как у цепной собаки, висела и при движении звякала тяжелая цепь, замкнутая большим замком у горла, ключ от которого был брошен в море. Оборванец держал в руках старую скуфейку, в которой, скукожившись в комочки, спали еще не оперившиеся, с золотым пушком, голубиные выводки. Оглянув круг и нагнувши свою косматую голову, подобно барану, собирающемуся драться, он затопал ногами и, припрыгивая, запел детским голосом:
Бушка-баран,
Не ходи по горам.
Убьют тебя —
Не пеняй на меня.
Многие вопросительно и испуганно переглянулись. Монастырь давно привык к разным выходкам и причудам своего юродивого; но всегда искал в его словах чего-либо пророческого, какого-либо иносказания и иногда, конечно большею частью уже впоследствии, когда какое-либо событие совершалось, истолковывал их в пользу пророческого провидения своего юродивого: «А вишь, Спиря-то блаженный предсказывал нам это тогда, да мы-то, грешные, не уразумели его святых словес, – говорили обыкновенно монахи, когда случалось что-либо неожиданное. – Вон тады, как с Москвы нам прислали книги с трегубым аллилуем да с треперстием, Спиря-то все нам пел об трех „люлях“ да об „гулях“:
Люли, люли, люли,
Прилетели гули.
...Ан стрельцы-то и были эти «гули» самые, а нам, глупым, и невдомек; а «люли»-то была сама трегубая аллилуйя».
Так и теперь «бушка-баран» – это был не просто баран, а кто-либо другой: либо монастырь, либо стрельцы, что под монастырь пришли. «Не ходи, бушка, по горам, убьют тебя» – это что-то очень страшное. Кого Божий человек предостерегает этим: братию ли, посланца ли этого? Кому быть убитым? Эти тревожные вопросы возникали в душе каждого. Одним казалось, что Спиря грозит посланцу, даже в него и лбом уперся; а другие явно видели, что он будто бы показывал вид, что бодает отца архимандрита Никанора.
– Гулюшки, гули, – забормотал вдруг юродивый, нагибаясь к своей скуфейке, – а... проснулись, детки, естушки захотели.
Птенцы действительно подымали свои пушистые с неуклюжими ртами головки и, видимо, искали пищи. Юродивый тут же сел наземь, вынул из сумочки, что висела у него через плечо, горсть зерен, положил их себе в рот, пожевал и пригнулся лицом к скуфье. Птички широко раскрыли красные рты и сами полезли головками в рот юродивого.
Архимандрит Никанор, озадаченный было сначала появлением юродивого и его загадочными словами, скоро пришел в себя и, обведя собор своими волосатыми бровями, обратился к Кирше с угрожающим жестом:
– Поди, скажи твоему воеводе, чтоб он убирался подобру-поздорову: обитель преподобных Зосимы-Савватия не петровское кружало.
Кирша выпрямился.
– Так это вы постановили? – спросил он глухо.
– Постановили и на том стоим, – отвечал Никанор.
– Так мы вас добывать станем, как государевых изменников, – резко сказал Кирша.
– Добывать!
Никанор обернулся и показал рукою на монастырскую стену. На стене в разных местах чернели пушки, около которых стояли пушкари.
– Видишь, каковы у нас галаночки?
– Видим-ста: и у нас таких теток довольно, погорластее ваших будут.
– Что он похваляется своими тетками! – возразил Геронтий. – Нам не впервой спроваживать их: али не Игнашка Волохов сломал свои зубы об наши стены?
– Да и Иевлев Корнилко ни с чем ушел, – заметил Никанор, – обитель-то преподобных Зосим-Савватия крепенька живет, сам святитель Филипп, митрополит московский, стенки те выводил.
– Что с ним разговаривать! – послышалось в толпе. – Шелепами его!







