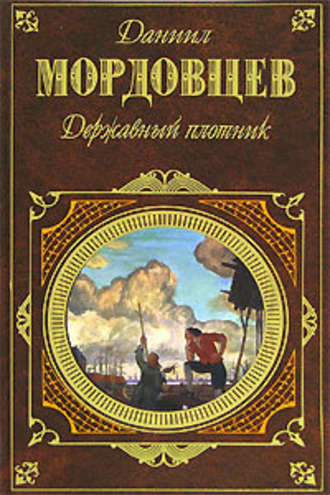
Даниил Мордовцев
Державный плотник
Над всем зданием и вокруг него клубами ходит дым. Своеобразный смолистый запах этого дыма слышится издали. Страх невольно забирается в душу... Это жертвенный дым, исходящий из великой скинии для умилостивления гневного божества...
Мычанье скота, запертого в загоны и окуриваемого, тоску наводит... Повозки проезжают мимо свежевырытого рва, который тоже дымится. По сю и по ту сторону рва рогатки; это запоры для нее, для смерти, которая носится в воздухе вместе с дымом...
Из-за тогобочных рогаток какой-то всадник машет шапкой. Хомутов осаживает своего коня. Это вестовой казак из города прискакал, шапкой знаки подает...
– Откуда, Гаврилыч, и с чем? – кричит Хомутов вестовому.
– Из моровой комиссии, ваше благородие! – приложив ладони ко рту, выкрикивает тщедушный «Гаврилыч».
– С чем?
– С вестями... Депорты привез.
– Давай!
Казак достает из подсумка, висящего через плечо, пакет с «депортами». За плечами у казака лук и в кожаном, потертом донельзя колчане вязанка самодельных стрел с грубыми наконечниками. Вестовой вынимает из колчана одну стрелу и к первому концу ее привязывает пакет. Затем снимает с плеча лук, накладывает на него стрелу и натягивает тетиву.
– Ловите, ваше благородие! – кричит он. Стрела взвизгивает, перелетает через ров и рогатки и падает у самых копыт коня Хомутова.
– Ловко, молодец, как раз угодил, – одобряет Хомутов вестового. – Вот какова у нас почта, на стрелах любовные цидулочки из моровой комиссии получаем, – улыбаясь, обращается он к приезжим.
– О! Дас ист цу шрекклих! – не вытерпливает немец.
– Ну, шрекклих не шрекклих, господин полковник, а скучно.
Один из казаков, сопровождавших Хомутова, соскакивает с коня и, подняв стрелу с привязанным к ней пакетом, подает ее офицеру...
– По секрету, ого! – читает Хомутов надпись на пакете.
Вестовой, что привез пакет, снова машет шапкой из-за рогаток.
– Ваше благородие! Ваше благородие! – кричит он в рупор из своих ладоней.
– Что тебе, Гаврилыч?
– Квиток, ваше благородие!
– Какой там квиток?
– Квиток... расписочку, значит, что получил депорт.
– Ладно, подожди! – потом, обратясь к фон Шталю, прибавил: – Ведь у нас и расписку ему выдать не иначе можно, как через карантен. Сначала ее напиши, да высуши, да в уксус омочи, да там ее через огонь окурят, тогда и бросай на стреле на тот бок... Беда! А то она, проклятая, может, на клочке бумаги сидит, либо в чернильницу забралась, либо на конце пера угнездилась, ну, без карантену да без окуриванья огнем и нельзя ничего посылать на тот бок... Перекинешь и ее «анафемскую» на стреле... Вот дожили.
Повозки остановились у ворот карантина. Ух, это точно кладбище для живых...
III. КАРАНТИН. БЕГСТВО ЗАБРОДИ
Карантинные здания состояли из трех рядов низеньких, длинных, отгороженных одна от другой деревянных казарм, при одном взгляде на которые у приехавших сжалось сердце.
Собственно карантинные лазареты расположены были по краям этого живого кладбища. Это были длинные, очень длинные параллелограммы, с своей стороны разбитые на маленькие, в несколько сажен параллелограммики, в которых вмещались маленькие дворики с крохотными, на одной стороне крытыми навесниками и такими же крохотными в два крохотных окошечка домиками, находившимися в общей связи и под одною тесовою крышею со всеми прочими крохотными домиками общего, большого, сильно удлиненного лазаретного параллелограмма. Достаточно вообразить длинную, очень длинную, конюшню, разбитую на соответственное число стойл: каждое стойло вмещает в себе и крохотный домик со светлою комнаткою, кухнею и печкою; и свой длинненький, открытый, но отгороженный от другого дворик; и свои отдельные воротцы, запертые на замок, ключ от которого у карантинного доктора; и свое единственное отверстие, в которое по маленькому желобику вливают воду в чан для заключенных в этом параллелограммике... По длинной крыше лазаретов лепятся трубы по числу карантинных покоев.
Между лазаретами тянутся карантинные службы, заключенные в особую деревянную ограду: на первом плане караульня, вмещающая в себе покои офицерские, писарские, унтер-офицерские и жилья для часовых и конвойных. Далее покои для доктора, аптекаря и фельдшеров, покои комиссарские, служительские для могильщиков («мортусов» в смоляном платье); особо для поваров, прачек. Тут и амбары для съестных припасов, и амбары курительные, и сараи для карантинного имущества, для скота...
Все чувствует себя заживо погребенным, вступая в это чумное чистилище... Никто не смеет приблизиться друг к другу, прикоснуться, каждый боится всех и все каждого....
По знаку Хомутова привратник растворил карантинные ворота, и повозки въехали во двор.
На дворе было пусто: в тот момент, когда во двор вступали вновь прибывшие жертвы чистилища, никто, кроме доктора и его помощников, а равно страшных «мортусов», одетых во все смоляное, в смоляных рукавицах и в смоляных масках на лицах, никто не смел показываться на дворе.
Выходит доктор, молодой, плечистый, полнолицый мужчина, которого жизнь, по-видимому, еще не истрепала и который еще ищет на жизненной арене борьбы, подвигов, опасностей, ищет пробовать свои силы и силы неведомого, страшного, но тем более обаятельного врага.
Начинается, пока опять-таки издали, обстоятельный допрос: кто, откуда, с чем, зачем... В ответе слышатся слова, названия, звучащие особенно внушительно: «Хотин», «Бессарабия», «Кагул», «турки», «армия», «Малороссия», «заставы»...
– Вы подлежите тщательному осмотру, – говорит доктор после предварительного допроса.
Приезжие непосредственно из чумных мест – да это такие интересные, драгоценные субъекты для молодого, любознательного врача, который жаждет помериться силами с неведомым чудовищем!
– Пожалуйте в визитную камеру, – говорит он любезно, – я имею честь с вами короче познакомиться, и лично, и... телесно, – шутит молодой врач. – Эй, вы! – машет он страшным мортусам, стоящим в стороне и ждущим своих жертв. – Отберите все вещи, которые принадлежат приезжим... Лошадей с ямщиками и повозками, господин полковник, вы отсылаете обратно? – обращается он к фон Шталю.
– Да, государь мой... Отберите все наши вещи и расплатитесь с ямщиками, – приказывает он своим ординарцам.
Бедная Маланья забилась в солому и со страхом лает оттуда на страшных мортусов, она никогда еще не видала таких чудовищ.
– А эта собачка ваша? – спрашивает доктор.
– Наша, господин доктор.
– Казенная, полковая собственность, – улыбается сержант Грачев, широкоплечий друг Рожнова Игнашки, хотя у самого кошки скребут на сердце.
– А... Эй, мортусы!
Мортусы, взятые из тюрьмы каторжники, которым все равно не житье на вольном свете, и засмоленные от смерти, подходят к доктору.
– Возьмите эту собачку и привяжите особо. Она также подлежит карантинной выдержке...
– Воно, ваше благородие, не дастся, – пасмурно замечает мешковатый хохол.
– Как не дастся?
– Ни, не дастся, воно зле...
– Вот тебе на! – смеется доктор.
– Воно им, этим чертям, руки покусае...
– Ничего, не покусает...
Приезжих вводят в визиторскую камеру. Тут тоже торчат черномазые, в образе эфиопов, мортусы.
– Прошу, господин полковник, раздеться донага, – обращается доктор к фон Шталю.
Немец повинуется, ворча себе под нос: es tst abscheu-lich[11]. Рыжий помогает ему раздеться, снимает с него рейтузы, сапоги, чулки и обнажает сухие щепки, обтянутые сухою кожею... Немец ежится.
– Ничего, прекрасно... тело чистое... язвенных знаков нет, – бормочет доктор, внимательно всматриваясь в сухую, пергаментную кожу немца. – А это что за синий знак под левым сосцом?
Немец конфузится...
– Это ничего, так себе, пустяки, господин доктор...
– Однако же? Я все должен знать...
– Пустяки... глупость молодости... это имя Амалия, моей супруги... выжжено... порохом натерто...
– О! Понимаю, понимаю... Довольно... Обмыть господина полковника и одеть в карантинное платье, – приказывает он приставнику с мортусами.
Раздевают и осматривают молодых сержантов, сначала широкоплечего атлета Грачева.
– О! Завидное, богатырское сложение... дыхательный ящик бесподобный, есть где поместиться легким и всему рабочему аппарату тела, – удивляется словоохотливый доктор. – А это что у вас на шее?
– Образок... Память умершего друга...
– Умершего?.. Давно?
– В мае, господин доктор.
– А где?
– В Бессарабии, у Прута, недалеко от Ясс, на привале...
– Гм... А какой болезнью?
– Гнилою горячкой, господин доктор...
– Гм-гм... Гнилою горячкой... с пятнами?
– Да, с пятнами...
– Быстро? Да?
– Да... скоро... очень... в два дня...
– Гм... И этот образок был у него на теле?
– Да, господин доктор... Я везу его к невесте покойного и к матери.
– Так-так... прекрасно... Это вы знаете, что везете у себя на груди? Чуму!.. Только благодаря вашему богатырскому здоровью вы еще ходите по земле с этим страшным талисманом на теле... Взять его и особенно рачительно окурить и выветрить (это к фельдшеру).
Грачев снимает с себя образок и отдает фельдшеру.
Упрямее всех оказался мешковатый хохол: уперся, как вол, и не хочет раздеваться...
– Раздевайся! Я тебе приказываю!– горячится доктор.
– Ни, ваше благородие, не треба.
– Как не треба! Что ты!
– Не треба-бо... не гоже воно... соромно...
– Вот чудак! Соромно ему... Как же все раздевались, и господин полковник, и офицеры?
– Та негоже ж!.. Вони тут. (Хохол указал на полковника.)
– Я тебе приказываю... Слушай команду: долой платье! – скомандовал немец, на голом теле которого не оставалось никаких знаков полковничьего звания.
«Слушай команду» было магическим словом для упрямого хохла: он тотчас же сбросил с себя одежду и, вытянувшись в струнку, руки по швам (швов, правда, уже не было на голом теле), стоял колосс колоссом... Эка телище! Эка мускулы стальные, что за грудь и плечи! Недаром так млела и трепетала на этой каменной груди «чорнявенькая» и «кирпатенькая», тоже с богатырскими, только в своем роде, грудями, дивчина Горпина...
– Что за молодчина! – вырывается невольное восклицание доктора. – Да этого бронзового тела никакая чума не возьмет... Ну, молодец, братец!
– Рад стараться, ваше благородие!
Чего тут стараться! Сама природа постаралась сколотить такую грудь, такие мускулы, вырастить такую косую сажень... Хорошая была матушка, спородившая такое чадушко, да и природа, знать, была не мачеха, что вырастила, вылелеяла, выходила такое тело, славное, молодецкое... Украина-матушка, хатка беленькая, чистенькая, садочек вишневый, вербы шумливые, «гаи зелененьки», поля цветливые, солнышко жаркое да приветливое, реки с берегами густолозовыми, ночи чудные, песни дивные, вот что вырастило, выхолило этого детину бронзового... Это не то, что вот москали с дубьем, что живут как козы голодные, как «коза-дереза». А он и ел вдоволь, и пил воду из чистой «криницы»...
– Ну, молодец! В гвардию бы такого.
– Я и везу представить его... – самодовольно заметил немец.
– Отлично! А как тебя зовут?
– Василием... Василий Заброди, ваше благородие.
Начался процесс обмывания водой с уксусом. После обмывания на приезжих надели казенное карантинное платье, на офицеров потоньше, а на солдат потолще; а снятое с них платье обозначили особыми номерными ярлыками и сдали для окуривания и проветривания в особых курительных сараях.
На дворе слышится хохот и собачий лай. Это мортусы хотят лишить свободы полковую Маланью, которая так же упряма, как и ее любимец Василь Забродя...
Из визиторской камеры приезжих повели через двор в самый карантин, в тот огромный параллелограмм, который разбит был на маленькие параллелограммики.
Полковника с сержантами доктор ввел в крайний дворик и объяснил им его расположение и все, что нужно им было знать.
– Вот здесь, господа, на дворе, вы будете гулять в ясную погоду...
– Есть где разгуляться! – невольно заметил Грачев.
По две квадратных сажени на персону приходится, конечно, немного!..
– Это гроб...
– Ну, уж и гроб... Помилуйте... Гроб теснее... А вот милocти просим в покои, добро пожаловать, господин полковник.
Немец следовал за доктором молча, насупившись... В карантинном платье он смотрел совсем не храбрым полковником, который еще недавно дрался на Дунае с турками.
Они вошли в домик в два окошечка.
– Вот ваши койки, жестковаты, правда, но чисты... Вот скамеечка, тут и вся кухня ваша... Только уж извините, господа, вы сами должны быть и поварами для себя.
– Как? Почему так?
– С этого момента, как я ввел вас в это помещение, вы разобщаетесь со всем миром. К вам ни одна живая душа не смеет входить, кроме меня и фельдшера. Провизию вам будут вносить в ту вон калиточку, ключ от которой у меня, и ставить на землю, а уж готовить извольте вы сами. Вода проведена к вам в особый чан. Порции я вам пропишу хорошие, провизию питательную, вы заживете припеваючи...
– Что ж мы будем тут делать? – с досадою спросил полковник.
– Все, что угодно...
– То есть как же? И читать?
– О, нет! Да и читать у нас нечего... Во всей Коломне я видел один истрепанный номер «Трудолюбивой Пчелы», но и тот сюда не дадут, побоятся заразы. Мы, господин полковник, от мира отведенные...
– Но это ужасно! Я привык к смотрам, к ученью...
– Ну, этого у нас здесь нет... Развлекайтесь, как умеете: спите, гуляйте, кушайте, пойте...
– Мы будем сказки сказывать друг другу, – засмеялся Рожнов.
– Да, сказки... Ну вот кстати: у вас тут и развлеченье... Пожалуйте к этому окну.
Подошли к окну, выходившему не во двор, а в поле. Действительно, внизу синелась Ока, по которой кое-где колыхались облачка карантинного дыма. У того берега виднелись запоздалые суда. Редко-редко темнелась на воде лодочка. Да и кого понесет оттуда на эту чумную, обреченную смерти сторону?.. Коломна смотрит как-то пугливо, словно прячется... Высокие колокольни высятся по небу, словно воздетые горе руки, просящие у Бога пощады, помилованья... Спаси, Господи, люди Твоя!.. Не отврати лице Твое...
– Здесь и вид прелестный, и людей живых и свободных вы видите, – сказал доктор.
Да, там люди, много людей. Это карантинный рынок на берегу Оки... Но, Боже мой! Что-то страшное, пугающее воображение видится и в этой картине.
Вдоль берега тянется двойной ряд рогатных заграждений. Рогатки от рогаток стоят более чем на сажень. Среди этого интервала нет ни одного живого существа в человеческом образе, снуют только засмоленные с головы до ног мортусы. Вдоль рогаток часовые, строго следящие, чтобы толпы, стоящие по сю сторону рогаток, не имели никакого соприкосновения с теми, которые по ту сторону.
– Господи! Да она, проклятая, всех сделала арестантами... Вся Россия под конвоем! – невольно воскликнул Грачев, поняв, что изображала собою картина карантиннoго рынка.
Да, действительно, этот бич Божий все человечество превращает в арестанта... Каждый под стражею, каждый боится всех и все каждого... Везде часовые, рогатки, дозор, конвой, только кандалов не видать... Люди, съехавшиеся на рынок по крайней, буквально по голодной, нужде, не смеют, ужасаются приблизиться друг к другу. Продавец боится покупателя, покупатель с ужасом смотрит на продавца... А может быть, у него зараженный товар, зараженная мука, крупа, яйца... А у покупателя, быть может, зараженные деньги... Да это ужас! А есть и тому и другому хочется... Господи! Да за что же этот бич? За грехи, за бедность да нечистоту.
По ту сторону рогаток – это те, которые живут по ту сторону карантинной линии, за Окой... Это самые бедные из коломнян, которым там, в Коломне, есть нечего, все вздорожало, и они с голоду, с риском за свою жизнь (все равно помирать от голоду придется), перебираются сюда, на чумную сторону, чтобы купить чего-либо съестного подешевле... А может, оно заражено... ну, все равно пропадать!
Как по ту сторону карантинного заграждения толкаются только самые бедные и самые голодные из нечумной местности, так и по сю сторону заграждения бродят только самые бедные и самые голодные из чумной полосы... Там голодные покупатели, здесь голодные продавцы... Курочку ли продать, барашка, коли у кого есть, овсеца, мучки сбыть туда да заплатить подушные, а там купить бы чего подешевле да утолить голод... И все это под арестом.
И вот идет страшный торг между арестантами. Люди торгуются через рогатки, при посредстве комми-мортусов. Здешние чумные продавцы кладут свой товар на землю, за рогатку, и ожидают получки денег; а тамошние, тогобочные коломняне, показав издали деньги (тогда еще не было бумажных денег в таком изобилии, как теперь, а ходила больше звонкая монета), опускают их в длинные чаны и корыта, наполненные водою с уксусом. Один мортус подходит и берет товар и переносит через разложенные вдоль всего заграждения горящие костры, если товар – мясо... товар окуривается... Если товар – птицы или овцы, то их тотчас моют в чанах, тоже наполненных водою с уксусом. Другой мортус вылавливает из чана или корыта деньги и вручает их продавцу...
Огонь и дым костров, крик купаемой в чанах птицы, блеянье овец, принимающих невольную ванну, возгласы часовых: «Стой! Не ходи! Берегись!» и покрикиванья мортусов на продавцов и покупателей – «Бери алтын! Тащи поросенка!», визготня адская этих самых поросят, окунаемых в чан с уксусной водой, – и над всем этим как бы невидимый перст гневного Бога: на кого он направится? Кого назнаменает знамением смерти: кого первого выхватит из этой робкой, растерявшейся толпы, кого второго, третьего?..
И вот потянулись бесконечные дни и ночи для наших заключенных... Тоска неисповедимая! Каждое утро невидимая рука оставляла у калитки карантинного дворика дневную порцию съестных припасов и дров. Каждый день заходил словоохотливый доктор, который для заключенных казался вестником жизни, посланником Бога милующего и спасающего... По целым часам они стояли у окна, выходившего на Оку, смотрели на карантинный рынок, на Коломну, высокие колокольни которой продолжали тянуться с мольбою к безжалостному небу.
Сначала фон Шталь завел было у себя на дворике маневры, смотры, ротное ученье, немилосердно муштровал бедных сержантов, попеременно муча своими командирскими затеями то широкоплечего Грачева, у которого из головы не выходил образок-медальон покойного друга, талисман, несущий будто бы чуму в Москву, то черномазого Рожнова, у которого, напротив, не выходила из головы Настенька и какие-то «сенцы, где в первый раз»... и так далее... Голос фон Шталя, выкрики «направо» и «налево», «стой-равняйся» и «марш» раздавались от раннего утра до обеда; но потом и это надоело, и настал период сказок: немец так полюбил русские сказки, особенно искусно рассказываемые Грачевым, что и по ночам не давал ему спать, заставляя рассказывать то о «трех-сын-добром молодце», то о «моложеватых яблоках», то о «семи Семионах».
Забродя и его рыжий товарищ, которого, кстати заметим, звали в полку «Рудожелтым Кочетом», помещались рядом с своим начальством, забор к забору. В их же дворике поместили и «полковую Маланью», которая этому была очень рада и служила источником нескончаемых утех для заключенных. По целым часам они учили ее прыгать через палку, носить им шапки, стоять на задних лапках и, наконец, ухитрились восстановить ее даже против чумы: для этого Рудожелтый Кочет нарисовал на заборе углем какую-то страшную фигуру, вроде богатыря Полконя или Полкана, и назвал ее «чумой». Сделав страшные глаза и став на четвереньки, рыжий обыкновенно с рычаньем бросался к нарисованному на заборе чудовищу, бормоча: «Чума! Чума! Чума!» Маланья, по природе доверчивая, видя в таком азарте своего господина, тоже с неистовым лаем бросалась на мнимое чудовище, и торжество скучающих заключенных выходило полное, так что им даже завидовал сам фон Шталь.
Несмотря, однако, на эти забавы, Забродя тосковал. Им все больше и больше овладевала тоска по родине. Особенно по ночам он нигде не находил себе места. Он уже и счет потерял этим проклятым ночам!
И вот опять тянется эта скучная, томительно-длинная, бесконечная ночь. Товарищ, растянувшись на койке, ровно, однообразно посапывает. Все спит, не спится одному лишь Заброде, не спится, но много думается. Вспоминается родная Украина, белая хатка в тени густолистых верб, зеленая левада и вишневый садочек... Уж эти вишневые садочки! Из-за них украинец на чужбине сохнет и на кушаке вешается... Вспоминается Заброде последнее свидание с Гopпиною в этом садочке накануне рекрутчины... Забродю берут в «москали», завтра ведут в город «сдавать» как товар... А они с Горпиною думали под венец стать, своею хаткою с вишневым садочком обзавестись... Так нет, взяли-таки в «москали», не пожалели ни Горпининых горячих девичьих слез, ни материных вдовьих, самых горячих на свете слез... Да, все это припоминается в эту долгую осеннюю ночь в московской тюрьме проклятой...
Вот из-за бузинового куста тихо выходит заплаканная Горпина... А соловейко-то щелкает, соловейко заливается – словно «дяк» ночью читает над покойником... Горпина так и повисла на воловьей шее парубка – захлебывается, плачет, обнимаючи да целуючи черноусого... И он всплакнул «парубоцькими» жгучими слезами, целуючи свою кареокую, полногрудую дивчину... А девичьи груди разорваться хотят под безутешное вехлипыванье, так и колотятся об богатырскую грудь парубка... «Серденько мое!..» – «Яблучко мое червонее!» – «Василечку мий, барвиночку зеленый, ох, ненько ж моя, матинько!» – «Я вернусь до тебе, моя ясочко»...
– Э! Вернусь... Как тут вернешься?.. А вона вже, може, с другим спарувалася... Хоть повеситься, так впору!
А за окном, под сарайчиком, так жалобно воет бедная собака. И она тоскует по ночам: с тех пор, как заметили, что по утрам она всегда пробовала провизию, приносимую заключенным, раньше, чем они просыпались, ее на ночь стали привязывать, и вот она скучает. Жаль бедного «цуцинятка», и себя Заброде жаль....
«Хиба утикти!» – словно обухом поражает его внезапная мысль... Бежать! Отсюда, из этой тюрьмы, от бесконечной каторги. Но как бежать? Куда? Туда, на Украйну, в зеленый гай, в вишневый садочек... Хоть по ночам подходить к родной хате и бродить около вишневого садочка Горпины...
Страшная мысль все более и более овладевает душой и волей. Находит какое-то безумие. На подмогу является податливая совесть, у которой, как у Горпины, такое доброе сердце... Ведь отсюда бежать – не из полка бежать: за это не расстреливают, а если сквозь строй прогонят, то у Заброди такая спинная доска, вскормленная матушкою-Украиною, что десять тысяч шпицрутенов выдержит и заживет... Повидаться только с своими, взглянуть на Горпину, как она там с другим парубком – женихается... О, не дай Бог! «Вона не женихается, вона мене выглядатиме»...
Торопливо, лихорадочно закутывает он ноги онучами, захватив при этом и ощупью найденные онучи беспечно спящего товарища; надевает казенные коты; на халат вздевает казенный серый чапан – туго подтягивается, ощупью отыскивает шапку, судорожно крестится – «Мати Божа! Мати Божа!» – и неслышными шагами выходит в сенцы, а оттуда под сарайчик.
Собака разом замолчала, угадав, кто к ней идет. Забродя, припав на корточки и тихонько отбиваясь от собаки, которая радостно лизала ему руки и лицо, зубами перегрыз веревку.
Собачья головка уже торчит у Заброди из-за пазухи. Он и ее берет с собою на Украину... «Нехай и воно, бидне цуцинятко, по воли побигае»...
– Хто там? – раздается окрик часового. Забродя молчит, он уже на заборе.
– Стой! Хто там? Стрелять буду! – повторяется оклик.
«Не попаде москаль, – думает Забродя, – далеко дуже... и оруже погане, не попаде»... И спускается на волю...
«Раз-два-три».
Раздается выстрел, и Забродя пластом падает на землю. Вот тебе и воля, вишневый садочек, Украина... Только собака воет да часовой глядит в красивое мертвое лицо, не смея нагнуться к чумному...







