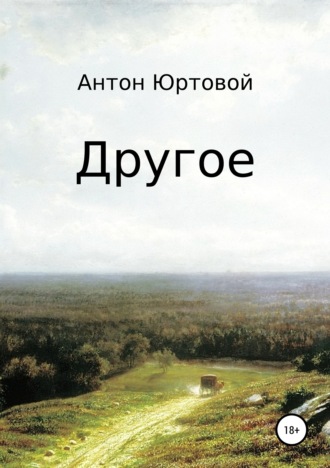
Антон Юртовой
Другое. Сборник
На него опять накатывал хаос упругой подавленности. «Что бы такое позволило сбить обстоятельства? Устранить изматывающую неизменность, которая пошла совершенно не в том направлении, какого я желал? И как надо себя вести?»
На эти вопросы ответы не находились. Но зато можно было почти ощутимо определить в себе что-то мятежное и отчаянное. Так неожиданно люди обычно быстро как бы перерождаются для броска в поступок ввиду безвыходности их положения.
И поэту вдруг стало даже казаться, что некий важный очищающий его поступок ему здесь кем-то уже определён и выверен ещё раньше, до этого путешествия с разбойниками. Останется его предпринять. Он, поступок, ему необходим, едва ли не до крайности. Только каким он должен быть? Ясно, дуэль невозможна ввиду её нелепости. Равно как и вызов на неё, который не исключался лишь как задиристый и аффектный, и едва ли можно было рассчитывать, что он был бы принят без оскорбляющей насмешки. Но тогда – что же? Непроизвольное стремление к суициду также ведь осталось неисполненным и уже далеко позади…
Холодная испарина пронеслась у него по спине. Мысль нечаянно отошла и метнулась к тому месту в сырое тёмное поле, куда его занесло какое-то грозовое волнение, вызывавшееся воздействием тяжёлых и горьких признаний самому себе. Только непредусмотренная причина помешала тогда исполнить задуманное, но он хорошо помнил, что в тот миг он был решителен как никогда и как никогда смел той смелостью, которая приходит за надобностью очищения души и успокоения хотя и гордой, но заблудшей совести.
«То был миг настоящего моего торжества перед собой, – рассуждал он, – Ни во что я поставил всё предыдущее, то, чем жил, во что втягивался и превращался. И как же гадко то, что чудное осветление так и осталось в той неповторимой минуте, а я продолжаю прежний путь с одетым на себя ярмом, будто скотина. Я так не хочу жить! Не хочу быть поэтом! Предпочту лучше желать скорой своей погибели от чего угодно, чем знать, каким неуклюжим и грустным окажется остающееся мне будущее».
Силы его истощились. Он сознавал, что хотя и тихо, но как-то нестыдно плачет, исключительно для самого себя, и что его глаза буквально переполнены слезами, а наряду с этим возрастало и двигалось в нём что-то ненасыщаемое, вызывающее и торопящееся.
По телу, ногам и рукам разбегались конвульсивные движения, и он больше не старался сдерживать себя. Что таиться перед этими лесными людьми, когда теперь душу его снова так настойчиво и требовательно обдавало жажданием поступка, способного, как это ему представлялось, перечеркнуть очень многое пережитое, прочувствованное и даже воспетое им. Но, зная уже отдалённое последующее, обыденное, с неустранимыми горечью и скукою, чему, как становилось совершенно очевидным, он был обречён неисполнением намерения убить себя, он ничего не знал и даже не мог предположить ни в одной мелочи, как и что будет в следующие самые ближайшие мгновения и минуты. Что за поступок облегчил бы его страдания? Сознанием овладевал ужас: оказывается, такого знать не дано! Непознаваемо!!! И только ли потому, что он лишён свободы, оказавшись в дорожной западне?
В ситуации, которая сложилась, данное предположение должно было оставаться расхожим и плоским, поскольку ему явно не находилось убедительного обоснования.
На мысли поэта никто из попутчиков не посягнул. И физиологическая свобода, принадлежащая только его организму, также не отнята!
Что же тогда тревожит? И почему так непереносимо больно?
Может быть, это из-за переуступки чести? Не то: в лесу, с разбойниками понятие чести не может быть понятием общим для всех, ведь речь шла о скверной дворянской чести; в понимании попутчиков она должна казаться ничтожной. Взяли пистолеты, экипаж? «Да у меня дворянский свет отнимал что-нибудь каждый день и каждый час, так что, выходило, отнимал и таки отнял едва ли не целую мою жизнь, а в ней и самоё ум, не говоря уж о свободе!»
То загадочное, в котором заключалось бы объяснение полной или хотя бы частичной сути востребованного теперь поступка, похоже, упрятывалось глубже и глубже. Вывод мог быть единственным: если всё большие, глобальные основания ни к какому следствию привести не были в состоянии, то оставались какие-то основания мелкие, а, может быть, и мелочные. Тогда и поступку надлежало бы проявиться мелкому или мелочному, а то и вовсе – ничтожному…
Ещё, наверное, миллиарды людей на земле пройдут перед ликом истории в ауре своих нежелательных и причудливых, спонтанных и по большей части просто глупых поступков, достойных всяческого порицания, как стороннего, так и самими совершившими их, а объединять их будет то, что истинные их причины не удастся разгадать никому и никогда и лишь потому, что к совершённым действиям невозможным окажется найти вполне адекватные побуждения.
Устремлённость к идеалам будет неизбежно сутулиться, перерождаться…
Однообразная череда звуков, издаваемых упряжью и фурою, как бы исподволь дополнилась осторожным негромким лошадиным ржанием, здесь и, как ответ на него, таким же, на некотором отсюда отдалении, куда уходил данный прогон, а следом – энергичным торопливым стуком конских копыт где-то впереди. Скоро подступавшие звуки уже слышались рядом.
– Не торопитесь. – Вожак обращался к Алексу, тем самым предупреждая его, что, несмотря ни на что, положением управляет пока только он и что открывать дверцу и хотя бы высовываться наружу не следует.
Сам же он, спрыгнув со ступеньки на землю и не притворяя дверцы, быстро пошёл навстречу подъезжавшей лошади с седоком.
Прибывший спешился, и оба сразу вступили в непрерываемый разговор, слов которого разобрать было нельзя. Не иначе, это был оповеститель, а время для встречи, конечно, могло быть условлено заранее. Что-то важное или вовсе не предусмотренное.
Ситуация таинственности и беспокойства легко угадывалась по тому, как неожиданно общение с приезжим закончилось и тот, вскочив на коня, поспешил удалиться, откуда и появился.
Подойдя к облучку, вожак заговорил с примостившимися на нём подельниками. В один момент они уже собрались внизу, около него, вслушиваясь в его полушёпот, а спустя какую-то минуту все трое устремились к остававшейся открытой дверце кибитки.
Последовала суетливая процедура высадки Акима, когда, как и в процедуре предыдущей, у скирды, раненый был принесён из леса и помещён в кибитку; каждый опять выказывал те же сбивчивые намерения не допустить, чтобы у несчастного обострились боли. Не переставая, Аким стонал и бредил и не подавал никаких признаков осознавания своей поверженной чувствительности.
Его и теперь уносили от фуры, удерживая за подколенья и за спину. Рядом с фурою оставалась только одинокая фигура вожака.
– Мы вблизи у реки, у переправы, – послышался его простуженный голос. – Я пока побуду с вами и выйду примерно за версту от основного просёлка. По нему к усадьбе ещё более семи вёрст. Вы, возможно, успеете встретить уезжающих. – Предводитель произносил тираду, как бы давая понять, насколько тщательно им обдуманы её отдельные положения.
– Уезжающие – это кто?
– События не в нашу с вами пользу, – мрачно изрёк попутчик, забираясь в кибитку. – В Лепках жандармы. Произошла перестрелка. Трое из крепостных выпороты и умерщвлены штыками. Несколько человек схвачены как взятые в подозрение. Насилие и жестокости могут быть продолжены. Служивые в ярости. Руководивший ими не вполне владел обстановкой и, будучи неосторожен, оказался ближе всех под выстрелом. Убит наповал. Из карателей это потеря единственная. Тело увезут. Лемовского, как якобы сочувствовавшего или даже потворствовавшего бунтарям, доставят на дознание. Мои товарищи в большой опасности; их следы и укрытия могут обнаружиться, и тогда…
– Вы говорите и о себе?
– Пожалуй… Если только…
– Хорошо понимаю вас; но как вы это себе представляете?
– Кратко: вы подберёте меня на обратном пути, то есть, видимо, очень скоро, дня через два-три. За перекрёсток, на который вы отсюда выедете и возьмёте направо, надо при отправлении из Лепок проехать с версту или чуть более и там задержаться. Время – раннее утреннее. Я поспешу. Выправка визы и паспорта – с этим я управлюсь сам. Расстаться мы могли бы на подъезде к главному тракту, к губернскому. В том, что вы меня возьмёте с собой и добровольно прикроете в той же мере, как это вам пришлось делать, добираясь с нами сюда,– опять не обойтись без гарантии. В ином случае мой проезд не окажется полностью безопасным. Берётесь ли поручиться честью?
– При условии, что вы мне её возвращаете…
– Да, да, разумеется. Вот они, – без промедления и просто выговорил предводитель, подавая Алексу пистолеты и удерживая их в руках в том же положении, каким и поэт при их изъятии у него, – стволами, направленными на себя. – Заряды, к сожалению, не со мной; не взыщите…
– Гм… – Алекс не мог не отметить в голосе собеседника скрытой смешливости и, значит, превосходства уже и в данной, щекотливой ситуации – того, к чему у вожака, – теперь это можно было утверждать едва ли не наверняка, – имелась предрасположенность, и она не оставляла его и проявлялась в нём даже если он мог не желать, чтобы кому-нибудь становилось известным о ней.
– Так – ваше поручительство?..
– Честь имею, – сказал Алекс, забирая оружие. – Гарантия, однако, может не быть обеспеченной. Одного свидетеля, – он указал рукою на облучок, имея в виду кучера, – деть никуда невозможно. А в поездке прибавится ещё и другой – мой слуга. Он – в Неееевском.
– Объяснения убедительны. Вредить вам да и им тоже я не намерен. Расстанемся теперь же. Доброго пути! Да, ещё. Не уступите ли книгу?
– Вы о чём? – От столь неожиданной просьбы Алекс задал встречный вопрос, не думая, о чём, собственно, спрашивает. Но его смущённость исчезла, ещё не овладев им полностью.
Конечно, речь шла о горестном повествовании, которое ему довелось не только прочесть, но и обстоятельно обдумать.
Не он ли, поэт, испытывал неловкость перед тем как заглянуть под обложку экземпляра, уже удостоверившись, что он – не его, а значит – кого-то или – вообще ничей? Своё право распоряжаться им он бы подтвердить не мог никаким образом, равно как не мог бы, заглушая свою совесть, поставить книженцию на полку личной библиотеки по возвращении из этого путешествия. Тут ни к чему были бы любые притязания, хотя бы и перед разбойником. Соглашаясь уступить книгу, Алекс уже определённо не мог не осознавать, что и теперь, уже в который раз предводитель брал над ним верх, повергая его.
– Ну да, – торопливо поправлял он себя в заданном, почти как неуместном вопросе. – Она не моя; возьмите её.
– Благодарю и прошу простить за задержку. Кстати: вы человек добрый и прелюбопытнейшего склада, но – мало доверяете себе; так – не годится. Здоровья и благоденствия! – собеседник произносил эти слова, уже спрыгнув на землю и отходя от кибитки прочь.
По тому, как уверенно он вёл себя в этой глуши, не исключалось его происхождение из местных, а в связи с этим и то, что он, возможно, знал Мэрта, своего пусть и не самого ближнего соседа, поскольку их связывало пользование общим просёлком и ввиду этого, вполне вероятно, он даже встречался с ним.
Также и дворянское воспитание в нём, подтверждённое им хотя как-то и по-воровски, явно не исчерпало себя, и непроизвольная мысль об этом становилась весьма существенным дополнением к тому чувству удовлетворения, которое могло удерживаться в поэте ввиду гуманного обхождения с ним на всём протяжении его поездки с разбойниками и особенно в её завершающей части, когда они уже были извещены о жестокостях карателей в Лепках.
Экстренное расставание с ними прибавляло Алексу догадок о них.
Возможно, где-то здесь, уже на значительном удалении от места, где они только перед ним появились, размещался их ещё один, тщательно маскируемый приют, что могло говорить об основательной продуманности их тайной самоорганизации.
Также нельзя было не отметить, насколько внушительным и угрожающим это сообщество должно было считаться теми, по вине которых – прямой или косвенной – оно образовалось, – раз дело дошло до того, что его форпосту позволено было, видимо, уже достаточно продолжительное время находиться чуть ли не у самой околицы охваченного крестьянским негодованием поселения. Даже больше того: таких ближних лесных форпостов могло быть несколько – с разных сторон от поселения. И вовсе не исключалось, что подобных ареалов смуты в одной волости, в уезде, а то ещё и за его пределами могло образоваться ещё несколько. Что же до их влияния на крестьянскую массу и до их решительности и амбиций, то они легко распознавались по отваге и внутренней собранности предводителя, встретившегося Алексу.
Вполне допустимым представлялось также и то, что среди беглых и возмутившихся он был руководящей фигурою не единственной, а являлся только членом некоего сводного органа…
Алекса, впрочем, не могло не удивить то, что в последний момент, когда они ещё находились в общении, тот обошёлся без напоминания ему о принятых им на себя строгих и опасных обязательствах по содействию скрывающимся.
Только ли по рассеянности или ввиду спешки главарь упустил возможность ещё раз удостовериться, в какой степени проезжий мог быть полезен ему и его подельникам?
И тут ему, проезжему, опять не оставалось ничего другого как отдать должное предводителю.
Было до пронзительности ясно: тот, пусть ему даже недоставало опыта разбойничьего, имел полнейшее представление о щепетильности и безукоризненной, почти болезненной ответственности дворянина в его ручательстве хотя бы только словом и хоть бы перед кем.
Стало быть, он руководился той же самой породной честью, как и Алекс, полагая выгодным для себя опереться на неё в конкретных обстоятельствах тревожной озабоченности и просто посчитал лишним предпочесть ей что-либо иное, а значит оправданно мог ожидать её соблюдения поэтом, не прибегая к напоминанию о задаче. Но и это не всё; в ней, в той задаче, должен воплощаться поступок, который Алексу был так желанен, когда он ехал в сопровождении главаря, и который ему никак не удавалось определить в себе, – как же он узок умом, если не додумался до этого раньше!
Теперь ему следовало не только по-настоящему устыдиться себя, но и в который уже раз признать прямо-таки избыточное верховенство над собою человека случайного, разбойника, не имевшего намерений хотя бы парой слов обмолвиться о том, кто он, и чьё будущее приходилось воспринимать не иначе как погубленным от предательства или нечаянного соприкосновения с властями, а то и – попросту печальным, вследствие расстроенности здоровья, которое станет, конечно, только ухудшаться, а средств поправить его не наберётся никаких, даже за границей, куда он если и попадёт, то не так скоро, и недуг, при первом же осложнении, успеет его пересилить…
Ушедший был совершенно прав, когда уведомил его, поэта, что возникшие события неблагоприятны для всех, кто оказался так или иначе причастными к ним.
К факту расставания с незнакомцем Алекс возвращался снова и снова.
Как много можно было бы узнать от него, будь дана возможность задать тому хотя бы ещё несколько вопросов! Он если бы и уклонился от прямых ответов на них, но что-нибудь всё же сказал бы, и оно, возможно, было бы тем, что интересовало пленника прежде всего, – об Антонове. Ведь он хотя и скрытничал и неприятно отмалчивался, но полностью ничего, с чем обращался к нему Алекс, не проигнорировал.
Не хватило, к сожалению, времени на продолжение беседы с ним, и это Алексу казалось едва ли не самым досадным изо всего – с момента, когда их общение началось, и – до его прекращения.
События в Лепках, конечно, касались Алекса уже и впрямую.
Что выйдет впереди, предположить было затруднительно.
Мысль о невозможности получения ссуды поэт старался, насколько это было ему по силам, не подпускать к себе, но когда она всё же у него возникла, он испытал резкое чувство горечи и оскорбления, так что даже выругался: «Пристало ли думать о таком сейчас!»
Подавая знак вознице трогаться, он хотя и пробовал не отвлекаться на столь прозаичное для него сугубо личное, поскольку важнее представлялись ему подробности, связанные с персоною предводителя и его подельников, – как здесь, в стороне от барской усадьбы, так и в соотношении с нею, – но отстраниться от размышлений о предстоящем его посещении Лепок с целью получения займа ему также не удавалось.
Скоро, по преодолении незначительного отрезка дороги до большого просёлка, и те и другие соображения уже облекались в явь, и во многом они приобретали существенное значение в их единстве, дополняясь одно другим. При этом оказалось на удивление верным предположение вожака о возможном соприкосновении Алекса с уезжающими: выехав на просёлок и повернув к усадьбе, он вскоре увидел подвигавшийся навстречу немногочисленный жандармский отряд.
Рассвет ещё лишь наступал, зато ярко светила луна, и местность уже хорошо просматривалась. Алекс остался доволен, убедившись, что нужный просёлок под ним с добрую версту был уже преодолён принадлежавшей ему упряжкою и что едущие из Лепок только-только показывались из-за небольшого лесистого выступа, закрывавшего дорогу, и, стало быть, заметить её в то время, когда она двигалась по боковому выезду на перекрёсток, они не успевали. Не будет повода подозревать в чём-либо ни его, путешествующего дворянина, ни кучера. Хотя одинокая фура, даже просто как двигавшаяся по просёлку, в создававшихся тревожных и напряжённых обстоятельствах непременно должна была вызывать подозрение у жандармов. Это становилось очевидным сразу.
Двое передних конных, с ружьями через плечо и в саблях, отделившись от остальных, быстро подъезжали к встречной кибитке.
– Не замечен ли кто в пути? – спрашивал один из них Алекса, едва тот приоткрыл дверцу и выглянул наружу.
– Кто вы и по каким надобностям? – строго ответил вопросом на вопрос поэт, давая понять, что не намерен уступать соглашением на неуместный хотя бы и лёгкий допрос со стороны нижнего чина, и вышел из кибитки.
Подъехал и остановился весь отряд. Последовал обмен обязательными в таких случаях скромными приветствиями – с представившимся главным, штабс-ротмистром, коротко и осторожно сообщившим о цели своего передвижения, а также – полагавшимся для данного случая представлением документа о личности со стороны проезжего. Фамилия штабс-ротмистра была Ирбицкий. Поэту не составило труда самостоятельно определить общую задачу, с которой по-своему жестоко справлялись и, скорее всего, не до конца справились каратели в поселении, откуда они теперь возвращались.
Три фуры, две из которых запряженные тройками, и одна, в процессии последняя, везомая двумя лошадьми, как спереди, так и сзади сопровождались конными, такими же, как те, что прискакали первыми. Замыкавшей фуре отводилась роль запасной, что было в обычае в том отношении, что она использовалась для размещения слуг и дорожных принадлежностей. А между двумя первыми находилась тележная упряжка об одном огромного роста мерине, с кучером из крепостных. Там на ровном настиле почти во всю его длину размещался неподвижный предмет с наброшенным на него и свисающим на бока тёмным холщёвым покрывалом. Очертания предмета указывали, что то было безжизненное человеческое тело.
Как раз эта упряжка остановилась напротив кибитки Алекса.
– Что это у вас? – жестом указал он на предмет под покрывалом, обращаясь к Ирбицкому. Ему приходилось упрятывать перед ним свою достаточно полную осведомлённость об эпизоде с гибелью руководителя.
– Вот, взгляните, – произнёс штаб-ротмистр как-то отстранённо, с оттенком неискренней казённой скорби, которую он выражал, возможно, по привычке и, возможно, всегда в подобных обстоятельствах; при этом он медленно сдвинул переднюю часть покрывала и, подержав его в таком положении, чтобы можно было рассмотреть приоткрытое, снова надвинул его на лицо покойника. – Наш урон от бунтовщиков…
– Мои соболезнования, – не замедлил сказать на это Алекс.
Он увидел голову мёртвого Мэрта, и первой его мыслью было то, что, зная его, он с самого начала их долгого знакомства хорошо различал в нём глубоко скрытое сущее, подлинное и совершенно противоположное тому, в чём тот старался выказывать себя, как бы играючи сословным поведением, исходившим из видовой круговой поруки, воспринимать которую полагалось в позолоте поддельной чести; – но однако же всей своей натурой он всегда сопротивлялся восприятию этого обманчивого и гадливого образа оборотня и даже готов был изо всех сил защищать его перед кем угодно исключительно в том его качестве, каким оно ему в очевидности представлялось и казалось верным; теперь же, понимая в нём, кажется, всё, он мгновенно уяснял и причину своего согласия на самообман; – она заключалась в его солидарном соучастии в той самой круговой поруке, покрываемой блестящей побрякушкой породной чести, что в пределах сословия, к которому он принадлежал, имело уже характер общий, касавшийся каждого его представителя и – от самого рождения…
Столь странное обрамление мысли, которую никак нельзя было назвать случайной из-за открывшегося основания для неё, не могло не выразиться сильнейшим возбуждением чувственности, смыкаемой со страхом, почти с ужасом, подступившими почти мгновенно, вследствие чего поэт оказался как бы в прострации или в лёгком недолгом беспамятстве, так что он еле устоял на ногах, что было замечено и штабс-ротмистром и наивно расценено им как непритворное сострадание, требующее соучастия, и он даже притронулся к локтю поэта, пытаясь поддержать его.
Конечно, Алексу оставалось лишь удовольствоваться этой своей короткой слабостью, нахлынувшей весьма кстати, поскольку в ней полностью упрятывалось его ночное общение с разбойниками.
– Извините, – проговорил он, поправляя свои бакенбарды и шляпу. – Так неожиданно…
Всё вроде бы складывалось к тому, что данная встреча не могла вызвать ни тени подозрительности к одинокому путешественнику; однако тут же расчёты Алекса на то, чтобы с тем и разминуться с отрядом, оказались порушенными.
От соседней фуры к беседовавшим торопливым шагом двигался среднего роста и слегка упитанный немолодой человек в штатском – Лемовский.
– Ба, ба, ба! Кого вижу! – с энергическим задором восклицал тот, по-приятельски обнимая и слегка тормоша Алекса. – Вот случай! Только, пожалуй, огорчу вас…
– Здравствуйте, уважаемый! – мягко освобождаясь от объятий, говорил ему поэт, решив, что ситуация позволяет и ему держать себя в соответствующем тоне. – По виду, вы в добром здравии…
– Спасибо; в этом пожаловаться не могу, хотя… Да только так-то вот, на дороге… Не в моей власти…
– Я, право, совершенно не понимаю: вы лишь провожаете служивых?
– Если бы! Впрочем… Вы нам позволите? – обращался он уже к штабс-ротмистру, притом – на французском, беря Алекса под руку, что означало намерение поговорить с ним наедине, и, не дожидаясь разрешения Ирбицкого, отвёл его чуть в сторону.
– Полагаю, вы наслышаны о моих откровенных суждениях и взглядах, которые я ни от кого не скрываю, а также – и об их истолкованиях светскою молвою, – заговорил он тихо и просто, не прерываясь и как бы сразу обозначая то, что желает изложить вослед; при этом и в его голосе и в выражении лица нельзя было не заметить соответствующей обстоятельствам некоторой унылости и взволнованности, с которыми он, судя по всему, умел хорошо справляться, не позволяя им вывести его из равновесия, когда они рушили бы его сословную стойкость и выработанную привычку себя сдерживать. – Посчитали мою позицию, – продолжал он, – как способствующую вольному поведению черни, а как раз это проявилось в моём имении и теперь уже распространяется в других местах нашего уезда и даже вне его. Прямых покушений на жизни кого-либо пока не было, а вот воровством имущества, грабежами и отказами от рекрутчины не погнушались. Пришлось принять меры, после чего отдельные ушли в леса. По вызову волостного старшины прибыли вот эти, – говоривший не замечаемым со стороны жестом указал на остановившуюся процессию. – Они попробовали разобраться, да только всё сразу и испортили, объявив первых же задержанных зачинщиками. Дошло до стычек… Есть погибшие… Их ещё не успели захоронить. Я оказался в большом подозрении и принудительно следую в губернию. Там, якобы, намерены выявить все подробности, в том числе и в отношении меня. В имении оставлен дозор, и, насколько могу предположить, ему будет вызвано подкрепление. Вашему прибытию не позавидуешь. Но я не забыл о вашей просьбе и хочу остаться верным своему обещанию. Мною даны необходимые распоряжения управляющему. Сумма, условия и другое. Надеюсь, для вас они будут приемлемы и вы удовлетворитесь ими.
Алекс поблагодарил помещика, но делал он это несколько рассеянно и сбивчиво, поскольку в объяснениях Лемовского ему многого недоставало. Прежде всего – касательно Мэрта.
Успел ли оборотень перемолвиться с ним, и о чём они могли говорить? О нём, Алексе – тоже? Слишком здесь торопиться хотя и приходилось, но не следовало. Помещик сам ступил на эту стезю. Убитого он знал давно, так как не раз посещал его родовое имение ещё со времени, когда там был жив сам барин, Мэртов отец. Сюда, сказал он, Мэрт был вызван, кажется, из Дерпта. Его тело доставят теперь в Неееевское, где и состоится его захоронение в присутствии отряда.
Алексу этих сведений было вполне достаточно, и они были ему, что называется, на руку, так как почти напрочь исключалась надобность говорить с Лемовским о себе и о той степени отношений, какие складывались у него с Мэртом, а также, разумеется, – о своём посещении усадьбы, где хозяйкой была его взбалмошная мать, по известным ей причинам тщательно скрывавшая от поэта истинную цель заезда сына в его родовое поместье.
Избежать этих неприятных для Алекса пояснений представлялось весьма важным: ведь он так же, как и от Ирбицкого, предпочитал утаить своё общение с лесными обитателями округи, искренне, как ему казалось, желая хотя бы этим немногим уменьшить возможные их страдания и потери от разгневанных заезжих карателей. Рассчитывать на такой желательный оборот было, разумеется, более чем наивно, поскольку в Неееевском о его тамошнем пребывании и затянувшейся поездке к Лепкам узнается едущими туда едва ли не в первые же минуты, когда они будут встречены барыней и дворней, – но – всё же: уловка теперь годилась, по крайней мере, ввиду присутствия поблизости штабс-ротмистра и других служивых, которые могли прислушаться к беседе поэта с барином, чтобы выявить хотя бы ещё одну ниточку для жандармских подозрений…
– А ваше семейство? В благополучии ли?
– Отнюдь не в полном и даже того хуже. Я лишился сына.
– Как! У вас был сын? Извините, я не знал. Что же произошло?
– Он не умер, но выпал из жизни, исчез, угрожая отказаться от меня и от дворянства. Будто бы я излишне строг с крепостными при их нежелании повиноваться и выполнять требования. Экзекуции, ну и в таком роде, как и всюду…
– Но ведь…
– Да, я сторонник образа жизни без принуждения. Андрей усвоил его от меня в чистом виде, а в себе являл черты максимализма и несдержанности, как у Чацкого или Гамлета. Корил во мне крепостника, у которого воззрения и дела расходятся кардинально. Но я спрашиваю: как же тут может найтись середина? Она – призрачна…
– И где он, вам известно?
– По слухам, связан с беглыми… Леса здесь обширны и труднодоступны… Конечно, в отношении меня всё это резко усилит подозрения… А что будет с ним самим, боюсь даже предположить… Есть о чём беспокоиться…
– А ваша супруга, дочери…
– Произошедшее наложило печать на всех. Впрочем, подробности они вам изложат сами… Нам, однако, пора… – Лемовский давал понять, что перемолвку надо закончить.
Как и на глухом прогоне, по которому он, будучи пленником разбойников, тащился сюда уже отступившей ночью, Алексу было в досаду, что, оказывалось, ничем нельзя было попридержать и использовать время в его, литератора, интересе.
Займодавец хотя и изъяснялся искренне и без околичностей, и всё же – как много ещё оставалось неопрозраченного и скрытого! И ничего тут поправить было нельзя: только такому и следовало быть в условиях дороги. Но душа бунтовала и отказывалась принимать этот выверт. Её будто без спросу вынимали из тела поэта для чьей-то злой и обессмысленной надобности, не обещая вернуть на прежнее место.
Сполна удовлетворить его могло разве лишь то, что тайное в нём, с чем он теперь ехал, осталось никем не обнаруженным. Подмогой же в этом была ещё одна неожиданная встреча.
Она состоялась у фуры позади одноконной упряжки, куда незаметно передвинулись собеседники и где Алекс, уже рассчитывая распрощаться с доброхотом и предоставляя ему возможность забраться вовнутрь кареты, в которой тот ехал, вдруг услышал оттуда женский голос.
Это была графиня К*.
Не заявляя о себе, пока отсутствовал её попутчик, она теперь высунулась наружу и, увидев Алекса и узнав его, также заторопилась спуститься вниз по ступеньке.
– Как мило! Как мило! Ну, надо же! Какое чудесное утро! – томно щебетала она по-французски, поднимая к изгибу у локтя рукав своего дорожного платья и подставляя Алексу руку для поцелуя.
Такому непредусмотренному обстоятельству поэт мог только порадоваться, поскольку о графине он также собирался спросить займодавца, но – не успел.
Интерес же его состоял единственно в том, что он хотел бы удостовериться, продолжала ли гостья находится в имении или уже, может быть, уехала, и если ещё не уехала, то не стала ли бы она ему докукой, а то и серьёзной помехой при его приезде туда, что уже никак не могло входить в его так сильно расстроенные и скомканные расчёты и обязательства.
Графиня как начала говорить с ним, так и не останавливалась, нисколько не смущаясь своей заносчивостью и не дожидаясь ответов на задаваемые Алексу многочисленные вопросы, мало связанные одни с другими. Она, видимо, считала, что имела полное право на такую навязчивую грубоватую манеру общения, представляя высшую прослойку светского общества, и нельзя было не заметить, что пользование таким правом доставляет ей немалое удовольствие, несмотря на то, что она не могла, конечно, не отдавать отчёта, насколько это не соотносилось со стройностью её превосходной лёгкой фигурки, привлекательностью голосового тембра и молодой красотой – важнейшими составляющими её безукоризненного обаяния.
Алекс, невольно любуясь ею, терпеливо выслушивал её тирады и восклицания, в которых, скорее всего, только из-за ущербного корпоративного правила скрытничать перед нижестоящими и в особенности – по части интима, не содержалось ровным счётом ничего, что говорило бы хоть о каком проявлении её чисто женского если не сказать: влечения, то просто хотя бы интереса к нему, поэту, как популярной личности и мужчине; – в замену же в её щебетании сквозило неубывающее сожаление, связанное с её громоздкой, почти болезненной барскою скукою, уже, как выходило, давно одолевавшей её всюду, где ей ни приходилось бывать, и, как это всё же полагалось воспринимать в соотношении с её цветущим возрастом и очарованием, а, стало быть, и с её бунтующею молодой плотью, дело тут заключалось вовсе не в предмете скуки самой по себе, а в том, что та могла быть некой существенною приманкой, поддерживающей горячее и не стихавшее любовное томление, готовое очень легко расстаться со своей защитительной таинственностью, конечно, не в такой вот короткой остановке в дороге, но в условиях пребывания пусть и в небольшом имении или даже при задержке на постоялом дворе – непременно, что тут же и выронилось из неё парою как бы случайных фраз о необходимости её поспешного теперешнего отъезда из Лепок, где ей хотя и было известно о скором его, дворянина, прибытии туда в качестве гостя, но встретиться там и пообщаться с ним ей уже, оказывается, не было суждено – ввиду… – и проч.





