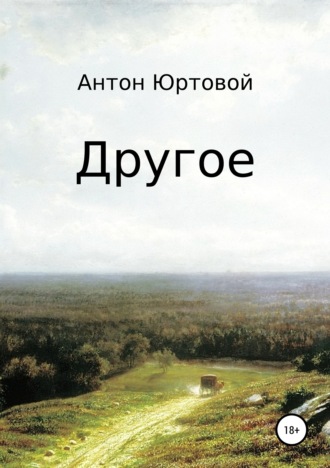
Антон Юртовой
Другое. Сборник
Под ногами юных рабов земля здесь была во многих местах уплотнённой до гладкости, но ровной, по сторонам же от таких участков из неё выбивалась густая низкая травка, что позволяло собирающимся чувствовать себя в неком подобии уюта под открытым небом даже в сырую погоду. В те времена такие летние площадки для развлечений существовали уже в каждом русском селении. Отводить их для подневольной молодёжи дворянам было и ненакладно, и полезно.
Неожиданно показался Никита. Алексу он сообщил, что оставался без дела и просто идёт навстречу, не надо ли чего. Да и к возвращению давно уже пора бы, всё ли, подумалось ему, благополучно. А почему в эту сторону – на то указала Маруся. Он видел её и узнал от неё: барин должен пройти сюда повкруг, всё время держась левее. Заметив, что Алекс, не прерываясь, разглядывает место, слуга принялся подробно и по своему обыкновению как бы равнодушно пояснять, что здесь и к чему. Он, оказывалось, многое знал.
– Барин-то приезжали не одни, вот с ними… – он повёл рукою, обозначая всю поляну. – И с ними же отъехали. Тут следы…
Между деревьями в сторону параллельной дороги можно было разглядеть проём, достаточный для проезда повозок и верховых, но, судя по всему, ставший хозяйству ненужным.
Над проёмом густо нависали ветви деревьев, почти сплошь закрывая его верх. У начала этой своеобразной лесной дыры земля была истолчена копытами лошадей и ободьями колёс.
Оба прошли вглубь. Подлесок только начинал здесь осваиваться; кое-где он едва перерастал буйствующую траву. Брошенная старая глубокая колея зеленилась от укрывавшего её плотного и мясистого мха. Здесь проезжавшие двигались, видимо, при самом начале рассвета, когда в лесном массиве было ещё почти темно и росно, поэтому и оставили они после себя хаотичные примятины на отсырелой земле, по мху и на траве; книзу в разных местах клонились надломленные и ободранные стебельки молоденьких сосёнок, осин и берёзок. Скоро дыра закончилась, и без труда можно было определить: отсюда отряд поворачивал на просёлок, уже к другому выезду на него.
В Алексе вспыхнула и заклокотала ярость.
«Какие у него, к чёртовой матери, заграницы! – вознегодовал он в адрес Мэрта. – Обыкновенный ловец, а то и всего лишь наводчик. Полевая тайная жандармерия!»
Больно заныло в груди. Стало трудно дышать. Было стыдно перед Никитой, за себя, за всё. Котёл, возможно, никогда не был пустым!
Он отвернулся, не желая выглядеть задавленным и униженным и в то же время зная, что всё тут хорошо понятно и слуге. Тот стоял растерянный, жалкий, что-то сочувственно бормоча, не находя возможным как-то иначе вмешаться, чтобы разрушить всё более утомляющую барина атмосферу чёрной подавленности. Несколько раз Никиту передёргивало от коротких приступов кашля, он сморкался, обнаруживая простуду, что по отношению к назначенной на завтра совместной с ним поездке было явно некстати.
– Поди себе, – сказал ему Алекс, тяжёлым усилием удерживая полыхавшее своё нутро и какие-то неясные предчувствия. – Я скоро. Да возьми вот, – тихо и медленно проговорил он упавшим голосом, передавая железный предмет, становившийся больше ненужным.
День потянулся для него нескончаемой цепью узнавания о самых прозаичных, но, разумеется, далеко не мелких для обитателей поместья событиях, так или иначе восполнявших скрытое в оставленных отрядом подорожных следах.
Одно за другим они буквально обнажались на пути, где бы ни оказывался ошеломлённый их обнаружением здешний гость; они прямо-таки вонзались в его вздёрнутое сознание, лезли ему на глаза. Ещё на подходе к усадьбе, куда он направлялся вскоре после того, как отослал туда Никиту, произошла буквально потрясшая его встреча с Евтихием, местным старостой.
Это был человек лет сорока пяти, ещё довольно моложавый, рослый, подтянутый, с чертами невозмутимости в лице, говорившими о полном осознании им своей ответственнейшей роли в хозяйстве и об исключительно трезвом физическом образе его повседневной жизни. Тут явно была некая добровольная служебная жертвенность, как цена за предоставленную ему огромную власть над себе подобными. Она, эта власть, хотя и не давала выхода из рабства, но могла, по крайней мере, выражаться как что-нибудь необщее, индивидуальное, доступное в пределах имения только ему, из подневольных единственному.
Не вполне ясное осмысление своей значимости проявлялось в нём до избыточности ровным укоренившимся восприятием всего, куда только могла простираться его компетенция. То, конечно, могло быть прямым следствием жизни в условиях тяжёлой усадебной замкнутости, при которой становились почти нереальными соприкосновения с остальным, внешним миром и устранялись возможности сравнивать свою роль с ролями других, таких же, как он, надзирателей.
Наверное, была тут ещё и утеря чувства необходимой осторожности вопреки той особенности его каторжной миссии, когда не могли быть исключены ни господские нарекания по любому, даже пустячному поводу, ни укрытая забитой покорностью лютая к нему ненависть крепостных; но внешне этого теперь почти ничего в нём не обнаруживалось. Окаймлённое снизу бородой, загорелое до черноты и вспухшее лицо выглядело изуродованным. На нём бросались в глаза огромные затёкшие синевой свежие кровящиеся ссадины, одна занимавшая почти всю левую щёку и нос, а другая, располагавшаяся в верхней части лба и неумело прикрытая торчавшей из-под зимней шапки бугристой прядью свалявшихся густых и длинных серых волос.
Побои угадывались и в других местах заметно сжавшегося тела, особенно на спине, из-за чего старосте, чтобы унять боли, приходилось наклоняться от пояса вперёд несколько больше обычного, расставляя руки и ноги, однако он как бы и не считал нужным скрывать то, что с ним сотворили. Тем самым он, скорее всего, обозначал возможность по-своему круто наказать любого ему подвластного, кто осмелился бы в принижение доставшегося ему ранга хотя бы лишь усмешкой или как-то иначе дерзко намекнуть на воздаяние ему суровою мерой отвлечённой всеобщей справедливости, вбиравшей в себя, само собою, и подлинное житейское обоснование его беспощадного, хотя, вероятно, и не заслуженного истязания.
Направляясь к воротам усадьбы от злополучной молодёжной поляны, Алекс увидел его совсем близко идущим через лёгкий пешеходный мосток со стороны кузницы. Староста прервал шаг и поздоровался, сняв головной убор и по-холопски раскланявшись.
– Не будет ли приказаниев? – спросил он, слегка шепелявя, почти беззвучно, раскрываясь таким способом ещё и о болях во рту, на зубах.
– Благодарю, ничего не нужно. А – что это с тобой?
– Так, нечаянно…
– Кто же? Я умолчу, не таись.
– Не смею… Барыня строго-настрого…
– Умолчу. Даю слово. Можешь верить.
– Не сперечу; но вы уж… А то не обернулось бы хужее… Их сынок. Ещё ввечеру… По приезде…
– Сам?
– Сперва сами, а утомимшись, велели Василию.
– Кто это?
– У кузнеца помощником. Силища как у быка; на меня зол.
– Из-за чего?
– Отведывал моей руки… Торопился сватать… У меня… К моей… Дело привычное…
– Почему как раз – он?
– Против своей воли. Попался барину на глаза.
– И что же?
– Вернейший у нас приём – не розгами, так того пуще – плетью. Быват вперемежку… Меня – прутьями, лозовыми…
– Позволь, но – за что?
– Не смею…
– Всё же.
– Позорно. Смиловайтесь…
– Умолчу. Клянусь…
– К их приезду гулявшие оставались на месте. Видемши отряд. За то избит вручную и сапогами… Хотя – не виновен. От сына было письмо, наверное с уведомлением; барыня же мне ничего не сказывали… Я не знал…
– А – розгами?
– Позорно, вашество…
– Требовал? Чего?
– Как и в прежних появленьях…
– Девку?
– Известное… Да в энтот-то раз не чужую… Мою дочку… Ну, – что и с Василием… Лишь подрастает…
– Взял?
– Виноват. В непослушании… Осержу…
– Не винись. Мне надобно знать.
– Не позволимши… Предпочтя экзекуцию…
– Но мстить Василию ты ведь не будешь? – Этот вопрос напрашивался хотя бы ввиду того, что избитый, вероятно, заходил в кузницу уже не только с обидой и злостью на подручного за доставшиеся розги, а при всех своих прежних правах и полномочиях, чтобы, например, справиться там у кузнеца о каком-нибудь заказе от хозяйства или дать работникам новое задание.
– Пошто о том? Он, как и я, принуждался… Барская воля… – Евтихий поднёс к груди находившуюся в руке шапку и сделал поклон, выражавший просьбу освободить его от дальнейших расспросов.
Тягостный диалог чем дальше, тем выходил утомительнее – уже для обоих.
Отпуская старосту, Алекс чувствовал, как негодование в нём будто затвердевало, слипалось и душило его, не позволяя вернуться хотя бы в то состояние едва только набегавшей неровности и неясной встревоженности, в котором он находился, приближаясь к поляне, где встретил Никиту. О том же, что позади осталась ещё и та часть прогулки, когда можно было предаваться неопределённой мечтательности и беззаботному верхоглядству, просто ничего уже не помнилось. Не говоря уж о времени, совместно проведённом наедине с Марусей, которое памятью следовало удерживать как особенное, хотя и затронутое искренним болезненным сочувствием к несчастной девушке, но всё же какое-то светящееся, зовущее к покойной радости, почти целиком закрывавшее непродолжительные попутные тогдашние мысли насчёт своей несуразной забывчивости о случившихся собственных дорожных неприятностях предыдущего дня.
С этим соседствовала и ещё некая всё более отяжелявшая и угнетавшая его мысль, которая касалась той части беседы с Марусей, когда он отвечал на её расспросы о молодом барине.
«Она не иначе как хотела сказать больше, чем успела, и, скорее, даже непременно то, что уже знала о неожиданном ночном визите Мэрта с отрядом…»
Что так и могло быть, в этом он уже не сомневался.
Войдя в усадебные ворота, Алекс неожиданно увидел на крыльце барского дома Марусю.
Она спускалась по ступенькам крыльца, и было вполне уместно заговорить с нею уже как бы в продолжение того, что осталось не выраженным ясно о сыне барыни во время их прогулки; но тут за девушкой сразу вышла на крыльцо Екатерина Львовна и, ещё пока не заметив гостя, что-то стала говорить ей резкое и требовательное, пресекая отлучку и заставляя немедля вернуться в дом. Сцена выглядела довольно угрюмой.
Алекс догадывался: барыня расспрашивала крепостную и наверняка выведала у той, что говорилось о её сыне, так что теперь следовало ни в коем случае не допустить ещё одного контакта Маруси с приезжим и на всякий случай удерживать её в доме, на половине, отведённой челяди…
Слов Екатерины Львовны хотя и нельзя было разобрать, но по их досадливому тону, а также и по тяжёлой озабоченности или даже испуганности на её лице совсем нетрудно было понять, что барыня слишком поздно осознавала свою промашку с устройством для гостя вольного выхода из жилой части усадьбы в сопровождении Маруси, – лучше бы ей было ограничиться отказом, основание которому она сама так подробно и живописно объяснила, поведав об очередной массовой порке подданных.
Предположения о причинах, угнетавших хозяйку, чуть позже подтверждались и рассказом Никиты.
Маруся считалась «ничьей» по рождению, то есть – подкидышем. Воспитывать её отдали прачке, разбитной молодке, оставшейся с тремя своими детьми вдовой после неожиданной смерти мужа, солдата, проведшего на военной службе около четверти века и вернувшегося домой старым и с ворохом недомоганий.
Отцом же девушки называли теперешнего старосту Евтихия, чего, впрочем, доказать никто не мог. Мнение, что родитель ей именно он, крепло с годами из-за того, что лучшей подружкой у Маруси оказалась настоящая дочка Евтихия, Настя, моложе Маруси почти на целых два года, но не по летам рослая и пригожая, и Евтихий всегда мирволил обеим, не возражал и не сердился, когда кто-нибудь называл их сёстрами…
Как раз Настя и стала предметом похотливого желания Мэрта, и уж об этом-то Маруся просто не могла не знать. Как не могла не знать и обо всех других сумбурных последствиях, увенчавших очередное посещение барским сынком родовой усадьбы.
Никита имел возможность многое услышать и от мужского состава челяди, и от женского. В том числе и от Маруси с Настей. А частью и от самой госпожи, по натуре неисправимой болтушки.
Хотя слуга умел быть замкнутым, но он хорошо знал своего барина, чтобы притворяться неосведомлённым и не докладывать ему обо всём, что могло интересовать его. Алексу не стоило большого труда как бы нечаянным вопросом заставить его разговориться. Ответы он всегда слышал короткие, но правдивые и обстоятельные. Теперь, однако, выспрашивать многое ему просто не было нужно и не хотелось. И того хватало, в чём пришлось удостовериться самому.
Мысли болезненно выстраивались в одном: что за дурацкий изворот, утаскивал его, Алекса, прямиком в сумрак задавленного состояния жизни низшего сословия? Что это? Не знак ли здесь того, что ему, поэту, пока ещё вовсе не старому, но уже слишком часто говорившему и писавшему о своём старении, так и не удавалось отрешиться от былого, от мечтаний, от светлых и пустых надежд? Своей ли была и удерживалась в нём эйфория беззаботной молодости, стихотворная насмешливость над его судьбой и её изгибами? Над тем, куда он с большой собственной охотой позволил влезть оборотню Мэрту?
Мало тебе других неприятностей, так получай их ещё и от этого поганишки.
Ну да, как же теперь воспринимать и называть этого подлого человека?
Дружба с ним казалась надругательством, издёвкой. Она была уже сплошной грязью, фоном, где не могло находиться ничего осветлённого и понятного. Зрела растерянность; что-то в душе увеличивалось обвальное, опустошающее, обессмысленное.
Зачем он здесь? И куда едет? Что нужно ему в этой поездке? Только деньги, заём?
И чем она может закончиться?
Наступал поздний вечерний час. Алекс объявил барыне, что едет рано утром. Так же рано, как то было с отъездом Мэрта. Знал, что уже будет не до сна, даже не вполне полагал, поедет ли дальше или вернётся вспять, домой, к себе…
Раздвоенность такого рода будто кем-нибудь придумывается нарочно, чтобы запутывать уже и без того запутанное и разлаженное.
Проснувшись намного позже намеченного, хотя всё же и затемно, Алекс вынужден был признать, что его вечерние предчувствия начинают сбываться, и неблагоприятные, скомканные обстоятельства теперь, возможно, опять будут пригибать его.
Никита не разбудил его, и, значит, он серьёзно болен. Брать Никиту с собой рискованно. Слуга ещё с позавчерашнего вечера говорил ему о болях у себя в груди, об испарине и общем недомогании.
В поведении подневольного могла крыться некоторая хитроватость. Никита умел наперёд угадывать состояние барина исходя из тех ситуаций, когда, как и на этот раз, всё было ему хорошо понятно по происходившему. Барину лучше не ехать, отдохнуть, снять напряжение, а то и повернуть назад. Иногда такая уловка удавалась, что со стороны Алекса не вызывало никаких укоров или нареканий. Но теперь слуга в самом деле выглядел больным. Хворей он заполучил ещё до этой поездки, искупавшись в холодной протоке; сейчас они продолжали его преследовать и могли выражаться ещё заметнее ввиду его соучастия вместе с возницей в той избыточной дорожной суете, которая становилась неизбежной при необходимости подталкивать кибитку на выбоинах во время позавчерашнего ливня и – особенно при вызволении кучера с места, куда тот слетел с облучка.
На состоянии здоровья слуги, наверное, не могли не сказываться и такие вот запутанные нервные условия временного пребывания в чужом гнезде.
Возникавшие препятствия не могли, однако, повлиять на решимость поэта продолжать путешествие. Нет, если уж не ехать, то лучше – слуге. Даже несмотря на то, что и с возницей, если учитывать его позавчерашние ушибы, дело обстояло не совсем ладно. Он, господин, отправится в путь вопреки всему. Нельзя позволять подавленности всё разлаживать до основания.
Никите он позволил всего лишь поприсутствовать на дворе усадьбы при своём отъезде.
Короткие проводы не отличались от тех, что происходили здесь же в конце предыдущей ночи, если не считать среди собравшихся, кроме его слуги, ещё троих – старосты и Маруси с Настей, остававшихся стоять почти без движения и совершенно молча чуть в стороне и сзади от остальных. В темноте фигура Евтихия по-прежнему выглядела страдающей от болей и оскорблений и будто ждала обращения к себе провожаемого. Но с чем бы следовало к нему обратиться, когда всё – наспех, и к тому же – под явным присмотром самой хозяйки двора? По всей видимости, и девушкам, которым была во многом и даже в подробностях знакома свежайшая и очень важная тайна имения, также было резонным ожидать от гостя если и не впрямую связанных с нею вопросов, то хотя бы какого-нибудь касавшегося её внешнего знака внимания.
Опять же и им, сразу обеим, рассчитывать на это не приходилось, поскольку вторую, Настю Алекс раньше даже видеть не мог и так же не мог теперь знать того, она ли, державшая сейчас Марусю за руку и слегка склонившаяся ей на плечо, та самая, чуть не ставшая жертвой грязного домогательства Мэрта, а что до Маруси, то он действительно почти не прочь был к ней обратиться и только единственно за тем, чтобы разделить с нею её печаль об её Акиме, но – общая обстановка прощания по сути с чужим для здешних обитателей человеком и, в свою очередь, с ними, также чужими для него самого, к тому и в этом случае также не располагала.
Выслушав наставления барина не пренебрегать снадобьями и советами госпожи и дворни насчёт своего скорейшего выздоровления, слуга жестом руки испросил у Алекса соизволения отойти вдвоём немного в сторону. Когда они передвинулись, он сказал, указывая на фуру:
– Там всё уложено, как должно. Ещё оказалась книжка. Не помню, чтобы она была прежде. И чья – не знаю. Оставил для вашего благородия, на сиденье.
– Может, кто забыл, потерял?
– Справлялся об этом. Никто не в претензии. Даже сами барыня. Пропажи, говорят, не числятся. Сказал им, не оставить ли в усадьбе. Ответили, пусть, мол, там и лежит, где лежит.
– Ну хорошо. Будь здесь послушен.
– Извольте не беспокоиться. Да вот ещё…
– Говори.
– О сапогах…
– Что такое?
– Сапоги, что стояли в горнице… Снятые барином, сыном… Кровь на них… И на шпорах…
– Ты видел это сам?
– Как же. И все заметили, кто входил… Сами барыня…
Тяжёлое удушье, как и вчера, на поляне, вновь охватывало Алекса.
Его поразила смелость, с какою обращался к нему теперь Никита по обстоятельству, которое нельзя было не считать выходящим из ряда вон. «Замечал ли я такое в нём прежде?» – медленно и как-то нехотя раздумывал он, не вполне осознавая, следовало ли думать сейчас именно об этом. «Чёрт бы всё побрал!» – хотелось выговориться ему, однако надо было сдерживать себя.
– Так ты выздоравливай, не перечь… – только и сказал он Никите.
– Счастливой дороги, – совсем тихо и устало-сочувственно ответил ему слуга.
Выезжая в кибитке за ворота и заворачивая от них налево, где вдоль речки его сопровождала на прогулке Маруся, Алекс уже был уверен: он знает причину тревожности и беспокойства, одолевавших его с утра вчерашнего дня. Ведь он тоже проходил по горнице, несколько раз выбираясь из дома во двор по своим неотложным надобностям ещё до приезда Мэрта и после, когда тот, появившись под самую ночь, уже переодетый, в халате и в шлёпанцах, застал его в кабинете и они вместе отлучались из него сначала в помещение столовой, а затем на крыльцо и на веранду подле него, чтобы подышать прохладой, а также и во двор – ввиду тех же неотложных надобностей.
Сапоги со шпорами, снятые Мэртом, стояли на полу вблизи вешалки, у самого входа в горницу, совершенно видные, так как сюда доставал свет горевшей свечи от стены напротив. Гость не мог не обратить на них внимания, но, скорее, только проскользил по ним взглядом и не придал значения метам на них. Как не придал никакого значения и униформе синего цвета на вешалке, лишь едва заметным краем видневшейся над полом из под нависавшей сверху домашней занавески.
Сознание, возможно, зацепило пятна рыжеватого оттенка, увиденные на сапогах, уже подсохшими, но – только и всего.
Память не торопилась разобрать в них прежний, натуральный цвет, да она попросту и не была готова передвинуть зафиксированное на передний план; этому не способствовал тот особый характер общения с ещё не уличённым оборотнем, когда брало верх радостное возбуждение и стойко держалась удовлетворяющая взволнованность, вызывавшаяся ожиданием встречи и самой встречей.
Также гость мог видеть сапоги уже и без кровавых мет на них – в то время, когда кто-то, вероятнее всего, Мэртов слуга, поставил их на место, брав ненадолго, чтобы почистить щёткой или отмыть в воде. Таким образом, достоверность восприятия в той поре заметно суживалась; теперь же отстраниться от подозрений Алекс уже не мог, хотя и не очень того желал. В конце концов, не следовало пренебрегать докладом своего слуги. Сказав это себе, одинокий пассажир фуры присовокупил к установленному ещё и то, что его уже вполне умышленно смогли обвести и с одеждой Мэрта: при отъезде тот сошёл во двор в широком дорожном плаще-накидке цивильного образца, неплотно облегавшем его фигуру, с рукавами и со шнурком, стянувшим надплечье у подбородка. Сзади, над спиной тайного служаки торчал бугорок капюшона, а его голова оставалась непокрытой, без форменной фуражки, которая сразу бы указывала на очевидное. И шпор на сапогах при расставании гость не заметил. Были они на месте или нет, сказать бы это он затруднился.
Мэрт, видимо, предусмотрел всё.
«Растяпа! Столько упустить! – с опозданием попенял себе Алекс за невнимательность и за беспечность, имея пока в виду ограниченное, лишь то, что оказалось ему уже известным – о злосчастных окровавленных сапогах и в целом о факте предательского подлога. – Ты, право, перестал годиться в дотошные наблюдатели, а в таком случае и – в литераторы!» – растравляясь, продолжал он упрекать себя,
Огорчение расползалось по телу, забираясь глубже вовнутрь. От чёрных мыслей некуда было деться. «Вот она, суть дворянского блеска, настоящее в ней – чудовищно…» – думал он, глядя в оконце впереди себя, где на облучке еле виден был силуэт наклонённого к коленям туловища кучера.
Оттуда слышался дробный глухой перестук конских копыт по мягкой от пыли земле, который тут же смешивался с легким тарахтением колёс и поскрипыванием фуры и с однообразными гроздьями тонких перезвонов поддужного колокольчика.
Усвоенные угрюмые впечатления не спешили загладиться и дать потеснить себя отрезвляющей рассудительностью. Алексу припоминалось, как много коварства узнавал он в своей среде за прожитые годы и что не кто иной, как он сам, что называется, имел честь быть равным себе подобным и также, как и они, ответственен за общие сословные пакости и ублюдства. Да и за его собственные – тоже.
Каковыми были, к примеру, судьбы хотя бы тех его крепостных, которых приходилось закладывать или продавать в связи с его сумасшедшими, сильно обескураживавшими его проигрышами? А разве не знает он о норовах управляющих захиревшими вконец его поместьями? Не те ли у них жесточайшие средства, какие использует староста Евтихий, надзирая за вверенными ему подданными и приструнивая их, дабы не переводился достаток у Екатерины Львовны, а в конечном счёте и достаток дворянского сословия в целом, стало быть, и непосредственно его, Алекса, что ни дальше, то всё более расшатываемый?
Ах, мысли, мысли, бедовые, безжалостные! Что им за выгода терзать человека, если он и без них угнетён и принижен? Подите прочь!
Давно проехали мост через речку, близ которого он расстался вчера с Марусей, продолжив прогулку без неё. Дальнейший путь пролегал в направлении, по которому сутками раньше унёсся жандармский отряд. Ещё до сих пор были видны следы его движения, только в малости обновлённые редкими гружёными повозками и копытами тащивших их лошадей и быков.
Как непосредственно оперирующему приёмами словесности, Алексу тут невозможно было отвлечься от факта оставления им того самого перекрёстка, откуда вчера он, не торопясь, прошёлся пешком к съездам от просёлка в сторону Неееевского, находя до момента обнаружения следов жандармского отряда хотя и неброское, но всё же весьма занимательное в окружающем, что как бы само собой опять и опять возвращало его к мыслям о Марусе, о её горе, уже будто саваном покрывавшем её будущее, возможно, самое ближайшее.
Перекрёсток он вправе был теперь считать неким отправным началом какого-то грозного, неизбежного и по-настоящему удручающего, мрачного события, связанного с его посещением усадьбы, и такое продолжение казалось ему почти очевидным, поскольку и по завершении им визита к Лемовскому в связи с необходимостью забрать недомогавшего слугу ехать ему этим же путём предстояло и в обратном направлении.
«Славная девушка», – почти вслух подумал Алекс, пытаясь хоть как-то отвлечься от событий, связанных со встречей с Мэртом.
Крепостная судьба Маруси трогала его, кажется, всё больше, непроизвольно вовлекая его в тот мир чувств и идей, где им, подхваченным азартом и стихией творчества, было суждено обязательно распространяться куда-то вдаль и вширь и до поры бесцельно бродить, созревать и искать повода снова вернуться в обыденную реальность; тут они, возможно, уместились бы в отдельное, проникновенное повествование о непорочной бедовой судьбе женщины, уже почти обречённой…
«А в самом ли деле всё, что касается Мэрта, – правда? – откуда-то неожиданно выплыл перед ним вопрос, как бы для того, чтобы только не останавливаться в размышлениях о столь нелепом пребывании в усадьбе помещицы. – Не вышло бы ошибки…»
Несмотря на очевидные улики, стоило посомневаться. На карту ведь ставилось отношение к одному из себе подобных, имеющему равные и притом немалые права. Здесь за главное бралось понятие сословной чести, и принятое заключение определённо могло вести к её утрате самим подозревающим. Ведь он выступал бы уже не только лично от себя, но и как глашатай сословной, то есть отнормированной справедливости – понятия, достаточно расхожего в дворянском сообществе.
Случись что не так, могло не поздоровиться в первую очередь заявителю, поторопившемуся указать на несоблюдение догмата и не предоставившему достаточных обоснований этому.
Утрату чести ввиду наговора обязательно отнесут уже на его счёт, а это бы означало полное отторжение от привычной среды, от круга устоявшихся в ней интересов и отправлений, а значит также и – привилегий, что зачастую смерти подобно и ею действительно должно было соизмеряться, поскольку обычаем честь полагалось отстаивать и не каким-то иным образом, а непременно с оружием в руках, в беспощадном, смертельном поединке. То есть – было уже не до тех шуток и легкомыслия, которыми он, как правило, обставлял свои прежние, не перетекавшие в непоправимое дуэли – в ранней своей юности…
Кто, в самом деле, мог бы привести в доказательство следы сумбурного передвижения отряда в сторону усадьбы и от неё, его ночного постоя на поляне, расправы над старостой? Зверские экзекуции подданных – едва ли не обыденное в крепостничестве. Как здесь должны строиться обвинения? И кто стал бы рассматривать их? Приезжие чины?
Расследование пойдёт явно к интересам господ. Крепостных могут просто ни о чём не спрашивать.
Постепенно Алекс приходил к мысли, что даже сведениям, переданным ему Никитой, он доверять вряд ли вправе. Кровь на сапогах? Так её там давно нет. То же и на шпорах. Шпорами нередко до крови обдирают бока лошадям, побуждая их к большей прыти, а тут как раз могло быть такое их применение. Легко ведь допустить, что Мэрту, чтобы размять затекавшие члены, захотелось на время пересесть из фуры в седло, согнав с него рядового служивого.
Нет, слуга явно преувеличивает, ему, наверное, импонировали негодование и пристрастные путаные перешёптывания дворни, её консолидированная обида за Настю…
Сомнений добавляла картина, в которой почти зримой ему представлялось позавчерашнее продвижение конного жандармского отряда по той части просёлочной дороги, где во время сильного дождя привелось очутиться его одинокой кибитке.
По времени то могло быть позже ненамного, и дорога ещё оставалась размокшей и скользкой. Это вряд ли веселило ехавших, конечно же, досталось и лошадям. Да, опять – о шпорах, о том же…
А, кроме прочего, продолжало быть неуяснённым то, кем, собственно, был Мэрт, в какой роли, заезжал он к себе в усадьбу. Как человек, целиком повелевавший отрядом, его командир? Или как сотрудник, подчинённый, упросивший командира ненадолго задержаться, чтобы повидаться с матушкой?
Сведения об этом замяты краткой задержкой Мэрта в усадьбе, загадочностью его отъезда…
Решив не поддаваться действию желчи от столь навязчивых и выпуклых реминисценций и соображений, поэт принялся за чтение книги.
Он взял её в руки ещё до того, как достаточно рассвело, и ждал, когда можно было бы ознакомиться с нею.
Первые солнечные лучи, упавшие на кроны деревьев и на травянистые прогалины по сторонам дороги, ещё долго не проникали вовнутрь кибитки, и читать пока было нельзя. Время тянулось медленно. Затем лучи хотя уже и обхватывали всё вокруг, но они с трудом проникали сквозь тусклое крошечное слюдяное оконце обращённой к востоку дверцы и ещё долго неуверенно обшаривали внутреннюю часть фуры.
Наполнение её светом запаздывало ещё и из-за менявшейся погоды. Солнце то появлялось, то закрывалось медленно надвигавшимися на него клочьями перевитых темнеющими сгустками и выдававших скорое похолодание серых облаков.
Остаточные полутени ушедшего времени свету наконец-то удалось рассеять и вытолкнуть. Стали видны ряды строчек и буквы на страницах.
Книга не имела привлекательного вида: истёртые и засаленные обложки из дешёвого тонкого и слоистого картона серовато-соломистого цвета без единой буквы или штриховки на них как снаружи, так и на сторонах внутри; на первом листе под лицевой обложкой – выходные сведения только из имени и фамилии автора и заглавие из трёх слов, под которыми стоял вялозовущий, но явно подобранный с бульвара цветок предложенной темы: «повествование о моей пустой и тягостной жизни и об излишестве её продолжения»; больше ничего.
Размером книжка была скорее тонкой, чем средней толщины; непронумерованные листы подшиты грубыми нитками к посконной ленте и вдобавок ещё подклеены к ней, а обе обложки снаружи, на изгибе соединяла наклеенная на их края полоса из тонкой дешёвой кожи с выделкой под светлобуроватый колер. Набрано всё, включая и текст, одной гарнитурой.
Никому бы не составило труда удостовериться в полном отсутствии вкуса у издателя, если бы о том шла речь. Стоило, конечно, усомниться и в наличии у книженции сколько-нибудь приличного тиража и легальности печатания.





