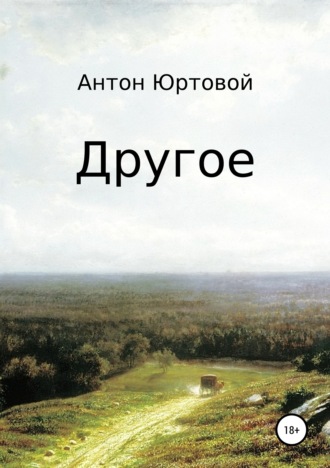
Антон Юртовой
Другое. Сборник
На нём они лягут тяжёлою ношею, побуждая его быстрее перейти к осуществлению зревших в нём устремлений покинуть сообщество разбойников и бежать за границу или, наоборот, урезать их, эти устремления, до крайности, оставшись в здешних лесах и покорно принимая возможные роковые удары судьбы, сгоряча выбранной им самим.
Что же до денежной купюры, подложенной под записку, то ею, вероятно, должно было выражаться некое сословное почтение Аниного брата к талантливому и признанному поэту, с которым он имел уже случай встречаться, ехать в одной карете и даже говорить с ним, и теперь в вежливой форме заочно приносил ему извинения за доставленные неприятности.
Десятирублёвое номинальное достоинство ассигнации, из-за её обесценивания равное всего нескольким рублям серебром, хотя и составляло только малую часть отнятого у проезжего, но всё же это была весомая уступка, так как при её скромном расходовании и, даже рассчитывая лишь на неё, ею вполне можно было обойтись, по крайней мере, до выезда на губернский тракт, где на ближайшем постоялом дворе обобранный мог встретить знакомых или даже вовсе не знакомых ему людей своего сословия и обратиться к ним за неотложной помощью. Взаимовыручка такого свойства была обязательной как норма кодекса породной чести, и она строго соблюдалась щепетильными дворянами в дорожных условиях.
Жест Андрея в любом случае недооценивать было нельзя, и поэт, с удовлетворением принимая вложенный в него смысл, в который уже раз признавал за главарём разбойников его умение быть настолько предупредительным и даже тактичным, что это как бы возвышало его над ним, его жертвой, побуждая воздать ему должное.
Тут приходилось также считаться и с тем, что лишь ввиду прямых соприкосновений поэта с Андреем всё обходилось без той ярой жестокости в обращении с ним, оказавшимся во власти отвергнутых, какая могла иметь место без его, главаря, присутствия. И возвращение поэту книги – подарка Ани – опять же следовало рассматривать как повеление Андрея. Он, видать, не зря полагался на опытность бородатого, незаметно вложившего издание в засумок, а не бросившего его в карету небрежно, абы как, когда оно могло бы вырониться оттуда при её движении или же от тряски раскрылось и под порывом ветра или по какой-то другой причине из него бы выпали и оказались утерянными записка сестры и ассигнация.
Да, некая досада, особенно по части ограбления при проезде от монастыря, не исключалась, но, разумеется, речь не могла идти о каком-то его, Алекса, уведомлении властей да и вообще кого бы то ни было о его встречах с разбойниками – даже несмотря на то, что он понёс не только моральный, но и вещественный урон. И то, что он ни в каком виде и ни перед кем не проговорился о контактах с ними, по-прежнему, как и до его отъезда из Лепок, представлялось ему совершенно правильным: не раскрывая тайны, он хотя и отступал от сословной целесообразности, но в целом требование чести нарушено им не было, – чести уже, разумеется, не в том зауженном и выспреннем содержании, какой она была у дворян и исподволь портила их, а – другой, в её высшем смысле, выражающей меру подлинного человеческого достоинства в любом и в каждом.
Правда, оставалась-таки горечь от сознания того, что поступок, который казался ему необходимым и мог бы служить в очищение его беспокойной и укоряющей его совести, осуществить не удалось.
Горечь тут имела для него то значение, что поступок, способный, как ему казалось, устранить обузу, усложнявшую восприятие им неровностей окружающего мира и как бы ускользавший от него на всех участках этой дороги в Лепки и оттуда, – где он как-то по-особенному был востребован поэтом, – что называется, не давался ему и раньше, возможно, раньше всегда, на протяжении всей его жизни.
С этим фатальным обстоятельством ему следовало, конечно, примириться, но только нехотя, заставляя себя, сжав зубы, поскольку оно захватывало его и влияло на него, будучи квинтэссенцией господского бытия дворянской эпохи, в которой он, испытав её опалы, остро ощущал себя несвободным, не своим для неё, отстранённым, чуть ли не изгоем, лишённым всякой возможности или даже права поступать так, как бы он хотел, считал нужным и полезным, притом – не огрязняя своей основательно утомлённой совести.
Снова он вынуждался углубляться в ту вязкую стихию постоянно возникавших в нём состояний неудовлетворённости собою, когда анализ мыслей и всей его деятельности подводил его к резкой переоценке сущности своего предназначения.
Алекс не мог бы устранить из своей памяти того сложного и заставлявшего её метаться в некоем угнетении и в растерянности, что было у него связано с прочтением книги Антонова.
Рассказанное Аней об авторе хотя и скучной, но по-своему весьма увлекательной и трогательной повести заставляло думать о том, насколько творчество, его содержание и достоинства часто оказываются не соответствующими личным задаткам пишущего, его жизненным принципам. Создавший текст – был ли он по-настоящему талантлив, как сумевший запечатлеть свои чувства и переживания в таком виде, когда они созвучны мыслям и чувствам многих читателей, пусть это сделано и при содействии другого человека?
Дано ли было ему осознать то, что замечалось в нём гадкого и неприемлемого другими?
Теофила, возможно, оговаривали, выпячивая в нём манеру едва ли не куражиться над людьми, для него чем-то вызывающими неприязнь, и – тем самым указывая на будто бы постоянно тлевшее в нём чувство мести за своё не вполне пристойное появление на свет и за невозможность всецело принять условия жизни другого, небедного сословия, достойного, как могло выходить из его размышлений над ним, быть глубоко презираемым за его спесь и явные мерзостные пороки.
Но, однако же, – никак нельзя было не доверять и – сообщённому Аней.
Она рассказывала так искренно, просто из нежелания скрытничать перед поэтом; для него, как она имела основания думать и даже говорила об этом, тут могло быть нечто очень важное и значительное, – и в таком случае ей не имело ровным счётом никакой выгоды принижать у несчастного сводного братца его личностное.
«Возможно, – медленно перебирал поэт свои мысли, возникавшие по данному поводу, – несправедлив по отношению к Филу и я, поторопившийся по-своему резко отреагировать на двойственное и несуразное в нём. Разве он в состоянии был избежать влияний хотя бы тех самых обстоятельств, какими отягощаюсь и недоволен я сам? Мы так трафаретно пошлы в своих симпатиях и ненависти, что предпочитаем осознавать их в себе только по отдельности и даже не допускаем мысли, когда в ком-нибудь они оказываются в слитном, совмещённом виде…»
Приняв книгу от слуги, он теперь держал её, не выпуская из рук, и рад был вспомнить, как, глядя в неё, плакал над прочитанным, тронутый запечатлёнными на страницах событиями и мыслями. Ему казалось недопустимым предположить, будто бы Фил играл на своих горестях и злосчастьях, словно бы взявшийся за перо просто так, от нечего делать и не знавший, о чём бы ему хотелось поведать, как то случается едва ли не у большинства писак столичного пошиба.
Нет, изложенное в повести правдиво и в точности соответствовало тому, в чём видел необходимость разобраться и он, стихотворец, часто путешествующий в поисках кредиторов. Содержание прочитанного ко многому обязывает и его, с его склонностью с целью создания поэтических образов приподнимать существующее. «Такая работа не вредна и даже необходима, – говорил он самому себе, – плохо, однако, то, что стало почти правилом приподнимать имеющееся перед глазами, а тем более – в душе, недостаточно его обмысливая; значит и результат может быть и бывает соответствующим: он лишается красок правдоподобия, с чем не считаться не пристало даже особо умудрённому…»
Уже неприемлемыми казались ему контуры отдельных, витавших в нём образов.
Как ему следует запечатлеть в тексте, к примеру, черты встреченной им по дороге личности главаря разбойников? К какой правде тут апеллировать? Кто он, по-настоящему, этот человек, если в нём уже «сидит» бунтарство, но в то же время он не разрывает и с условностями той сословной среды, из которой бежит?
А в каких бы красках нужно представить читателю беглого Акима, изувеченного медведем и уже наверняка умершего, в чём теперь и он, держатель сословной чести, готов был признать существенную долю своей вины, пусть хотя бы и – косвенной?
Чем измерить тревоги, надежды, муки, оставшиеся для страдальца, скорее, неосознанными?
Без уяснения столь важных вещей невозможно видеть в нём не только беглого солдата или только рекрута, но и просто человека из низов, как порабощённого – в его конкретности; в этом случае пишущим просто не до него, – они отвернутся от его истерзанной, горькой судьбы как ни для кого не представляющей интереса.
Сколько наберётся такого вокруг!
Поэзия опирается лишь на крохи того, что имеется. Существующее в большей части уходит в прошлое, не затронутое творчеством, не высвеченное в нём…
«Не очевидно ли, что и я бреду по той же сомнительной колее? Могу ли при том совершать поступки, какие я желал бы иметь на своём счету уже как совершённые, но – мне они не даются, а без них – я должен признать своё ничтожество?..»
Хотя такие мысли и были тяжелы, но Алекс не чувствовал больше той изнуряющей подавленности, какая накатывала на него сразу по выявлении им предательства Мэрта. Как-никак, намеченная поездка уже заканчивалась, и не произошло в ней ничего такого, что можно бы отнести к исключительному, сверхнеобычному. Ну там предательство, ограбление. Разве хотя и не так чтобы часто они не приходят к нам, к каждому?
И всё вокруг становилось теперь для него близким и приятным: запоздалое солнечное тепло грело ровно и как будто вдоволь; не оторвать глаз от огневой багряной окраски лиственных лесов, подступающих к дороге то ли сплошною стеной, то ли разбросанных по разным частям ландшафта в виде рощ и прозрачных колков; изумительна разреженная голубизна осеннего неба – оно словно бы наделено какою-то одушевлённою чувственностью, пробуждая светлое в воображении и рассудке; в такт пению поддужного колокольчика и езде всей упряжки плывут невысоко наверху, никуда не спеша, угадывающие приближение холодов светлые облака; явно интересуясь бредущими лошадьми и фурою, пролетит низко над ними некая птица, а то и не одна, или же прямо на дороге вдруг окажется и на мгновенье застынет в недоумении торопливая, беззащитная зверюшка; роскошны и просты открытые, сильно побуревшие пространства с ровными гладкими возвышенностями, с оврагами или небольшими речушками у их оснований, к которым лепятся редкие в этих местах, малолюдные поселения; оттуда или только эхом доносятся блуждающие дребезжащие, не имеющие силы взвоны мелких церковных колоколов из тонкой и дешёвой меди.
Впитывая в себя эту щедроту, нельзя не задумываться о лучшем и не лелеять надежды быть совершеннее и мудрее, чем ты был раньше, по крайней мере до этих минут ласкового и какого-то блаженного умиротворения, – хочется их продлить возможно дольше.
Будучи литератором, умевшим глубоко постигать изысканное в естественном, Алекс жадно, почти с восторгом принимал прибавления окружавшей его красоты, наслаждался ею; под её влиянием приходили к нему покой и ровное расположение духа; избытки чувственного в нём готовы были воспламениться и выплеснуться возвышенным, поэтическим, прощающим…
Собственно, в чём он мог упрекнуть Мэрта? Дружба дружбой, но есть ведь и понятие служебной тайны.
Ей находилось место и в исполнении его бывшим близким другом должности министерского порученца, и он, поэт, кажется, ни разу не был к нему в претензии на этот счёт.
С какой стати претензии должны быть по отношению к обязанностям, какие у офицера могли возникать при использовании его опыта в сфере жандармерии, тем более, что это подразделение, с его тайными полевыми командами, числилось как составная часть тогдашнего военного ведомства, полностью и во всём подчиняясь только ему?
Скрытая, возможно, временная принадлежность приятеля к составу тайной полиции – должно ли то быть расценено как что-то недопустимое в принципе?
Он, служака, сам, вероятно, мог испытывать смущение как обязанный нести в себе принятую им тайну, подчиняясь присяге и велениям служебного долга в том прямом и суровом смысле, что его деятельность направлялась к сохранению и защите общественного жизнеустройства, и он, будучи, конечно, патриотом, мог совершенно не задумываться над тем, что на самом деле защищает прежде всего – дворян, богатых, то есть – отдаёт свою жизнь тому, что освящалось сословной честью, хотя и с оглядкой, разделяемой также им – признанным большим поэтом…
«Но ведь было изувечение старосты жестокими побоями, домогательства в отношении молоденькой Насти, а ещё ранее, как о том вскользь говорил Евтихий, такие же домогательства в отношении других девушек или молодых женщин – крепостных в своём родовом имении!
Смею ли закрывать глаза на подобное, если оно есть прямое надругательство над превращёнными в собственность и беззащитными?
Одно дело, когда развратничают в верхнем сословии, где как бы забавляются опозориванием равных себе и зачастую выдают развратные поползновения за некую свою удаль; тут происходит то, что и должно происходить с обречённою кастою – в своей спесивости и апломбе она безразлична к себе и устремляется только к вырождению, – таков, по большому счёту, я сам. И – совершенно другое – с теми, униженными; им свойственно по-своему понимать их нескладную и убогую собственную жизнь, думать и мечтать о свободе, стремиться к ней через поступки, сплошь осуждаемые в верхнем сословии, видеть в приобщении к такой жизни свою будущность.
Эта сторона их существования в определённом смысле близка мне, поскольку в ней, как я полагаю, светится перспектива; я пробую глубже постичь её, предаваясь творчеству; но – как много здесь препон: порою я готов себя возненавидеть как носитель принципов «высшего общества»; вынужденный их разделять в житейской повседневности, я обязан снисходить к каждому из «своих»; однако творчеству это сильно противоречит; во многих моих стихах это запечатлелось, и плох тот критик или мыслитель, будь он из теперешней современности или из иного, последующего времени, который бы не замечал такого её изъяна; показное в моём представлении есть нечестное, приподнятое не в меру искусственно, – им я постоянно отягощаюсь; я не верю себе, колеблюсь.
И – по-настоящему ли я нетерпим к Мэрту после того, как я узнал его другим и видел уже мёртвым?..
Как это горестно – быть сочинителем и в угождение неким отвлечённым и нигде не записанным установлениям не решиться действовать по своему усмотрению, то есть – не решиться на поступок, справедливый, тот самый…»
Проехали уже изрядно; далеко позади оставалось то злополучное место, на котором застал упряжку тяжёлый холодный ливень, когда она двигалась в сторону к Неееевскому. Сегодня солнце с утра исходило добрым запоздалым теплом и лаской. Но дорога было сырой и труднопроезжей. Здесь совсем недавно сильно продождило. Вода стояла в колеях и в выбоинах поверх, так что во многих местах они не различались. Лошади быстро утомились и брели будто слепые.
У свалившегося плетня, где зацепило облучок и с него свалился в огородную грязь возница, блестела внушительная по ширине лужа. Настоящее озерцо. Колеи тут явно прерывались ямою. Но где она? В тот раз, когда упряжка подвигалась у самого плетня и даже касалась его, она удачно объехала это место.
Сейчас же фура здесь провалилась всеми колёсами; лошадям было не по силам вытащить её. Причмокивая и матерясь, возница их энергично понукал и даже несколько раз протянул по их крупам жалом кнута, но они только вздёргивались и надрывно всхрапывали, оставаясь сами по животы в воде и грязи.
Кучер явно не справлялся с ситуацией в одиночку: на помощь поспешил Никита.
Отойдя на какое-то время от упряжки, они возвратились, принеся с собой увесистую длинную деревянную лагу и массивную чурку – чтобы, сделав её опорой, можно было приподнять ось кареты. Налегая на лагу и во всё горло крича на измождённых лошадей, они наконец своего добились: фура, протащившись по глубокому и вязкому дну, миновала препятствие.
Суета, однако, сделала своё неблаговидное дело: работники рассорились. Как явствовало, при отлучке за лагой и чурбаком и – не на шутку. Оба мокрые и в грязи, они горячо и зло укоряли один другого в лености, нерасторопности и неуступчивости. У обоих изъяснения изобиловали матерщиной.
Как следовало из этого сердитого диалога, взаимная их неприязнь имела важной причиной то, что Никита придерживался мнения, будто бы ехать надо или вплотную к плетню, или – свернув к закраине озерца, на другой бок, но – как раз с этим не мог согласиться кучер; он не допускал первого варианта, помня об ушибе ключицы, а по части второго, оказывалось, также был осведомлён достаточно основательно: там, доказывал он Никите, вельми заболочено и произойти могло ещё хужее…
Алекс наблюдал за перебранкой разгорячённых холопов, вызволявших кибитку, не выходя из неё. «Вот ведь человек, – думал он о вознице. – Впрямь ли он слеп, как о том я слышал от Никиты и готов был поверить этому сам на дороге в лесу? Будто бы и глаза в бельмах и взгляд какой-то невидящий, отстранённый. А ведь исполняет работу ответственную, промахи у него если и выходят, то редко и незначительные. Не бывало, чтобы даже ночью он не усмотрел дороги и дал лошадям свернуть на обочину…»
Глядя в лицо возницы, которое из-за бороды и надвинутой по самые глаза шапки виделось лишь частью и отражало некую не утихающую острую внутреннюю боль, поэт хотя и был расположен искренне ему сочувствовать, но одновременно не мог и не сомневаться в нём. К тому подталкивало происходившее в поездке.
Ввиду чего съехал он с большого просёлка на глухую дорогу за рекой, где произошла встреча с разбойниками? Хотя кучер и пытался изображать огорчённого этим событием, но в своих действиях был словно бы заодно с ними. Та дорога оказалась вовсе не короткой, а передвижение по ней лишалось каких-либо удобств.
Также любопытно и то, что при ограблении его, поэта, вознице, сидевшему на облучке спиною к фуре, вроде бы было хорошо видно, как орудовал внутри её бородатый.
Ведь не иначе как с его слов так подробно и точно излагал то нерядовое происшествие Никита.
И потом – исходивший у него изо рта запах промякшей от пота ременной кожи; поэт был почти уверен, что он его чувствует и различает, даже находясь на отдалении от возницы.
Тайны ли здесь или только череда случайного, которое могло казаться очевидным? Кем же всё-таки была подложена в кибитку книга Антонова?
По всем статьям, это могло быть делом Андрея, точнее: людей, которыми он верховодил. Так шло исполнение почина его отца, решившего распространять издание среди проезжих.
Сын воспринимал его, такой почин, по всей видимости, одобрительно даже после размолвки с родителем. Кроме того, это действие он мог расценивать как знак памяти о сводном брате. И тут не исключалось посредничество кучеров или кого-то из челяди или дворни – как из своего, так и многих других имений или общественных мест.
Вполне также вероятно, что лучшим местом, где следовало подкладывать книгу в фурах, считался засумок позади сиденья.
Там не замеченный Никитой экземпляр книги, возможно, находился и в то время, когда фура с поэтом выехала на просёлок с губернского тракта, то есть ещё до его встречи с Мэртом.
Что же касалось того, что Андрей просил у Алекса отдать книгу ему, то, очевидно, это было связано с тем простым и хорошо понятным фактом, что она уже была прочитана поэтом, и её нужно было снова вбросить в вольный оборот, – пусть бы её смогли таким же образом прочесть другие проезжие…
А кто мог уведомить разбойников о проезде фуры к женскому монастырю и обратно?
Алекс когда-то слышал, как деревенские мальчишки потешались над взрослыми, управлявшими возами со впряжёнными в них лошадьми или волами.
В сухую погоду они выбирали колею поглубже и в оба её следа перед углублениями вкладывали каменья или иные твёрдые предметы. Для колёс это служило препятствием, и чем воз нагружался более, тем резче он опускался вниз, переезжая через предмет. Днём такая шалость могла не пройти: предмет легко обнаруживался при внимательном смотрении возницы на дорогу перед собой. Но с наступлением темноты эффект был иным.
Спрятавшись где-то поблизости, шалуны устраивали радостный шум и визг, когда повозку сильно встряхивало и она издавала грохот, пугавший тягло. Этого затейникам было, конечно, мало; главное состояло в соответствующей почти мгновенной реакции на подставу и насмешки утомлённого за день односельчанина. От него можно было слышать проклятия и самую отборную ругань в отношении не только их, сорванцов, но и – своей горемычной доли, строптивой жены, тягла и вообще чего угодно. То есть – веселившаяся ребятня узнавала о нём то настоящее, которое он мог скрывать от других в обычном общении и поведении.
Особенный повод выражать восторг вызывали проделки над возницами, избивавшими детей и подростков и изгалявшимися над ними…
Вполне казалось возможным, что и разбойники пользовались ребячьей методой, по встряскам издалека определяя проезд упряжек. Оставалось только выследить интересующую их.
Мог ли кучер заезжей кареты содействовать этому? Кто знает. Ему, во всяком случае, не составило бы труда при встряске выронить в этом месте на обочину некую припасённую заранее вещицу вроде палки, подав тем самым соответствующий условный знак наблюдающим за дорогой. Как отведавший многолетней службы в солдатах и, стало быть, не лишённый соответствующей богатой смекалки, кучер мог знать массу элементарных скрытых приёмов оповещений при передвижениях по проезжим местам.
А что касалось его, поэта, случайно вчерашним вечером оказавшегося в стороне от большого просёлка, то ему ли, занятому с Аней, было обращать внимание на излишнее тарахтенье фуры, даже если оно слышалось и отчётливо различалось?..
Ах, Аня! Добрейшая, славная, прекраснейшая душа! Она, как теперь он был в том уверен, по-настоящему понимала его!
Однако же – как скоро он лишался её, и как это было для него неожиданно! Какой странной и какой жестокой оказалась тайна, которою она обворожила его вначале в горячке их общей страсти! Не такой ли и должна быть настоящая женщина? Он, поэт, пожалуй, не сталкивался с подобными, изображая в стихах совершенно непохожее, чуждое жизненности, подрисованное…
На разные лады он пробовал представить, каким бы мог получиться поэтический образ, если в основу его положить Анины черты.
Некие почти готовые строки уже появлялись в его сознании, и он даже собирался запечатлеть их на бумаге, поспешно достав карандаш и небольшую тетрадку, всегда имевшиеся при нём.
Но – было ясно, что многие детали тут ещё не осмыслены, как нужно бы, а именно этим, что он знал по опыту, должно определяться оформление образа, если стремиться, чтобы он выходил привлекательным и правдоподобным; не учитывая деталей и не утруждаясь их тщательным осмысливанием, неизбежно сотворишь то, что окажется приподнятым без видимых причин, предложенным от ума, а не сообразно обстоятельствам.
Ясно, это никак не могло быть приемлемо для данного случая, поскольку требовалось учитывать особенности Аниной судьбы: всё женское в ней, прежнее и предстоящее, должно выражаться не иначе как драмою, несчастьем – долгим и нескончаемым…
Восприниматься такой образ будет как требующий жалости и слёзного сочувствия, то есть – он стал бы в некотором смысле хотя и глубоким, но одновременно и зауженным, если не узким вовсе; – в том-то, однако, и дело, что у него, большого и признанного поэта, такое решение не в привычке, и принятым быть не может хотя бы как недостаточно обдуманное…
Конечно, рассуждал он далее, сама Аня вольна считать свою участь не горькой и не бедовой. Это оттого, что события, какие её касались или ещё должны касаться, она готова считать как значимые сами по себе, вне связи с порождающими их причинами.
Ту же свою влюблённость она восприняла чисто по-женски – страстно и безотчётно, жертвуя собою и как бы вовсе не задумываясь о последствиях. Но последствия, причём весьма тяжёлые, неминуемы: она не способна быть неискренней и неоткровенной и раскроется на первой же исповеди или даже в простом предварительном собеседовании, где в роли послушницы примет необходимые наставления.
Что из этого выйдет? Да, кажется, ничего, кроме укоров, а то и наказания. А что уж говорить о крайнем случае, если она забрюхатела!
Предстоит настоящий переполох и не только в обители, куда она попала, но и в других женских монастырях. Есть обители арестантские – для признаваемых особо виновными послушниц и принявших постриг; не грозит ли и ей перемещение в этот ад?
Не успев хотя бы что-то узнать от самой Ани о монастыре, куда он сопроводил её, Алекс мог исходить из общеизвестного для своего времени и предполагать, что в юридическом смысле это учреждение значилось как женское общежитие, ранее бывшее общиною верующих, с тою разницей от неё, что теперь оно должно было иметь монастырский устав.
В таких обителях селились девушки и женщины, как правило, из дворянских и других зажиточных сословий, приносившие с собою весомые денежные или вещные вклады и называвшиеся белицами. Их пребывание в обители нельзя было считать слишком трудным и притесняемым, поскольку получаемых от них вложений хватало как на их безбедное обеспечение, так и на другие внутримонастырские расходы, например, на строительство привратной церкви.
Аня имела возможность принести в дар монастырю если и не всё, чем могла располагать по наследству, то какую-то немалую его часть, и в этом случае её сносное существование там как бы гарантировалось. Но могла ли она верно рассчитать свои силы в пределах той угрюмой аскезы, какую она вынуждалась принять, дав суровые обеты послушания и воздержания? Ведь их отмена не предусматривалась ни уставом, ни религиозной традицией. Понимая свободу в целом неизвращённо и не ощущая на себе особых её ущемлений до прибытия в обитель, новая насельница легко могла впасть в уныние, проклиная свой выбор, а он ведь был не только её – причастным тут оказывался и он, заезжий поэт.
В том ли благополучии виделся ему статус монастыря, у ворот которого он расстался с Аней? Скорее, он принимал желаемое за действительное. Ведь такие женские обители в его время были ещё большой редкостью, и они создавались пока только вблизи крупных городов; здесь же была отдалённая глубинка, глушь…
«И какова окажется судьба чада?» Вероятность его появления у Алекса почти не вызывала сомнений, и он, казалось, даже готов был радоваться мысли об этом. Он припоминал, как Аня в те ночи, когда она приходила к нему, просто, не выказывая чувства ревности, расспрашивала его о нём так неподдельно искренно, что ему только и оставалось быть предельно откровенным перед нею.
– Наверное, – говорила она, – твоим поклонницам нет числа… И во всех ты влюблялся… Ах, гадкий!.. Ездишь, встречаешься, соблазняешь… И – разве их может быть много?..
– Может, милая…
– Твоей… ну, матери твоих деток – не позавидуешь. Она, должно быть, скучает, ждёт… многое знает… Как вы ладите?
– Да вот так и ладим. Если вправду, её мне жаль, но лишь отчасти. В полной уверенности в ней я быть не могу. Слышу об изменах. У других такое почти в порядке вещей. Знают и всё терпят. Вот и я тоже, и она – тоже. Мы друг друга стоим.
– А как ты думаешь, я смогла бы так? Зная о твоих изменах…
– В начале бы устраивала сцены. Но потом бы смирилась.
– А измену тебе ты бы простил мне?
– Разумеется, – нет. Но что же я мог бы сделать? Стреляться? Убить тебя? Но я не воспитан в такой жестокости и мстительности. Постепенно мы бы поладили.
– А любовь – разве бы её не стало?
– Да, милая, к сожалению. Не то чтобы её не стало вовсе. Она бы изменилась, пригасла, потускнела. Но в прежнем виде, как изначальная, она бы обязывала хранить о ней лучшие воспоминания. Это дорого каждому. Ты бы помнила о ней?
– Разве о таком можно забыть? Нет, никогда! Даже при твоих изменах…
– Ты прелестна. Мне бы поучиться твоей мудрости…
Алексу импонировала возможность быть таким откровенным в ответ на откровенность юной собеседницы.
Для него становилось ясным: Аня уже достаточно искушена в жизни, но, разумеется, не в том, в общепринятом широком и удручающем смысле, а в жизни своей, усадебной и уездной, о которой её знания превосходны.
Главное же – она ничего из этого не упрятывает. Стало быть, нет в ней и того ханжества, находиться в котором многие считают за лучшее, видя пороки и погрязая в них сами.
Ей, по крайней мере, не кажется странным то, что она, вполне вероятно, имеет не настоящего отца, не того, какой дан ей записью о рождении в лице барина Ильи Кондратьевича.
Вровень с нею в понимании сути таких вещей не сумели подняться ни Андрей, ни сводный брат, автор книги. У тех судьбы оказались испорченными от знания правды. Но – когда и в чём правда требует своего признавания и понимания в полноте?
В дороге, если даже отвратительна её проезжая часть, но иных отвлекающих помех для упряжки не возникает, хорошо раздуматься и не только о чём-то своём.
Размышления могли устремляться к общему, к постижению хотя будто и очевидного, но в неких других значениях.
Алексу всегда были желанны раздумья такого рода; поддаваясь им, ему удавалось касаться таких сторон чувственности и бытия, какие не замечались им раньше, а ещё больше того: и для всех, как он мог об этом судить, они оставались недоступными.
В его сознании они появлялись, образуя своеобразные высветы, когда вдруг приоткрывалось нечто очень важное, без чего все прежние знания о жизни и о себе следовало считать недостаточными.
Не в том ли состояла необходимость ему, поэту, идти на опережение своего века?
Не обращаясь в эти сферы, нельзя было надеяться на своё совершенствование, на успех.
Как много уже постигал он, извлекая полезное на таких вот дорогах! Но всё было мало ему: талант заставлял идти дальше…
Мысль поэта спешила за этим важным соображением. «Нам, – говорил он себе, – явно не хватает разума принимать жизнь не подкрашенную, не ту, которую мы себе воображаем, приняв массу условностей и голых, досужих принципов. Если на то пошло, вполне ли и я должен доверять своему дворянскому происхождению? Резонно предположить, что и для всех, кто живёт или жил, фамильное древо не может оставаться таким, как оно бывает представлено. Путаница тут неимоверная. Ведь никогда не обходилось, чтобы кто-то кому-то не изменял. А что уж говорить, если измены следуют сплошной чередою, уводя в некий содом, когда всё перемешивается! Должны соответственно изменяться и родословные. В коленах чистоту крови сохранить невозможно, кем бы и какие бы высокие слоги для этого ни подбирались и чем бы намерения выглядеть непричастными к неизбежным изменениям ни обосновывались и ни оправдывались…»





