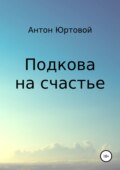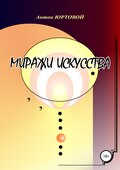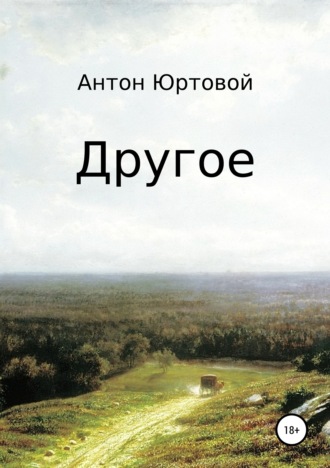
Антон Юртовой
Другое. Сборник
Ни об её авторе, ни о названии державший теперь её в руках ничего не слышал и не знал.
Несколько подивившись крайне примитивному оформлению, поэт взялся медленно перелистывать страницы, точно испрашивая себя, надо ли вообще напрягать внимание, чтобы настроиться на чтение. Страницы, как ему казалось, пахли сырыми древесными стружками и забродившим мучным тестом; они были тусклыми и слежалыми, наподобие того, во что с годами могли превращаться листы в старых амбарных или вещевых книгах, – рыхлые, с преобладанием устылой, возникающей от времени желтоватости, в разводах подтёков и в бесчисленных грязных потёртостях на нижних, уже почти истрёпанных, углах страниц от прикосновений пальцами людей, видимо, имевших к ним частый доступ по своим или каким-то другим надобностям.
Ничего подобного и сразу же располагающего к унылости Алексу никогда раньше не доводилось иметь в пользовании.
Слегка обозрев издание, как предмет письменности, он сделал предположение, что, оно, вероятно, «не тянет» и содержательностью, – как лишённое стилистического или иного изящества.
Его, возможно, брал с собой в дорогу один из прежних пассажиров.
Брал, да не осилил чтением, постаравшись забыть о нём и просто, без сожаления, расстался с ним.
Дома сразу такое читать и не подумал бы, оставил нетронутым: если не набредёт по его поводу какой-нибудь искры в голове, то пусть оно и лежит себе до поры, сколько угодно.
Однако тут, в раздражении и монотонности дороги, чего-то другого поразмяться умом просто не находилось, и как бы в унисон такому очевидному обстоятельству возникало исходившее из его писательского да, собственно, и из его же читательского опыта соображение, что измаранные и затёртые кем-то страницы – это иногда не что иное как признание за ними достоинства. Пусть не литературного, а хотя бы касавшегося чего-то в быту, в обиходе, но всё же – достоинства.
«Сам я, распорядиться положить её сюда не мог; не забыл же я, в самом деле. – Алекс попытался найти объяснение, откуда книга взялась. – И Никита, с его назойливой старательностью, считает книгу чужой, то есть – не обнаруженной им ещё до поездки, когда он, как всегда, не допускал отъезда без тщательного осмотра средства передвижения. Нет, такого, чтобы я давал распоряжение, произойти не могло. Да это и не по мне. Я не приучен забирать с собою в дорогу подобные вещи, хотя бы мне даже и предназначенные и необходимые, но не вручённые как добрый памятный знак кем-либо из хорошо мне знакомых людей или не приобретённые покупкою».
«А не такой ли это жест, каким некогда удивил Радищев?» – пронеслось у него в голове. То был известный скандальный факт, когда, предвидя запрет на своё детище, сочинитель сам разослал читателям, по большей части влиятельным сановникам, свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», напечатанную в его домашней типографии.
В высшем обществе это вызвало тогда резкое осуждение, поскольку получившие издание посчитали себя скомпрометированными и оскорблёнными.
Поддаваться предположению об умышленном подбросе такого же рода вещицы лично ему поэт склонен не был; но мысль об этом всё же насторожила его. Что тут могло служить целью? Для кого?
Скорее, то было случайностью. Какое-нибудь обошедшее цензуру чтиво, в те годы всё чаще появлявшееся в разных местах, в том числе – в глубокой и дальней периферии, по моде, исходившей, может быть, от того же Радищева или же от писак, похожих на него изворотами неопределённых сомнений в общественных устройствах и неотмотивированным подстрекательством на неприятие и хулу кем-то и когда-то заведённых порядков; или же то могло быть творение явно неудавшееся, серое и плоское содержанием и просто сброшенное с торгового прилавка за отсутствием покупателя.
Злое и преднамеренное исключать всё же было нельзя. Однако оставалась непроницаемой причина. Для компрометации, в расчёте на неё в будущем, раз к тому появлялась подходящая возможность? Но отчётливому смыслу тут места всё же не находилось.
Алекс твёрдо знал, что, собираясь в дорогу долго, а под конец торопясь и будучи довольно рассеянным, он уведомил о точном времени своего отбытия только слугу, которому доверял всегда целиком и во всём, что только мог доверять сообразно своим потребностям или намерениям. Чтобы тому очутиться в роли агента, согласившегося на подлость, кто-то должен был на него очень сильно повлиять и понудить его. Никита вовсе не такой человек, который бы подчинился или хотя бы не промолчал об этом перед своим барином.
Даже как подневольный, он для такого – явно не подходил.
Коротко мозг обожгло очередное предположение. Оно касалось Мэрта.
Видимо, всё же следовало допустить, что тот имел целью обложить его посредством скрытой слежки и при этом должен был заручиться хотя бы каким, пусть и ни к чему не направленным компроматом, используя, разумеется, своего слугу. Но и оно, такое предположение, как ни был Алекс обозлён и раздосадован этим отщепенцем, выходило неровным и смутным.
Мэрту вроде как и не было нужды впрямую искушать себя непорядочностью в отношении лично Алекса. Впрочем, ждать тут можно было, наверное, чего угодно. И как раз на этом отрезке сбивчивые размышления вдруг будто устопорились.
В очередной раз Алекс готов был основательно изругать себя ввиду, как могло ему казаться, последнего и, пожалуй, самого значительного обстоятельства, выдававшего умелое служебное притворство Мэрта.
Тот при начале их встречи хотя и употребил подобающие случаю восклицания насчёт того, как он несказанно рад и прочее, но даже не спросил Алекса, куда, зачем и когда он поедет дальше.
Впрямую такого вопроса он не задал ему и позже, не отреагировав даже на шутливую жалобу самого поэта, обронившего, что его передвижений требуют дела, насаженные на долги, кои что ни месяц, то становятся тягостнее.
Оборотень чем-то отвлёк его от этой щепетильной темы, но в какой-то момент ловко её коснулся уже, как говорится, с другого бока, назвав и себя должником от века и перед всеми, и, завихрив эту фразу некоей банальной староватой сентенцией, над которой оба ненатянуто посмеялись, неожиданно, слегка сузив глаза и отведя в сторону взгляд, сказал, не обращая конструкцию сказанного в вопрос, непременно требующий ответа, а как бы лишь констатируя ситуацию:
– Так, стало, все и живём: дела-делишки, в долгах – под крышку. Слова – чужие, слышал их в одной нетрезвой беззаботной компании, но, полагаю, они правдивы, не находишь?
– Правдивы, согласен, а что до нетрезвой да ещё и беззаботной компании, то нам сейчас же резон выразить ей почтение. Прозит! – Алекс поднял бокал с токайским, смахнув тем самым направленную на него колкость.
Поддаваясь обаянию позволительного непринуждённого умствования, он в ту минуту попросту не был способен обнаружить хотя бы толику действительного смысла в лаконичной Мэртовой тираде. Теперь же он становился ясным как день.
Оборотень, много зная о нём прежде всего от своего лучшего дружка, временами даже впрямую укорял его в неумении жить, замахивался на его скверные, вызывавшие разные кривотолки в светской среде привычки к неумеренным расходам и к висту, что всегда обязательно приводило к долгам и к поиску новых долгов.
И уже по-новому осознавался так и не произнесённый Мэртом вопрос о дальнейшем следовании Алекса от места их встречи. Не произнесённый даже при расставании с ним, когда они прощались в теменности усадебного двора. Да ведь и мать его, барыня Екатерина Львовна, также не соизволила спросить у него, куда и зачем предстоит ему ехать дальше.
Не иначе как ей было хорошо известно об обстоятельствах неустойчивости его материального положения, и она только ввиду их с Мэтром взаимной дружеской привязанности могла считать ненужным выказывать перед ним истинное нерасположение, заменив его притворством добродушия и ласкового родительского соучастия.
Кажется, обо всём этом пробовало известить его и его глубинное внутреннее чувство, ещё раньше уязвлявшееся грубым светским отторжением и необходимостью латать возникавшие прорехи, на разные лады разыскивая кредиторов. Пробовало, но без успеха.
Он продолжал оставаться нем и глух, осаживая в себе поползновения к подозрительности, способные, как ему казалось, что-то порушить в догмате чести, в том, что полагалось воспринимать неоспоримым и вечным, несмотря на широко известную всем и ему тоже страсть государства к тайному услежению за возможным появлением откуда-нибудь из-за границы или выпуском новых книг в своём отечестве, по ряду причин, а то и просто на всякий случай относимых к запрещённым. Как это родственно слабоволию, согласию на унижение себя самим, на добровольное укорочение совести! Ты ли это, певец возвышенных умилений духа и любезной тебе свободы?!
В Алексе нельзя было не замечать личности с привлекательными признаками творца. Как талант незаурядный, доходивший до всего сам, он и о скучных творениях, точнее: о скучных творениях от литературы, находил нужным выражаться нестандартно, и, пожалуй, это были не мимолётные замечания, а нечто несомненно важное или, как стало принятым говорить, – сущее. То есть уже прямо касавшееся и его самого, и его творений. У больших мастеров да и вообще у людей неординарных подобные мелочи – вовсе не мелочи.
Сейчас пренебрегать такой особенностью своего таланта, а также особенностью характера ему тоже не имелось никаких причин. Вдруг тут сможет открыться нечто к пользе.
И, следуя за краешком этого практического соображения и устраняя неуместную для данного случая предвзятость, а также некоторую долю неловкости из-за того, что, никого не спрашивая, пользуется вещью, ему не принадлежащею, мало-помалу принялся за чтение, вник, причитался.
Из-за дорожной тряски он удерживал книгу по возможности ближе к лицу. Такую привычку он приобрёл в частых поездках. Лёгкое скольжение глазами по строчкам. Изредка забеги на страницы, находящиеся впереди. Первое впечатление подтверждалось: да, скука неимоверная; однако скучна вовсе будто и не книга и уж, во всяком случае, не тот, кто её написал. Почему-то вспомнилось о своём возрасте. Уже перевал, за тридцать. Лишь середина, а – уже сумрак. «Личные страдания никем не оспариваются…» Он почувствовал себя так, будто его удерживают. Мысль о собственном, личном резанула его…
Росло желание не останавливаться и всё вобрать в себя. И неожиданно скоро чтение привело его буквально в трепет. Охваченный волнением, он уже торопил себя и чем глубже уходил в повествование, тем шире и полнее открывались перед ним сферы, дотоле при чтении книг доходившие до его рассудка только, казалось, частью и то каким-то окольным путём.
Уже при начале чтения сам автор являлся перед ним презанятной личностью. Её всю было видно в том, как она в некий роковой для неё момент оказалась низложена судьбою, замята и словно шнурком при экзекуции стянута суровым, беспощадным веком.
Это произошло, когда она только успела слегка притронуться к возвышенному, неплебейскому, тому, чего персонаж не имел при появлении на свет, а он, барин, оказавшийся в эти часы в дороге и читавший незнакомые, словно бы выплывавшие из тумана строки, вырос и жил в нём, хотя и в бореньях, с серьёзными трудностями.
Повествователю, если только за ним не упрятывалось вымышленное лицо, перепадали буквально крохи, причём почти случайно и на короткое время; вскоре же и о них можно было не говорить вовсе; а из образовавшейся пропасти он уже и не мог и даже не хотел стремиться выбраться и выпрямиться. Внизу памятью затёрло и остатки того, что давалось.
Человек будто никогда и не бывал на гребне.
Надежды, иллюзии, упорство, жестокая реальность обобщённой подлости и жестоко прерванной любви – они и в намёках существуют у него почти неразличимо. И потому он пишет, не возвышаясь хотя бы нечаянно, не задевая дрязг, не закручивая фабулы, не выделяя и не отличая действующих лиц, в том числе и себя.
Пишет больше, разумеется, о себе и, кажется, только для себя, и будто не было и нет ему никакого дела до озарений ума, до глупостей, творимых людьми, до нескончаемой суеты вокруг.
Оттого незаметно и сразу безликое засчитывается как никчёмное и само собою же предаётся отторжению и устранению, оказываясь выброшенным из жизни вон. Нет уже и самой жизни, остаётся лишь её тусклый, ненужный слепок…
«Я, Теофил Антонов, имел случай родиться бедным и лишь позже был признан сыном состоятельного дворянина, но не дано мне было пройти по жизни счастливо и ощутить её лучшие плоды.
Так ли я поступал как надо, когда обстоятельства понуждали меня к действиям, какими я мог бы себя поддерживать, – моим читателям, наверное, нетрудно составить мнение на этот счёт; что же до оценки своего положения мною самим в момент настоящий, то меня оно уже не интересует. Отдаюсь воле провидения, что, впрочем, не в первый раз, даже уточню – так было со мною почти всегда.
По принятым вокруг меня фальшивым канонам чести я жить не научился, как ни пробовал, по-другому же – нельзя; и вот теперь я отринут, хотя мог бы себя выражать личностью, чего-то стоящею, не скудной. Много сейчас таких, и оттого много и пустоты вокруг. Она меня стягивает, сдавливает – как обруч…»
Так безрадостно и тяжело уходило, тянулось это горестное, выбираемое из самых глубин естественного, персонализированное, какое-то жадное откровение – всё дальше от своего начала.
И не то чтобы хоть единым словом, нет, даже, кажется, точкой или запятой не выходило из текста иного, кроме бескрайнего уныния и всеохватного упечаливания авторской души, такого униженного и прибитого её состояния, когда уже ниоткуда извне повлиять на неё хотя бы чем было невозможно совершенно.
Как раз перед таким содержанием, будь оно хоть вовсе лишено значения и примет подлинно поэтического или художественного, то есть того, чем бывает обычно волнуем при чтении почти каждый человек или, во всяком случае, почти каждый образованный человек, – как раз перед таким содержанием читающий, двигаясь от чего-то обрекающего, окончательно неразрешимого только пока ещё не в его, а в чьей-то, другой жизни, как бы нечаянно заходит в тот уконструированный уже в нём самом, бедовый тупик, откуда и не видится, и не находится никакого выхода, и он, огорошенный и во мгновенье опустошённый, безотчётно обнаруживает в себе и выставляет перед собой такое, чего всегда крепко остерегался и до безумия стыдился:
«Да ведь и сам ты давно уже стал тяжёл и ненавистен самим придуманною ходульностью твоей персоны или, что ещё хуже, образом, наговоренным тебе со стороны из потребности всех высказываться вслух во много раз больше солодковатой или просто ни к чему не обязывающей ложью, чем суровой и задевающей, беспощадной правдой.
И неужели думаешь ты, хлюпишко, будто бы конец твой, а, значит, и неприятное, мрачное, умертвляющее тебя ещё только где-то дальше впереди, а не теперь, в эту, скоротечную минуту, если только он не состоялся уже на много раньше?
Как ты жалок своим былым, только что рухнувшим незнанием о себе, и как невзрачен ты в роли самого заурядного существа, приспособленного на безостановочное суетливое кружение вокруг самого себя и всю жизнь, до конца дней только то и делать, что запутываться в себе и, вследствие этого, постоянно бездумно и грубо переступать через себя!..»
Алекс был сентиментален не менее многих других в сословии, к которому принадлежал: даже при их постоянной обеспокоенности нараставшими задолженностями они хорошо помнили о былой неоглядной вольности и сытом благополучии, что склоняло их к ярко выраженной ностальгии по прошлому, где господствовали милые их сердцам убаюкивавший покой и безмятежность.
Тут лишь с невероятным трудом могла пробиться в реальное бытие защитительная сила, которая, казалось бы, должна была в них крепнуть под воздействием шумливого патриотизма и догмата чести, но, к их удивлению, всё реже и реже была способна обеспечивать им существование, скроенное по образцу вольности, когда-то возвеличенной и разукрашенной хвастливыми их предками.
Быстро теряя опору в жизненных обстоятельствах, это племя обречённых находило особые приятности в усовершенствовании умствований. Никому бы не удалось превзойти его в манипулировании тем, что принято называть облагораживающим внутренним возвышением или – духовностью.
То, что побуждало к движению гражданскую мысль, было почти во всей полноте их неотъемлемой собственностью.
Тут хватало, разумеется, и спекуляций. Загоняемые в углы дворяне горазды были подбадриваться высокой поэзией, брались философствовать, лезли к царям с предложениями обновить правление через посредство умеренной конституции. Дворянская плаксивость процветала в те времена. Алекс отдавал дань этому виду возвышенной чувственности.
Конечно, выражалось это в нём лишь общо, в пределах поэтического, прекрасного. Но имела также место и ошеломляющая, взрывчатая физиологическая потребность обращения к слезам, проявлявшая себя в бытовании.
Ещё недорослем Алекс испытал прямо-таки неудержимый слёзный приступ, когда читал свои первые вирши в присутствии одного почтенного стихотворца. Нет, не сами стихи, не их содержание могло стать тому причиной. В ту пору они указывали только на сильное природное дарование; никто пока и не считал их достаточно зрелыми; ценность их была укреплена последующим…
Он тогда так и не дочитал одного из них, будучи не в силах противостоять ещё не растраченной в нём детской смущённости и взволнованности перед живым представителем литературной богемы, убежал и не возвратился…
Слёзы накатывались ему на глаза часто непроизвольно, а причина могла тут быть любая, даже самая пустяковая, что-нибудь вроде намёка на отвлечённую тщету жизни.
Но вряд ли этот мятущийся, истлевавший сочинитель, раз он мог подпадать под нечаянную слезливость, был слаб волей, не умел управлять собой и не отличался решимостью.
Люди, среди которых он жил, не знали его таким, и потомки, узнававшие о нём с годами несравненно больше современников, – тоже. А психологи как один утверждают, что тут нередко проявляется в человеке нечто вовсе и не отрицательное или чернящее, и даже в такие бездуховные и безалаберные времена, какие приходили много позже, иному, скажем, театральному рецензенту хорошее бывало подспорье, когда по ходу спектакля ему удавалось увидеть подобие слезы, как часть мощного сосредоточенного сопереживания, хотя бы на одном лице среди многих лиц в замершем, притихшем, послушном зрительном зале…
Как многозначительно и утончённо раскрывается во всём этом намерение каждого вызывать и показывать перед всеми собственный дух надлома и отвлечённого, выморочного страдания, одновременно желая раствориться в общем, делая это как можно скрытнее, с расчётом не дать себя распознать до конца, а, возможно, и – от самого начала!..
Повествование, изложенное в книге, подействовало на Алекса примерно так же, как нож, вставленный беспечным живодёром между створками только что вынутого из воды моллюска.
Его уже не покидало ощущение, будто основное в нём, выраженное в творчестве и быстро, на много быстрее, чем у других, отстоявшееся до полной кристальной чистоты и прозрачности поэтическое богатство, а, значит, и все его чувства, то есть целиком душа разрываются неведомой злой и жестокой волей. И не просто надвое, как это могло быть от приёма живодёра; трудно было даже определить, в какой степени шло тут разделение, куда всё устремлялось и что возникало уже как бы совершенно в другом месте, в конце.
Слезам уже трудно было удерживаться под веками; они потекли по щекам.
Но Алекс не зарыдал. То бывало с ним во время приступов меланхолии и необъятной чувственной совместимости с окружающим.
Рыдания всегда его очищали. Он становился опять тем же, обычным и даже более собранным, так что в последующем это оборачивалось для него, пожалуй, вовсе без каких-то существенных потерь внутри себя. Теперь же нахлынувшие отчётливые и отрезвляющие мысли меняли очень многое.
Он плакал тихо, обидно, растерянно, отрешённо, не вытирая лица, всё ещё не прерывая чтения и не замечая, как под его ладонями слегка усыревают и, уже умягчённые, теряют свой нейтральный холодок унылые книжные страницы.
Казалось, этот беззвучный и почти внутренний плач был продолжением какой-то давно зародившейся тягостной печали, не остановленной во времени и теперь показывающей себя болезненным страданием навсегда. Хотелось только, чтобы о нём никто больше не знал и даже не догадывался. Впрочем, охваченный сильным возбуждением, он забывался.
Возница, видимо, услыхал, как пассажир хотя и невнятно, но достаточно громко выговорил, точнее даже не выговорил, а выдохнул, будто придавленный невероятной тяжестью:
– Ах, боже мой!..
На облучке произошло некое значимое шевеление туловища, сопровождаемое скрипением места под ним, вслед за чем раздался звучный собранный шлепок вожжами, протянутый вдоль хребта одной из лошадей по бугру её лоснившегося крупа.
Зачмокав губами и что-то пробормотав, кучер понуждал впряжённых животных ускорить движение.
Время истекало в том неспешном и незамечаемом утробном течении, когда всё вокруг кажется почти остановленным и покоящимся. Такой застывшей и ничем не утесняемой могла представляться даже движущаяся упряжка. Ровная дорога будто не сообщала ей ни тряски, ни сколько-нибудь ясно выраженного шума; тихо, мерно и как-то слепо, словно спросонья, встряхивался поддужный колокольчик; если его звучание и не было пригашенным на самом деле, то внутри кибитки оно воспринималось именно таким, что, естественно, отражалось на окраске и силе других звуков да и всего вокруг.
«А что бы на его месте сумел я?» – подумалось Алексу об Антонове.
Книгу он всё ещё удерживал в руках, то и дело раскрывая какую-то из страниц и заглядывая в неё, слегка там задерживаясь, вследствие чего отдельные капавшие слёзы и вызывавшие их эмоции, казалось, перетекали в мучительное сострадание в отношении ко всему, что только было созвучным прочитанной вещи и что могло теперь вспомниться из прежнего в его жизни, на всём её протяжении. Он даже простонал при мысли, что, возможно, жизнь и в самом деле могла у него быть иной, не столь разнообразной и насыщенной, а только всего лишь благополучной в её простоте, не отягчённой блистаниями цивилизации, часто горькими и постылыми, без той уродующей не только душу, но, кажется, и плоть мрачной атрибутики узкосословновной солидарности, которою он обставлен, стеснён и освободиться от которой ему, похоже, не дано.
«Что означало бы иное?» Чем бы, имея его в виду, можно было ему укрепляться, чтобы удерживать и лелеять в себе ни разу не подводившее, безотказное вдохновение и не растрачивать попусту привычной воодушевлённости, заимствуемой в окружающем, каким бы оно ни было постылым, в чём не преуспел и даже к тому не стремился Антонов, герой повествования?
Стало до боли огорчительно за случавшиеся изнуряющие неуёмные поиски фабульных конструкций, выдумывание, измышление действий для персонажей, за растрату не подлежащих раскрытию поэтических приёмов перед теми, кого он не любил или даже презирал.
«Пройдёт не так уж много времени, и написанное мною станет казаться тусклым, напыщенным, ненужным, так что никто не захочет читать меня. Причины к тому найдутся.
В людях, как можно предполагать, прибавится помешательства, разобщённости, злобы. Видимо, больше будет и распрей. Их ведь натолкано битком и в моих вещах. И кому и для чего были бы нужны как примеры изображённые мною лица и персоны? Готовые жестоко убивать, если им хоть чем-то мешают.
Говорю часто об их добродетелях, а чем доказываю? Завлекаю убийствами, беспощадным дележом. А бытовые и горестные заметы? Они узнаваемы сейчас; хвалят за их поэтизацию. А – дальше? Потом? Кому будет нужен такой хлам? Смогу ли уподобиться хотя бы ссыльному Назону, чьи поэтические описания, думаю, не хуже, но уже очень давно ни у кого не вызывают неподдельного интереса».
Остановиться было нелегко. «Почти всё, что пишу, выходит из жизни дворянства, а я ведь говорил и, кажется, уже не раз, что его ненавижу и хотел бы его погибели. И даже когда опускаюсь до описаний черни, вижу, как тут выпирают грани искусственные. Сколько уходит на это сил! Важны чувственные обобщения в натурах. Только им бывает суждено затрагивать души потомков. Ритмика, стиль, сюжет, форма. Без них прекрасному не обойтись, но они же и умертвляют».
На какое-то мгновение поэту показалось, будто заблуждения и ложь, представавшие тяжёлой глыбою в его существовании, уже ничем и ни в какую сторону сдвинуть ему не по силам.
«Как глупо, – думал он, взбадриваясь пришедшим итогом. – Ведь в том же самом погрязли многие мои знакомые, посещающие меня и уже известные литераторы. Озабочены, что нет идей; горюют из-за нехватки фабул; не могут обоснованно развить задуманного… Предвижу: кончится и тут стыдом за неостановленную ложь…
И разве найдётся у грядущих поколений хотя бы время для чтения того, что мы насочиняли, мотаясь как на ветру? Не найдётся интереса даже исторического: мелкое недостойно».
Раздумья устремлялись в изначальный круг. Но ещё долго были зажаты пальцами страницы книги, над которой он протащил омоченное слезами недостигнутое, недостижимое или промчавшееся мимо. Лишь как бы случайно в его сознании осталось отмеченным, что неожиданно и как будто совершенно некстати кибитка остановилась; произошло это уже не на просёлке, а в стороне от него, на каком-то убогом хуторе, у придорожного мини-трактира, где, как сообщил возница, можно подкрепиться, и уже пора, поскольку давно за полдень.
Алекс лишь кратко поблагодарил кучера за это уведомление и, вспомнив, что при нём должна бы находиться некая снедь, в виде хотя бы испечённых с вечера пирожков, о чём не мог, конечно, не позаботиться Никита, распорядился принести себе квасу посвежее и, не выходя из фуры, продолжал сидеть словно в оцепенении, не противясь отвлекающим пространным рассуждениям и раздумьям и добровольно принимая на себя их терзающие накаты. Уже и кучер успел вернулся, перекусив с чаркою водки, и лошади были им подкормлены и напоены, и сам поэт отобедал, машинально, не особо вникая в содержимое и во вкус пищи, повозка вновь двигалась по неотличимой в глухоте и однообразии, почти сплошь безлюдной местности, с редкими, встречавшимися на дороге повозками, а он всё ещё как бы не пришёл в себя, сидел, не чувствуя скованности, в состоянии подобном прострации и полнейшей отрешённости, будто не отдавая отчёта, куда едет и сколько времени.
«Если потомки и смогут меня понять, то в любом случае до конца не разгадают; и я сам тоже никогда не сумел бы разгадать себя. Зажатый беспощадною формою, уже сейчас вижу, насколько мои творения пронизаны ложью. И чем же стану хотя бы к своему концу?»
Разбегались не только мысли, но, казалось, и чувства. «Где я выискиваю не принадлежащую сословиям любовь? То, как бы святое, входящее тканью в мои труды? Более кипения кровей у герцогов да герцогинь, в альковах царских и княжеских. Как непомерно возвеличены страсти вокруг меня, дворянина! Сословие не вечно; – сохранится ли вера тому, что о нём рассказано? Наверняка, совсем недолго. Мои эпиграммные строки выдают с головой только меня самого: я ко многому нетерпим и тороплюсь о том поведать целому свету. Если я так радушен со своими друзьями, как описываю в стихах, то не резонно ли видеть своё двуличие? Кто мои враги? Чем подтверждаются неприязни? Одни только мелочи. Некоторых дразню по привычке. Беззаботный шут».
В наступавшей окружающей темноте с книгой наконец-то можно было покончить. Погода быстро менялась. Потянуло вечерней сыростью. Начинал накрапывать мелкий дождь.
Ещё неотчётливее, чем днём, были слышны какие-то усталые, протяжные цепочки перестуков и поскрипываний колёсных пар, лошадиных копыт, оглобель и хомутов; равнодушнее и ненатужнее взванивал колокольчик, тенькали пряжки зауздков.
Спотыкаясь, лошади учащённо фыркали; временами какая-нибудь из них давала о себе знать короткими беспокойными ржаньями.
Слышалось оханье кучера, перемежаемое совсем негромким его ворчанием; видно, его донимали дрёма и непрекращаемая боль. И ничего уже нельзя было разглядеть за маленьким тусклым оконцем кибитки – ни звезд, ни дальнего случайного фонаря. От однообразия позы Алекс иногда потягивался, ему не хватало места. Неприятно затекали спина и мышцы лица. Усталости не чувствовалось только в пальцах рук; они по-прежнему держали книгу, и в сознание поэта всё подходили и подходили мысли, навеянные чтением и в связи с ним.
Раздумья вытягивались в долгий ряд, тоскливые и куда-то спешащие, словно желавшие от чего-то себя оберечь; исподволь прирастало в них строгости к самому себе.
«Внимательный человек непременно обнаружит в моих писаниях некую недобрую избирательность к людям. Многое тут оправданно: перед большим числом героев и героинь, а также действительных лиц, о коих что-нибудь написал или высказал, – иначе нельзя. И всё-таки уже теперь заметна неискренность.
Старой моей служанке досталось от меня теплоты и чувственности вдоволь; её образом я доволен и похвалою в его сторону ценителей поэзии – тоже. А сам стыжусь, что будто через то сумел хорошо укрыть не менее значительное.
Где мои добрые строки о родных – членах семьи, для которых я не сторонний ни по крови, ни по обязанностям? Не достойно ли и тут воздать по справедливости, прежде всего отцу, как это принято в других семействах?
Разве то, что он был и остаётся скуп на мелочах, есть повод к оскорблению его замалчиванием? Да за одно общение с отменной отцовою библиотекой, начатое с раннего отрочества, я перед ним вечный должник. В душе к нему благодарен от всего сердца, и неприязни уж нет никакой, хоть она раньше иногда и бывала; но вот поди же! Непременно кто-то подметит: отец для меня словно чужой человек. И как могу возразить? Если видно, что и я чужой для него.
А бедная моя матушка? Сыновнее расположение и любовь мало заметны даже в моих письмах к ней и обоим родителям. А уж по стихам облик её и вовсе не странствовал. Будто я деревянный какой. Обиды от неё? Не без того. За провинности, помню, доставалось от неё по кистям рук. И она умела при этом делать очень больно, до оскорбления. Но спрошу: какое шаловливое дитя не было ведомо к порядку и послушанию подобным воспитанием в сотнях других дворянских семей? И, выходит, опять я выгляжу мерзко.
А что сказать о сестре, о братьях? Каковы они в моей судьбе? Только ли за то отдаляю их от себя целые годы, что слышал от них когда-то неодобрение моим стихам? Отзывы, скажу, бывали изрядно колючие и даже бестактные. Теперь, однако, вижу: по сути они в большинстве искренние и верные. Чужая неразборчивая молва и ретивая критика приняты мною гораздо ближе, и я им поддался, кажется, сразу, даже не заметил этого. Жаль.