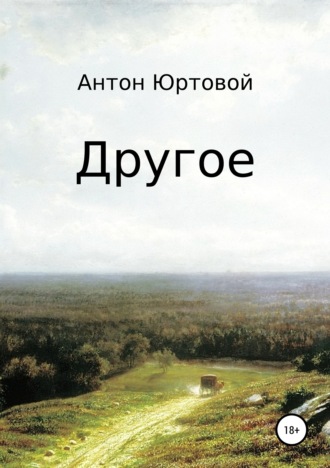
Антон Юртовой
Другое. Сборник
Державный менталитет продолжает быть и проявляться в своей ущерблённости и обессмысленности. От крепостной поры тянутся к нам нити безмерного, тотального неуважения к личности и принижения в ней человеческого достоинства, что, в частности, выражается, несовершенной процедурой регистрации граждан по месту жительства, сохранившей все угрюмые признаки прописки лагерно-тюремного образца из времён преступного советского строя.
В связи с этим нелишне заметить, как у нас необдуманно выражаются насчёт общественной стабильности. Она, говорят, необходима – чтобы успешнее, ровнее шло выполнение тех-то и тех-то планов, программ, проектов. Но программы трещат часто от того, что они мало совместимы с возможностями и с требованиями жизни и оборачиваются бурными всплесками разного рода злоупотреблений, преступности и коррупции. В результате равнение на некие цели хотя и удаётся выдерживать, но не без потерь, – получая стагнацию или застой. Кроме того, если говорить о стабильности, то единственной верной гарантией её поддержания должна, очевидно, служить не воля каких-то личностей или политизированных сил, а конституция. Тот коренной закон, который предусматривает сохранение государственных основ через удовлетворение назревающих новых запросов населения и соответствующих преобразований.
Наши матросы и солдаты, – писал Грановский, имея в виду участие России в Крымской военной кампании середины XIX века и общее положение дел в тогдашней империи, – славно умирают… но жить здесь никто не умеет.5
Примерно так же можно сказать о днях нынешних.
В каком, например, виде общество получит выгоду, истратив за десятилетие более двадцати триллионов рублей на оборону (с учётом инфляции или обвалов мировой финансовой системы, возможно, в два-три раза больше)? Или – плюс к этому – сотни миллиардов рублей на ублажение кавказских регионов?
Сомнительные державные амбиции видны в развитии строительства роскошных спортивных сооружений, храмов, бесполезных и уродливых монументов, мостов, башен. Или мы ослепли и не отдаём отчёта, как страну захлёстывают наркомания, детская беспризорность, пьянство, тёмные, звериные нравы? Не видим, как, вследствие этого, в настоящую бездну деградации сползает современная деревня?
Из неё «выдавлены» целые поколения; и горьким символом уже в течение целого исторического срока остаются в ней избы с заколоченными окнами и дверьми покинувших их, обделённых вниманием, обиженных властями людей.
Золотой век был только небольшим отрезком времени крепостного права. Растягиваясь по столетиям, это право, а не что-то другое больше его воплощало собою ту самую стабильность, которую с изощрённой старательностью удерживали цари, офицеры, помещики, чиновники, попы. Служившая могучей осью заведённому порядку, она, в конце концов, стиралась и заканчивалась…
«Люблю я пышное природы увяданье» – отчеканивал поэт свои ощущения осенней жизни вокруг себя. Этот прекрасный образ глубоко трогал его современников, и он продолжает волновать каждого до сих пор – как раз, видимо, потому, что созвучен любому времени на земле, когда при своём закате не только природа, но и социальные устройства вдруг выражают себя в некоем блеске и озарениях, отдающихся восторгом в человеческих восприятиях. Только могут ли быть забыты завихрения эпох, несших на себе проклятие несправедливости паразитировавших верхних общественных слоёв по отношению к низшим?
Сейчас, поддаваясь эйфории свободы выбора, новейшая литература всё дальше отходит от освещения прошлого в его центровом, стержневом содержании. Читателя донимают вымученными сюжетами; ткань повествований пронизывают элементы упадка и пошлости, откровенное враньё; в человеке взбалтывается худшее. Жанры перенасыщены фантазиями и дурными условностями, так что не остаётся ясного и плодотворного взгляда не только на историю, но и на текущую, теперешнюю действительность, разумеется, и – на будущее.
Такие направления избраны и в некоторых других видах искусства.
Очень многое несообразно в текущей политике. В стране приняты, а вернее сказать: протащены законы не для народа, из-за чего он, будучи, по конституции, носителем власти, не имеет права голосовать и выставлять свои требования так, как бы того хотел.
В крайне тревожную стадию перетекает проблема перераспределения земель на селе и в пригородах. Выделенные паи на неё в огромных количествах выкуплены за бесценок, что содействовало крайнему обнищанию её прежних владельцев.
Там же, где паи продолжают оставаться у них и они, само собой, невелики, их отбирают методами рейдерских захватов. За счёт этого расширяются латифундии богачей. И как результат, все дальше расходятся полюса интересов и обеспеченности благами жизни совсем недавно возникших новых противостоящих классов.
В обстановке самоуправства чиновничества и диктатуры партии власти народ не имеет возможности хоть как-то влиять на процессы обучения и воспитания детей, молодёжи.
Всё в больших объёмах эти сферы отдаются на откуп религиозным организациям, казачьим, кадетским и другим формированиям, пока что никоим образом не доказавшим, что именно с их непосредственным участием возрастала светская духовность, полезная и нужная народу. Вместо неё в населении находят место забитость и отупение. Люди не знают, как им жить завтра и в обозримом будущем, их вера туманным посулам «верхов» оборвалась и не знает почвы, побуждая обращаться к незатейливым и запутанным религиозным канонам, к выдумкам новых верований, к чудесам и шарлатанству.
Видя это, иные демагоги шумно разглагольствуют о необходимости так называемого раскрепощения личности. Все наши беды, мол, от того, что она, личность, – недостаточно свободна.
Как будто им не известно, что дело не только в несвободе и что абсолютная свобода побуждала бы индивидуумы к ещё более странным проявлениям раскованности и пустых притязаний, чем это наблюдается в наши дни. Ревнители современного раскрепощения хотя и говорят о свободе для всех, но в конечном счёте рассчитывают иметь её лишь для себя – чтобы получать выгоды от нарастающей общей бездуховности.
Ничего, кроме изумления и стыда, не могут также возбуждать потуги нынешних замороченных патриотов представить отдельные «красивые» факты, события и вехи нашей истории вне её главного каркаса.
Стыд глаза не выест, гласит пословица. Ещё многое другое также – не выест. Если не считаться с чувствами, то не резон ли получше распоряжаться хотя бы рассудком? Бывали случаи, когда он брал верх над устоями.
Не следовало бы упускать возможности устранить их, если они создавались политическими силами или отдельными политиканами на корысти или по глупости и способны приводить к серьёзным социальным разочарованиям и потрясениям.
P.S. Утверждение о том, что пресса и историки опоздали «оглянуться и откликнуться» по случаю круглой даты отмены крепостного права в России, хотя и может быть воспринято как резкое, но оно не категорично в том смысле, что вслед за имперским манифестом от 19 февраля 1861 года ещё в течение нескольких последующих лет принимались и оглашались другие государственные акты, связанные с устранением старого права.
Дело, выходит, не столько в дате, а в новейшем осмыслении крупного явления в нашем отечестве, «следы» которого не стёрты со страниц истории до сей поры и не должны быть стёрты никогда. Есть приличный повод отличиться в теме прежде всего серьёзными тонкими исследованиями, имея в виду непреходящие принципы общественного блага и гуманизма, и «опоздавшие», надо полагать, ещё сумеют раскрыть не один любопытный аспект горестного прошлого нашей страны.
Язык мой и твой
В начальную пору массового освоения электроники один пользователь, человек уже немолодой, жаловался:
– Нашёл я мастера; договорились, что он поможет мне освоить работу на компьютере. И вот в первую же нашу встречу он буквально сразил меня языком неведомого. Десятки новых названий, терминов, понятий: голова кругом пошла! А он ещё подсыпает. Вижу: увлёкся даже, самому как бы в охотку порассказывать. Только мне каково? С компьютерами я никогда не занимался, вообще от техники вдалеке. Пробовал намекнуть, что я «в первый раз», мне бы – попроще. А он смотрит так удивлённо-возразительно-молча: как по-другому-то?..
Наверное это в порядке вещей – испытывать подобные замешательства из-за барьеров, возникающих в языковом пространстве. Они, эти барьеры, встречаются нам на каждом шагу, ежедневно, в точности «копируя» усложнение отношений в обществе.
Бывая в поликлиниках, больницах и разного рода консультациях, вы, конечно, не могли не обратить внимания на то, что медики, так же, как и тот спец-электронщик, предрасположены разговаривать о предмете своего дела на своём – «суженном» языке. Старушка, до последнего избегавшая рандеву с врачом, возможно, из-за того, что ей не хватало времени заняться собственными недугами, оцепенев, напряжённо вслушивается в устные пояснения эскулапа, и на лице её чем дальше, тем больше можно прочитывать выражение безнадёжного непонимания и упущенности. И где ей понять и не упустить, если новые лекарства и рецепты лавиной входят в практику охраны здоровья, а она, которую болезни в общем-то, слава богу, почти никогда не задевали, твёрдо знает только что-то о пенталгине да аспирине? У неё тут сложился, как говорится, «свой ряд» – им и определялась всегда привычная для неё достаточность в лекарствах, процедурах и соответствующих знаниях об этом. Всё остальное уже насилие над нею. И нужно ли удивляться, если, испытав его, она придёт в неровное расположение духа, покажет себя обеспокоенной, рассуетившейся, раздражённой или какой-то ещё?
Мы азартно выявляем причины озверения общества и её индивидуумов и в их объяснение называем обычно факторы, связанные с несовершенством устройства наших материальных дел. Да, спорить с тем, что материальные интересы очень часто «управляют» нами и формируют нас, не приходится: всё это есть. Однако, думается, тут ещё не все объяснения. С языком, как универсальным средством общения и реализации потенциала мысли, мы свою испорченность и агрессивность пока что соотносим мало или не соотносим вовсе.
То, что представляет собой известное «российское хамство», не всегда обыкновенная языковая грубость. Пожалуй, только в некоторых сферах деятельности, не перенасыщенных языковыми новинками, грубость существует как производное от высокомерия и элементарной невоспитанности. Чаще же она бывает напрямую связана с языковыми барьерами.
По одну сторону здесь оказываются непосредственные хозяева и носители новаций, пополняющие узкопрофессиональный язык. По другую – все остальные, которым приходится мириться с новациями, принимать их с определённой долей сопротивления, чтобы затем пользоваться постоянно или в разовом порядке.
Пересчитать все огорчения и неудобства от незнания профессиональных сленгов ни кто-то один для себя, ни общество не в состоянии; это – не поддающаяся измерению величина. Её наличие в жизни мы склонны чаще всего не замечать; многим не дано даже догадываться о том, что она является постоянной спутницей каждого и в каждую секунду жизни. Неслучайно и о последствиях таких огорчений мы судим зачастую ошибочно, необоснованно перекладывая «результаты» на что придётся.
По земле движется национальная неприязнь, природа которой, скорее всего, не в отличиях наций одной от другой, а в накопившемся непонимании при их отстранённости друг от друга.
И часто такое непонимание, усиленное грубостью или оскорбляющими намёками, зарождалось и прививалось на бытовом уровне средствами языка.
Ещё, например, задолго до крушения Союза люди из России, наезжая в прибалтийские республики, имели возможность убеждаться в существовании там непочтительного или же просто наглого отношения к себе – только по той причине, что они сразу с головой выдавали себя не знающими «коренных» языков. И достаточно было кому-то загодя усвоить минимальный набор слов на этих языках, чтобы, пользуясь им, уменьшить националистические предубеждения к себе. «Ключик» этот хорошо действовал да ещё и сейчас действует в магазинах и аэропортах, на «толкучках» и в кирхах, в офисах и на предприятиях.
Само по себе это может говорить о том, что ползучий прибалтийский национализм вырастал и таки вырос в немалой степени на бытовом или мелкослужебном уровне, когда потерпевшим оказывался тот, кто, впервые находясь у тамошнего языкового барьера, был унижен и оскорблён только за то, что не дотянул до общения с представителями «коренной» национальности на их языке, то есть показал его незнание, чем, собственно, и «отличился» от них.
Такого не могло не происходить постоянно, изо дня в день, из года в год, если учесть, какая разница в характерах и конституциях душ у коренных прибалтийцев и у так называемых «пришельцев» – украинцев, русских, белорусов, поляков и т. д.
Чтобы не вдаваться здесь в мелкие подробности, стоит сказать хотя бы о большей предрасположенности коренных прибалтийцев к западу, а не к востоку, по отношению к которому они всегда держали себя достаточно замкнуто и отстранённо.
Когда возникла ситуация приобретения подлинного суверенитета, вместе с претензиями к Москве, как главной виновнице имевших место притеснений и хозяйственного развала, прибалтийцы предъявили свой счёт и «пришельцам» от неё, бесцеремонно лишая их прав человека. И не надо изгибаться в извинениях: дескать, виноваты в этом только государственные правители и учреждения, а граждане – ни при чём.
Без их поддержки и участия нынешняя националистическая политика в Прибалтике, направленная на восток, была бы невозможной.
По схожему образцу развивались националистические брожения в Таджикистане, Казахстане, в бывших автономиях. Да, собственно, везде в мире национализм официальный превращался в таковой из бытового. И всегда, если не хватало для этого внешних признаков на телах людей (загорелость, узкоглазость, чёрный цвет кожи и проч.), наиболее действенным средством давления на «несвоих» избирался язык. Тотальная зараза языкового насилия из области быта легко и быстро перекочёвывает в служебные и прежде всего в профессиональные коридоры.
Развитие нашей цивилизации происходит в таком направлении, что общества обречены сталкиваться с возрастанием роли и доли профессиональных сленгов в словарных запасах. Сравнительно благополучная в материальном достатке Суоми бьётся в тисках обюрокраченного делового языка.
Финский язык в его производственном и учрежденческом видах до такой степени засорён канцелярскими оборотами и заимствованиями, что сами финны уже не в шутку рассуждают о способах его «перевода» на обычный, «коренной» язык. А во Франции ещё в ХХ веке был принят специальный закон, призванный уберечь язык нации от засорения.
В России ни о чём подобном и речи пока никто всерьёз не заводил. Под влиянием специализации в науке, технике, сервисе, а также интервенций иностранных языков продолжается отторжение россиян от их языка. Тем не менее это не самая большая опасность. Язык, несомненно, величайшая ценность, но если он изменится и будет совсем другим, то этому воспрепятствовать никто не сможет. И проблемы-то в этом, кажется, нет: без языка ещё ни один народ не оставался. А вот то, что в бытовом и профессиональном плане он приобретает значение барьера, – это опасно. Здесь миллиардами и миллионами появляются ростки насилия одних и унижений других.
Профессиональная тарабарщина врача, наставляющего больного, или снобоватость музыканта, которому почему-то кажется странным, что его собеседнику малопонятно слово «легато», – эти приёмы языкового насилия далеко небезобидны. Ибо тот, кто унизил, сам столь же не застрахован от унижений, а их судьба наготовила ему также охапками: они его накроют, как только он выйдет за порог помещения, где унижал других.
Формы цивилизованного урегулирования отношений в обществах, ориентация на приоритеты права немало способствовали тому, чтобы снимать у людей агрессию, вызываемую языковыми барьерами в быту. Скажем, в Соединённых Штатах местные сленги так же, как и всюду, широко использовались в прошлом для травли чиканос, негров, индейцев и других «неамериканцев». Только высокое благополучие народа несколько убавило этого явления, хотя его рецидивы ещё дают о себе знать и в заштатных городках, и в мегаполисах, и на дальней периферии. Такое, например, словцо как «макаронщик» американец не замедлит бросить в лицо любому, в том числе и американскому итальянцу, не особо утруждая себя при этом угрызениями совести от своей дикостной «оценки» «иностранца». В стране отработаны также свои «метки» для американских ирландцев, немцев, голландцев, датчан, не исключение и россияне. «Чистокровных» задевают и слабое «врождённое» знание теми классического английского, и акцент, и запаздывание с усвоением моды во всём, в том числе – в языке, и непомерная порой любовь ко всему американскому, скрывающая разочарование «всем своим». Отставание от «чистокровных» получает в Штатах всё новые и новые толкования прежде всего в сфере служебно-официального общения. То есть там, где «нечистокровные» имеют наибольшие шансы опростоволоситься при оперировании быстро изменяющейся специальной терминологией да ещё и с хроминкой в английском.
Мало-помалу эти остаточные явления стираются под воздействием нарастающей культуры общения и правовой заполненности.
Опыт США, однако, показывает, сколь бывают консервативны уловки языкового и националистического насилия, всходы которых поднимались ещё в периоды неконтролируемой ковбойской вольницы и нетерпимости к любой конкуренции.
У России, как мы уже не раз убеждались, – «особенная» стать. Но что касается вреда, который приносит нашему обществу борьба за верховенство в языке, то оригинальность её, похоже, пока только в том, что конца ей ожидать надо не скоро.
Как и в любом отсталом государстве, общественная духовность в России интенсивно разбухает от языковых вторжений; в результате пополнения языка иностранной лексикой и специальной терминологией быстро приобретают «рыхлость» самые, казалось бы, устойчивые языковые пласты, с чем связано утяжеление и деловых, и бытовых отношений. А это, в свою очередь, создаёт благодатную почву для присвоения узких сленгов в качестве корпоративной собственности. Такого присвоения, когда оно никем и нигде не объявляется, но всё же происходит – в интересах чиновников или очиновленных профессионалов, которым любо становится загонять в тупик посетителя малопонятным иноязычным словцом или родным, но перебюрокраченным выражением.
Прибавьте сюда то, что Россия и её люди уже добрых пару последних веков успешно пользуются утончённой элитарной культурой, сочетая это с традиционным матом. На разделение двух этих полярных ипостасей, кажется, нет уже никаких надежд – они словно бы не в состоянии существовать друг без друга. И здесь мало будет выявить корни языкового насилия в обществе. Российский феномен наводит на мысль, что с его помощью происходит постоянное затаптывание напластований культуры, «отложенных» предыдущими поколениями.
Надо заметить, что матерщина, как неотъемлемая духовностная метка России, выполняет в долго изменяющихся условиях и свою как бы положительную роль: она указывает на некую удивительную собственную «природную» стабильность, когда ругательному словарному фонду нет необходимости изменять себя или пополняться – так добротно сработано это чудо прежними поколениями, что оно получилось почти что универсальным для веков и десятилетий. Разве что фуфлонное выражение «нафиг» появилось в последнее время как новость, дополняющая словарь матерщины. Но в данном случае речь надо вести, видимо, даже не о дополнении – «нафиг» появился как средство «легальной» матерщины. Такой, которая претендует на родство с обычно употребляемым словарным запасом, а то и с элитной лексикой. Это, кстати, ещё раз подтверждает, насколько в России национальный язык, конечно, с его сленгами, неразделим с матованием. Неразделим и неразлучен.
Здесь-то и блуждают, лишь временами соприкасаясь с загадками истины, несчастные дочери и сыновья российские, терзающие друг друга ввиду неумения добровольно уравняться в правах на средство общения, в потугах представить себя обладателями языковых ценностей, которые на самом деле являются собственностью для всех и не подлежат разделу.
Вроде бы и ясно им, что зря стараются, и всё равно отказаться от претензий не желают. Для нового времени тому сильно поспособствовал тоталитарный строй с его безграничной централизацией чего угодно, в том числе и языка.
Вы обращали, может быть, внимание, как где-то вдали от Москвы подростки обретают какие-то тягуче-лающие голосовые интонации? С одной стороны, это способ растянуть слова в предложениях до такой степени, чтобы не дать успеть перебить себя таким же словоохотливым дружкам. Это, впрочем, обычная манера и парламентариев, других «штатных» выступальщиков. С другой, – попугаячье подражание московским пижонам соплячного возраста, многие из которых ввиду особенностей паразитической жизни столицы с генами предков получили «вольную» на безбедное безделье и нескончаемый инфантилизм. Говор их выдаёт с головой: искусственно растягиваемое произношение – это признак элитной, а нередко и полухулиганской отстранённости от забот остальных, показатель некоего верховенства. Перенимая моду, периферийцы желают искусственно возвысить себя, мало задумываясь о сути подлаживания «под столицу». Лающие интонации, как не раз обращали на это внимание литераторы, были отчётливо различимы в «раскованном» говоре гитлеровской солдатни… И таким вот образцам берутся следовать новые молодые поколения провинциалов, для которых теперь уже нужны, разумеется, и свои объекты унижения и морального битья! От него же, как известно, недалеко и до битья натурального.
При всей положительной роли языковой нормы, как следствия централизации, она несёт в себе и существенные заряды вырождения. В Москве не только в просторечии, но уже и всюду, в том числе на телевидении и по радио, утвердилось употребление тягуче-замедленного, «забираемого к себе» говорящими сленга, вылупившегося из тоталитарной оболочки. Подражают ему и бездельники пацаны, и великовозрастные угодники духа, всерьёз считающие, что вся российская жизнь концентрируется только в столице. Большинство же россиян обходится ровным стабильным говором, символизирующим историческую «равнинную» покладистость коренного населения, не замусоренную амбициями. В этом отношении Москве сильно противостоят Санкт-Петербург, Урал, Сибирь, ряд других регионов.
Бытует мнение, что московский «подростковый» говор хорош якобы тем, что обеспечивает отменную выразительность и максимально отчётливо передаёт мысли, значения. Но такие свойства он приобрёл на своей конкретной основе, то есть в условиях конкретной жизни региона. Свои изменения есть и в нижегородском, вологодском, архангельском, других старинных говорах, что не является чем-то необъяснимым. Только в отличие от московского они как бы прочнее в устоях: речь меньше сопровождается излишними, нагрузочными интонациями, искусственно подчёркивающими «происхождение». Часто московская отчётливость переходит в скороговорку, в невнятности, когда многие слоги и окончания проглатываются. В довершение к этому, стремясь выжать из языка возможно больше, москвичи в разговорах не чураются эффектного придыхания, строят гримасы, пучат глаза. Эти приёмы не прижились на периферии, поскольку являют собой излишества и считаются разрушающими эстетику общения. Люди инстинктивно распознают, что эти излишества – амбициозного, тоталитарного, трухляво-элитного разряда. Использование их без нужды показывает снобизм и пренебрежение к «остальным», и как знать, может быть в этом месте нашему языку суждено сломаться под собственной тяжестью и разделить судьбу умерших языков, подобно тому, как это происходило, например, в Римской империи…
Снобизму и претензиям на превосходство, выражаемым через язык под влиянием общественно-политического неравенства, неизбежно сопутствуют неразборчивость и плохой вкус в новообразованиях. Новые слова тяжелы бывают для восприятия и сами по себе, но ещё хуже, когда их принимают в пользование в неудобоваримой форме – как бы в обмен на «вещественную» выгоду. Такое, в частности, произошло, когда мы второпях обозначили благотворительные подаяния за границей и из-за границы гуманитарной помощью. Здесь речь, конечно, о гуманной помощи и только о ней, и нам приходится в который уже раз посожалеть о том, что перебюрокраченный чиновниками термин мы в очередной раз вынуждены были поддерживать и допустить в обиход, в то время как поначалу он нас определённо не устраивал.
Давление бюрократии всегда портит людям не только жизнь, но и язык. Но, оказывается, и сами-то мы хороши, принимая насилие, помогая консервировать худшее. Матушка лень издревле мешала нам заботиться о чистоте и «естественной» выразительности приобретаемых понятий, и новым поколениям ничего не оставалось, как выбрасывать старьё на ходу, порой ничего не находя взамен. Вспомните хотя бы: – о вкусах не спорят! С позиций нынешних дней – нонсенс, выражение в пределах нуля. Но оно попортило-таки мозгов.
И кто теперь будет устанавливать, чья тут была вина?





