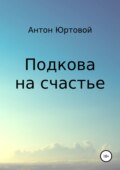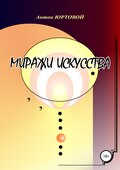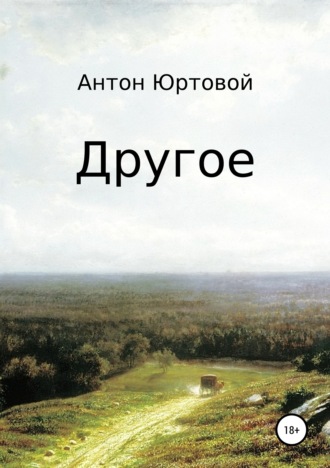
Антон Юртовой
Другое. Сборник
Наше крепостное право
Не один раз историки нашего отечества по ходу своих исследований выставляли напоказ очередное важное событие прошлого. Брали что-нибудь и на все лады раскатывали.
В последние времена это происходит с подачи государственной власти. От её лица в указе или в постановлении обращается внимание на значимость какой-нибудь даты или исторической личности, на необходимость набора посвящённых им мероприятий; под такие программы тут же выделяются немалые бюджетные средства. Историкам в этом случае остаётся лишь принять заказ и дать обществу как можно больше сведений по утверждённой теме. А поскольку так повелось, что высшим доверием у государства пользуются историки, имеющие учёные степени, то считается, что и сведения от них поступают как научные. То есть – будто бы хорошо выверенные и в достаточной компетенции.
На деле получается по-другому.
Финансирование из госказны портит учёных. В условиях коррупции их усилия часто недобросовестны. Кроме того, свои услуги при проведении соответствующих мероприятий предлагают историки, не имеющие учёных степеней, а то и просто энтузиасты, жаждущие признания. Их усилия также весьма часто недобросовестны. Для такой сферы, как масс-медиа, эти составляющие малоинтересны. А вот директива от власти, открывающая накатанные сюжетные ходы, а значит и лёгкое получение доходов и сверхдоходов, ей, что называется, по душе.
В результате в общем потоке распространяется немало фальшивых подробностей и пустых концепций, излишней или неуместной актуализации.
Кампании, целью которых не может быть иного, кроме углубления знаний общества о прошлом и соизмерения их с настоящим, окрашиваются во всевозможные цвета ложного патриотизма, демагогии, парадности, угодничества перед инициаторами представления.
Официальность тут преобладает, но в её рамках часть мероприятий, а иногда и все они принято преподносить как народные.
Стиль этот плох тем, что позволяет не замечать событий, во всех отношениях достойных, чтобы вспомнить и с пользой порассуждать о них. Не сказано «сверху», что это нужно сделать, значит и рассуждать не о чём.
Как раз таким было отношение к юбилею, знаменовавшему отмену в России крепостного права.
Факту отмены уже более полутора столетий. Исключая редкие примеры, пресса об этом молчала будто утопленная. Также в большинстве молчали историки. Со всеми их учёными степенями и без них. Со всей наукой историей, основательно погрязшей в подобострастии перед правительством. Забывшей о чести иметь свою точку зрения на события и факты независимо ни от чего и ни от кого.
А ведь какая была прекрасная возможность оглянуться и лучше осознать, как скуден наш кругозор, какие из нас получились манкурты, какие житейские и моральные тупики мы себе уготовили. Отчего так жестоки. Зачем постоянно обманываем себя пошлым казённым воодушевлением и верой, что будущее явится нам светлым. Зачем, закрывая глаза на целое, снова и снова искусственно приподнимаем отдельные события и героизируем отдельные персоналии, которые приподнимать и героизировать бывает просто некуда, – многие из них уже и без того прославлены сверх всякой разумной меры. Почему нас так и тянет замагнитить свой дух и свой менталитет милитаризмом, гордостью за свою надуманную удаль, бахвальством по части достижений, часто воспринимаемых с безразличием и скукой всеми, в том числе – что вполне очевидно – даже инициирующими инстанциями.
Да, возможности оглянуться и повнимательнее посмотреть на всё это были упущены. В очередной раз страна и её народ прошли мимо самих себя…
* * *
Как фактор общественной жизни крепостное право было установкой на бесправие подневольных. Таким оно проявило себя во многих странах Европы и Востока. Перенимая «опыт», Российская империя сумела взять из него максимум самого худшего. Бывшие когда-то свободными её крестьяне оказались не только без земли-кормилицы, но и без права жить на ней, не принадлежа кому-нибудь из богатых. Постепенно задалживая господам по отработкам и платежам, попадая к ним в непреодолимую кабалу, они превращались в такую живую массу, с которой угнетатели могли обращаться как угодно высокомерно и жестоко. Продажа крепостных в этом ряду не считалась самым худшим из зол.
Развитие «права» тянулось века. На территориях Древней Руси признаки его зарождения появились более тысячи лет назад, и чем процесс всё дальше подвигался по времени, тем он всё больше напоминал неумолимое затягивание петли на шее у бедствующего населения.
Вот откуда истекали тревожностью и трагизмом наши лирические музыкальные мелодии и устная поэтическая лирика, тоска по воле, интерпретированная то в сказки, то в бунты. Позже фольклорные традиции дали мощный толчок при становлении новой художественной словесности, изобразительных и иных искусств. О потерях же никто не говорил, хотя они были. Наше устное народное творчество не знало таких жанров, как гимн и ода. Ещё задолго до новой эры у хеттов, китайцев и индусов они составляли приличные антологии, где в немалой степени присутствовала высокая чувственность – мать настоящей поэзии. Тексты гимнов и од исполнялись тогда в песенном наряде, в этническом окрасе мелодий.
Словно желая заиметь недостающее, наши поэты вслед за Ломоносовым пробовали показать себя в таком творчестве. Вышла одна пародия. В подавляющем большинстве тогдашних од выплеснулось позорящее авторов прогибание спины перед царским троном. Ещё хуже получилось в нашей, теперешней эпохе, когда стали сочинять гимны. В их текстах нет содержания, оставлена лишь поэтическая форма, и они обречены быть лишь символической, отвлечённой штриховкой агрессивной государственной показухи.
Из жадности правящее сословие постоянно донимало простых людей новыми поборами. На пике этого процесса, при царе Петре III был издан указ о вольности дворянской. После чего эксплуатация народа приобрела поистине безоглядный и до крайности злобный характер. Даже сами дворяне ужаснулись. В пределах этого замешательства погасли просветительские намерения Новикова, вызрел протестный талант Радищева. Хотя в целом дворянскому сословию вольность, конечно, нравилась. С ней, как законом, ему удалось прожить целый век, до февраля 1861 года.
В том историческом отрезке произошло восстание Пугачёва, было спровоцировано военное столкновение с Бонапартом, оказались на слуху сатанинские издевательства над крепостными помещицы Салтыковой, вспыхивали бунты на Сенатской площади и в глубинах центральных губерний, потоплена в крови мятежная Польша, умножилась сеть городов, появилась литература высокой пробы. Не раз век вольности называли золотым, особенно по отношению к периоду царствования Екатерины II.
Пусть эта восторженная оценка, навеянная пестротой событий, не собьёт с толку нынешнего современника!
Не говоря уже о подневольных, глубокой печалью и страданием, а порою и мукой отзывался миражный расцвет империи в сердцах честных людей из дворян. Стыд и тупое бессилие сопровождало их на каждом шагу ввиду их принадлежности к «лучшему» общественному классу. Многие не знали, даже не могли догадываться, что конкретно задевало их, усиливая душевную и чувственную опустошённость и боль.
Осознавал ли всю подоплёку, скажем, Пушкин, сначала вслед за Радищевым устремлявшийся к вольности для угнетённых, а позже круто поменявший своё отношение к этому честнейшему и бескорыстному подвижнику?
Пушкина мы выставили на постаменты, канонизировали в школьных программах. Никто не берётся глубоко вникнуть в те многочисленные места в его творениях, которые перенасыщены текущей беллетристикой и в эстетическом значении уже давно потускнели, не вызывая живого интереса у новых поколений читателей. Музейные работники, искусствоведы и экскурсоводы обогатили наши знания о личности поэта; но они запретили себе и нам смотреть на великого нашего любимца без пафоса и уже почти не видят в нём представителя его дикого времени.
Он был вольнолюб и крепостник – эта особенность никаким образом не отмечается в серьёзных исследованиях. Двойственное в поэте делают неразличимым. Почему о своём слуге Никите, находившемся рядом, сопровождавшем его всюду на протяжении многих лет, он проговорил так скупо и отстранённо – всего в считанных строчках? Будто лишь по великой случайности тот попадался ему на глаза, представляя собой не человека, а неодушевлённую вещь, наподобие телеги или хомута на лошадиной шее. Да, Никита – не Панса, не оруженосец отдалённых времён, о котором заботился и с которым постоянно беседовал и совещался дон Кихот. Нельзя от сочинителя ждать обязательных описаний того, что могло бы стать интересным или поучительным в суждениях, привычках, характере, поступках слуги.
Но не в том ли здесь суть, что автор использовал вольность как только мету для возвышенной поэзии, предпочитая находиться в господствующем сословии, что обязывало его и писать исключительно о нём и его субъектах?
Это было удобно делать и приносило эффект: ведь учреждённой вольностью сытое сословие дворянства по-своему окрашивалось в благородные цвета и оттенки; внутри него вольность открывала огромные пространства для распрямления и возвышения духа в каждом, кто попадал в избранный круг.
Только в том случае, когда взгляд опускался вниз, к подневольным, могли возникать не идеальные, а практичные, житейские, социальные соображения. Но их так не хватало! В зрелом возрасте Пушкин боялся бунтов, из-за чего опасался выезжать в центральные губернии, и, естественно, это был страх крепостника. Его слуга хотя и мог рассчитывать на доброе к себе расположение со стороны просвещённого барина, однако оставался абсолютно смятым как личность и не удостоенным никакого господского внимания и интереса. Такое отстранение имело характер всеобщий. До сих пор, когда рассматривали события века дворянской вольности, этого изъяна в нём не замечали.
Совокупный портрет нашего тогдашнего дворянина окутан аурой чистого альтруизма и верности царю и отечеству. А откуда эта «подсветка» взялась, никто не задумывался. И в большинстве задумываться не хотели, что по-своему, может, и – верно. Нельзя было найти столько возвышенного и тонкого в натурах, лишённых воли. Они – только у господ. А то, что миллионы людей принуждались находиться у них в рабском услужении, вроде как мелочь, пустяк. Рассказывают, например, что-нибудь о Гоголе, и нет-нет да тоже упомянут его слугу – Семёна, ещё совсем молодого человека. Не для того, чтобы подчеркнуть, что этот парень исполнял обязанности простого «бессрочного» лакея, а – так, «для информации». Дескать, вот как полно мы знаем автора «Мёртвых душ». Между тем сам автор о таких, как его слуга, также предпочитал не распространяться.
Талантливым писателем создано немало образов людей из народа, но почти все они размещены по поверхности жизни. Их психология и страдания оставались нераскрытыми.
В своей знаменитой «Шинели», представив на всеобщее обозрение Акакия Акакиевича Башмачкина, Гоголь решал задачу, собственно говоря, в пределах ущербной традиции. Титулярному советнику, мелкому переписчику бумаг, которого всячески унижали его сослуживцы и у которого ночью на заснеженном пустыре грабители отобрали его новую, пошитую взамен изношенной, зимнюю шинель, можно, конечно, посочувствовать как человеку, падавшему при неблагоприятных для него обстоятельствах. Но ведь он не был подневольным, слугой – в настоящем значении этого слова.
При жалованье в четыреста рублей за год и подоспевшем к случаю предпраздничном поощрении от начальства в шестьдесят рублей пошивка шинели у портного Петровича обошлась Башмачкину в двенадцать рублей. Если прибавить сюда вполне посильную для него оплату материала да ещё несколько гривенников склонному к выпивке портному – за его согласие взять за работу сумму значительно меньше «обычной», то обновка вряд ли могла считаться разоряющей напрочь.
Повестью давался художественный комментарий лишь одному факту общего ускоренного вырождения дворянства и свала его в пучину истории – не больше. Даже будучи предельно униженным, герой произведения всё-таки не выражал трагедии, достававшейся на долю не только слуг и лакеев, которым статус позволял хотя бы подбирать объедки с барского стола, но и – всей массе крепостных.
Уже вскоре в «Бедных людях» живое неподдельное сострадание, адресованное уходящему со сцены дворянскому сословию, копировал Достоевский.
Для тогдашней литературы сочинения такого рода становились важным шагом поступательного движения. Но ей всё же не суждено было по-настоящему углубиться в темноту жизни так называемого «простого» или «маленького» человека. Крепостных-то с ним даже ещё не равняли, не соизмеряли! Осмыслить проблему тоже не получалось. Хотя попытки к тому делались, и тут даже блистали таланты. Одного упоминания о тургеневском рассказе «Муму», с его некоторой идеализацией, думается, достаточно, чтобы пояснить, как ярко и глубоко сочувствующе могла быть отражена тема тотального угнетения и подавления личности в эпоху крепостного права.
Копавшие историю на свой лад, будто бы озабоченные судьбами людей «труда и печали», приверженцы метода соцреализма только увеличивали дыру в этом щепетильном вопросе.
Рабочие и крестьянские типажи их порочного времени постоянно ими «приподнимались», и те совершенно легко упали вниз и раздробились в мелкое крошево и в пыль, когда подошёл срок убрать идеологические подпорки. Если же выводились образы бедолаг, выбитых из колеи угнетением «от» новой власти, то почти сплошь авторы делали вид, что ни о каких угнетателях вокруг себя они не слышали и не знали и что последних якобы и быть не могло. Творческая слепота писателей перекинулась тогда в общество, в результате чего появился истинно «совковый» анекдот о Герасиме, персонаже рассказа «Муму». По душе страдальца, в которую вонзались едва ли не все муки и подлости крепостной поры, народ прошёлся постыдными скабрезными репликами…
Насколько глубоким было непонимание мира и участи крепостных, заметнее всего по воззрениям Чаадаева. Царь Николай I, прочитав его философические размышления, объявил его сумасшедшим.
«За это» он слывёт у нас провозвестником будущего, демократом, умницей и проч. Но вот – чем было дня него низшее, подневольное сословие?
Он пишет:
…Посмотрите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы.
И ещё:
…хотя русский крепостной – раб в полном смысле слова, он, однако, с внешней стороны не несёт на себе отпечатка рабства. Ни по правам своим, ни в общественном мнении, ни по расовым отличиям он не выделяется из других классов общества; в доме своего господина он разделяет труд человека свободного, в деревне он живёт вперемежку с крестьянами свободных общин; всюду он смешивается со свободными подданными империи…
Человек явно изрекал несуразное. Его ещё можно понять, когда в тексте он употребляет словосочетания «видимая разница» и «с внешней стороны». Впечатление от них такое, что в оценках режима автор лишь проскальзывает над его пространством, не заглядывая вовнутрь. Но ведь он распространяется и о правах! Крепостные по правам своим не отличаются от других классов!
Серьёзнейшая тема измарана неуважением и безразличием к бесправным; в неё входил и в ней наследил провокатор, желавший развалить мучительные общественные представления о реальном положении дел с крепостными.
Нынешняя бесчувственная пропаганда «здорового» образа жизни в царской империи хотя иногда и преподносит публике оттуда вещи в заплатках горести и печали, но делает это с ужимками и лукавством. Она будто не замечает, как временами по ошибке отходит от словесного блуда, касаясь при этом искусственно оставляемого в стороне болезненного предмета. Так, рассказывая о поражении наполеоновской Франции в войнах начала XIX века и проявлениях героизма в боях и походах российским воинством, отдельные издания и авторы наряду с соответствующей слащавостью и бравадой выплеснули на обывателя и часть горькой изнанки того времени.
В одной из публикаций говорилось, в частности, о формировании Пензенского ополчения для пополнения действовавшей против захватчиков русской армии. Автор информировал: основу этого войска составляли крепостные крестьяне, которых принимали в образуемые полки только с ведома помещиков. Неожиданно уже в канун их выступления в поход в отдельных местах административного края произошли волнения. Среди ополченцев прошёл слух о существовании царского указа, по которому все участники войны должны получить свободу, но дворяне скрывают это. Ратники требовали привести их к «особой» присяге, опасаясь, что после войны их не отпустят по домам, а оставят в солдатах.
Дальше события развивались катастрофически. Военная судебная коллегия «не могла», разумеется, не найти в них криминала. Она «открыла», что восставшие намеревались, истребив офицеров, отправиться к действующей армии, явиться прямо на поле сражения, напасть на неприятеля и разбить его, потом принести повинную государю и в награду за свою службу выпросить у него прощение и свободу от власти помещиков-притеснителей.
В итоге «расследования» многие десятки отправились на каторгу, пятьсот человек было выведено из состава мятежных полков3.
Обо всём этом говорилось не с тем, чтобы отметить, в какой сложной и опасной обстановке противостояния находились верхи и низы. Автора интересовала лишь парадная сторона событий. Такие-то люди награждены за подвиги в разных боевых переделках. Пятно бунтов, говорилось под конец публикации, было буквально смыто кровью ратников и их командиров. О них, героях войны, хранят теперь память нынешние современники.
Только, выходит, – о них…
Так урезают историю.
Для поколений от золотого века в виде наглядного символического атрибута оставлен лишь блеск офицерских эполет. Он уже сослужил огромную службу большому числу воспевателей «чистого» героизма, чьими усилиями образ воинского офицера из нашей царской истории на все лады приукрашен и возвеличен, а основные его черты взяты, конечно же, те, которые стали ему присущи на закате эры крепостного права.
Это – люди чести и предельного внутрисословного благородства, блестяще воспитанные, близко принявшие передовую культуру своего общества и зарубежных стран, захваченные духом свободы и высшими помыслами.
Воспитание на лучших образцах культуры, а также при максимальной общительности в своей среде и при общей «спайке» на принципах «чести» – этом своеобразном кристалле круговой поруки – было настолько эффективным, что позволяло им обогащать свою, сословную культуру, ограничиваясь начальным или средним (в нашем нынешнем понимании) образованием, очень часто – уже с малолетства, в чём убеждают яркие биографии многих поэтов и людей других интеллектуальных отправлений того времени.
И вместе с тем почти каждый из тех, кто становился офицером, имел не только штатную прислугу из числа рядовых, именовавшихся денщиками и проч., но и – крепостных.
Хорошо известна их «крутизна» в случаях неисполнения в их имениях подданными обязанностей по сколачиванию средств – на постоянно растущие расходы их, барских отпрысков. Целые деревни и волости приводились в трепет. Ведь рабов совершенно просто было распродать, обменять, проиграть в карты, заложить за долги.
За небольшими исключениями корпус офицеров формировался из дворян. Они шли сюда массами. Что привлекало их? Ответ несложен: достаточно лёгкое управление подчинёнными, теми же крепостными, для которых при обязательном сроке воинской службы в четверть века беспрекословное подчинение оставалось горчайшей участью. Палками и розгами мог быть наказан любой служивый нижнего чина, как это делалось по отношению к «душам», принадлежавшим помещикам в деревнях, и – если бы только за невыполнение приказов и распоряжений.
Поводом для порки становилась любая оплошность, игнорирование даже мелкой прихоти старшего по званию. Положенное за службу немалое государственное жалованье плюс поступления из имений делали «золотопогонников» хорошо обеспеченными и склонными к увеселяющему времяпрепровождению. Они блистали на светских раутах, на балах, на лучших театральных и иных представлениях.
Восходя на заоблачные духовные высоты, проникаясь усердием в самоусовершенствовании, господа военные, победители своих собственных солдат, как о них выражался Герцен, тешили себя «вымеркой» собственной чести, ударяясь в дуэли и другие виды кровавых разборок, часто по пустякам. Волны такого сомнительного «очищения» одна за другой прокатывались по армиям и полкам.
Многие офицеры превращались в отпетых бездельников; груз удовольствий и связанные с ними непомерные траты бросали их в разор и в позор. Отставка возвращала таких в родовые имения, где их ждала беспросветная скука тяжёлого и мрачного крепостнического застоя. Там накопленные в них отчаяние и ожесточение сполна выплёскивались на несчастных подданных.
Ещё более тусклыми и жалкими они оказывались при разжалованиях в нижние чины или в рядовые с лишением звания дворянина. Такие люди вместе с сословными привилегиями теряли самое, пожалуй, главное – сочувствие в своём сословии. Они не могли рассчитывать на поддержку в пределах бытовавшей сословной круговой поруки. Их ждала судьба изгоев.
В разбухавшем офицерском слое находила выражение тупая политика царизма, направленная к неуклонному росту численности личного состава вооружённых сил. Армия росла составом служивых и, поскольку подолгу не вступала в сражения, портилась. Звучные армейские и флотские победы в преддверии, в начале и в середине золотого века сходили на нет; победы сменялись поражениями.
Все признаки развала наблюдались и в массе дворян, устремлявшихся на государственную невоенную службу, то есть – в чиновничество. Сюда они переносили худшие привычки и аморальные догматы старосветских помещиков. Так выходило, что вместе с ними окунаться в купель праздных удовольствий, погони за богатствами, взяток, продажности и предательства всех и вся вынуждены были и разночинцы – разорявшиеся дворяне и получавшие вольную крепостные. Понятие сословной чести и благородства ими воспринималось уже в той особенной ауре, когда, забывая о своём прошлом, они, как и продолжавшие преуспевать, прожигавшие жизнь беспечные «чистопородные» дворяне, желали иметь своих крепостных. Владение «душами» приобретало знак истинного сословного положения и достоинства.
Только малой частью этот чертёж упадка показан в нашей беллетристике. Притом ещё и с большим опозданием. Выражая свежие современные воззрения, молодой граф Толстой в военных очерках из Севастополя, хотя и имеет дело с бедствованием народа, но предпочитает оставаться «государственником» и толочь тему русского героизма и немой терпеливости масс. Главными действующими лицами при начале своего творчества он избирает офицерство. По понятным причинам дворянская среда не выведена им из центра событий и в его «Войне и мире». Там он – истинный певец эпохи блестящего взлёта дворянской вольности, не пожелавший замечать, в какую пропасть она уводила. Злободневный знак сословного маразма и вырождения наконец-то был вполне, кажется, осознанно поднят им в его произведении «После бала», но, оставаясь в своей константе, писатель явно кокетничает, предпочтя указать на провинность избиваемого шпицрутенами солдата не от лица рассказчика-дворянина, ставшего прямым свидетелем экзекуции, а словами случайного, оказавшегося рядом с ним попутчика, кузнеца. Тот сообщает, что гоняют несчастного за побег.
Был ли так уж неосведомлён рассказчик, чтобы не говорить этого самому? Верить ему невозможно. Поскольку зайдя домой с бала уже поздней ночью, он застаёт не спящим, ждущим его и готовым помочь ему раздеться своего лакея из крепостных. Который в эту пору бодрствовал явно не из естественной потребности организма, а из лютой боязни не угодить барину.
Притворяться незнающим было тем более неестественным, что зверские экзекуции в равной степени предназначались и для офицеров.
Тайны из этого никто не делал.
…Во время учения, – сообщается в одном из произведений Леонида Гроссмана, – офицер полка гвардейских гренадёров, недовольный маневрированием своего батальона, приказал ему войти в казарму. Один взвод не послушался команды и остался на месте. Вторичный приказ не внушил большего послушания: выступил вперёд унтер-офицер и от лица всех изложил жалобу против своего начальства, заявив, что взвод не двинется, если им не пообещают справедливого удовлетворения их претензии. …полковник приказал схватить зачинщика и всех упорствующих; унтер-офицера приговорили к шести тысячам ударов палками, т. е. к смерти.
Вот как описано исполнение этого приговора:
…
Внутри шеренг прошли профосы, раздавая рядовым огромные гладкие прутья.
Это были шпицрутены…
…
Прутья взлетели и с резким свистом ложились с двух сторон на обнажённую спину.
… Первые удары оставили крестообразные розовые полосы. Ещё несколько шагов, и весь верх спины покрылся широкими рубцами и вздулся горбом; ещё два-три шага – и кровь хлынула из всех пор воспалённой кожи, так что последующие удары уже сыпались на совершенно открытое, растравленное мясо, превращая его в сплошное кровавое месиво.
…
Осуждённого уже четыре раза проволокли по шереножной улице. … Лоскутья изрубленного мяса свисали клочьями с его плеч и рёбер.
…
Труп вывозят из рядов и бросают в сторону.
…
Казнь длилась весь день. … четверо присуждённых к шести тысячам ударов скончались до выполнения приговора. Остальные, выдержав меньшее количество шпицрутенов, отправлялись полуживыми в Сибирь.4
Унижение через побои предназначалось не только мужчинам, но и женщинам, а также детям. Для их острастки в поместьях вводились дни календарных массовых порок розгами или плетьми.
Обязательные экзекуции часто делились на дозы, которые переносились на другое, более позднее время и прирастали величиною ввиду «предусматривавшихся» капризными барами новых неизбежных провинностей, что само по себе добавляло страданий наказуемым. Повальные истязания практиковались в церковно-приходских школах и в бурсах.
Надо ли удивляться, что физическое насилие широко разливалось и в домашней обстановке, в семьях, в том числе в семьях дворян.
Красноречивым свидетельством этому может, например, служить откровение Василия Васильевича, героя тургеневского рассказа «Гамлет Щигровского уезда». О висевшем на стене портрете своего умершего отца он говорил: «Мимо его меня, бывало, сечь водили, и матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая: он бы ещё тебя не так». Нельзя здесь также не вспомнить, как была искусна в причинении боли мать Пушкина, бившая малолетнего Сашу чем-нибудь твёрдым и тяжёлым по пальцам его рук, часто ещё не «отходившим» от битья предыдущего…
Крепостное право затёрто в бесчисленных заумных комментариях схоластов позднейшего времени. Оно теперь как-то и не видится. Его будто уронили или развеяли по ветру… Полезными оказались только описания, сделанные немногими наиболее честными представителями самого дворянского сословия, пропустившими вековую боль через себя.
В «Былом и думах» Герцен писал:
У нас образовалась целая каста палачей, целые семьи палачей – женщины, дети, девушки розгами и палками, кулаками и башмаками бьют дворовых людей.
Зло это так вкоренилось… что его последовательно не выведешь, его надобно разом уничтожить, как крепостное состояние.
Поражаешься глухоте и обессмысливанию всего в крепостном социуме, талантливо подмеченном Салтыковым-Щедриным.
Жизнь того времени, – повествует он в «Пошехонской старине», – представляла собой запёртую храмину, ключ от которой был отдан в бесконтрольное заведование табели о рангах, и последняя настолько ревниво оберегала её от сторонних вторжений, что самое понятие о «реальном» как бы исчезало из общественного сознания.
…Крепостное право было ненавистно, но таких героев, которые отказались бы от пользования им, не отыскивалось.
…Крестьянство задыхалось под игом рабства… …невежество, мрак, жестокость, произвол господствовали всюду… дышать было тяжело, но поводов для привлечения к ответственности не существовало.
Золотые слова правды.
Стоило бы помнить их хотя бы потому, что крепостничество, право на угнетение и затаптывание личности, на её безудержную эксплуатацию и на оставление без средств к существованию, не устранено и после его официальной отмены.
Во всей своей страшной силе его возрождала и преступно пользовалась им советская власть, когда, выбив из-под ног у крестьян их личные земельные наделы и не выдавая им паспортов, она лишала их возможности уходить из своих поселений в поисках лучшей доли.
Приток рабочих рук из сёл на промышленные предприятия устраивался при этом по разнарядкам «сверху» в виде комсомольских и прочих «призывов». «Привилегию» получали ещё военные: демобилизовавшись, они могли не возвращаться в свои деревни. Но куда же, закончив службу, они могли податься как не в родные сельские поселения, поскольку в армии под ружьё ставились многие миллионы, а работу в промышленности имела возможность получить лишь небольшая часть оставивших её!
В свою очередь, нищенская оплата по колхозным трудодням подтачивала под корень всю государственную систему советского периода.
Вне осознания до сих пор остаётся глумление над личностью крепостного уже при даровании ему воли непосредственно при крепостном праве и даже при «закрытии» этого права. Людям, которых отпускали из «крепостей» и которых уже следовало считать свободными, давали фамилии по их кличкам.
Иначе как этими символами пренебрежения и презрения их раньше не называли.
Отсюда во множествах появлялись подданные России с фамилиями Князькиных, Объедкиных, Олуховых, Дуракиных, Свиньиных, Собакиных, Мартышкиных, Моськиных, Дуровых, Михалковых, Малайкиных, Меркушкиных, Ерёмкиных и проч.
Хотя по прошествии времени часть обзывных кличек потеряла тонировку осмеяния и оскорбления, но немалая их часть так и продолжает употребляться в прямом значении. Позорящие названия закрепились не только за людьми. Их до сих пор носят многочисленные поселения и даже целые сомкнутые группы поселений по всей России.
Сейчас, рассуждая о богатых традициях нашей отечественной культуры, не дают труда помнить, что это не такие уж «мелочи».
Несущие на себе оскорбительные отметины скверной былой эпохи чувствуют себя, мягко говоря, некомфортно. Сколько раз уже менялись образцы личных паспортов; в них из-за того, что людей часто унижали ввиду их непринадлежности к «титульному» этносу, гражданам сейчас даже допускается указывать для себя любую национальность или не указывать никакой. А вот с неблагозвучными, порой совершенно непристойными для слуха и произношения фамилиями и названиями мест расселения никому из государственных мужей и дам покончить ещё, кажется, просто не приходило в голову.