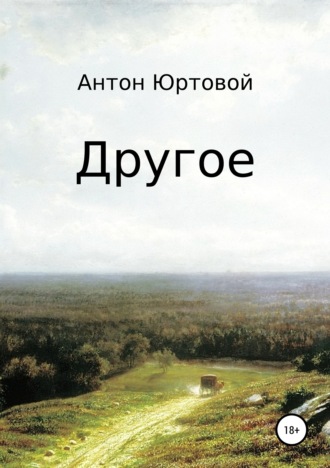
Антон Юртовой
Другое. Сборник
На виду у всех разглагольствую об отстранённости поэта, о его праве не подчиняться никому и ничему, идти своим путём. А в деле чистые заповеди сам же затаптываю; и в конце концов очутился далеко в стороне от близких. Да только ли от них?»
Колебаниям больше не находилось места. Раздумья потекли ровно, доказательно, беспощадно. Ни к чему было выискивать опровергающие аргументы, в чём-либо каяться. В себе поэт обнаруживал тяжёлое признание: ход его жизни установился в такой мере, что измениться он уже не мог. Для этого не существовало ни физических, ни духовных сил. И, собственно, то, что сделано, просто будет и должно быть продолжено.
Ни к чему слёзы, надежды, возбуждения чувственности. Поэтом он ещё останется; но его самое ценное успело изойти прахом. А на том месте давно и прочно уселось чудовище немудрого и рассерженного обывателя. Заурядного смертного, действия которого, если ближе на них посмотреть, или безобразно грустны, или комичны. Через них не пробиться таланту, он обречён уступить холодному рассудку и раствориться в согласии на казённое прозябание и бытовые пошлости.
«Только-то и всего!»
Многое понимая в себе, он, видимо, также хорошо представлял, что этим лишь в какой-то малюсенькой доле ему удаётся возразить на неоспоримый и объективный приговор уже состоявшемуся в нём. Конечно же, смысла в такой защите не было.
«Будет весьма странно выглядеть, – рассуждал он далее, уравновешиваясь в мыслях, – если бы я вдруг изменился от худшего. Ну, скажем, в стихах у меня стали бы появляться образы людей из моей семьи. Отца, матушки… Первое: ни для кого не откроется логики. С какой стати? И что этим будет прибавлено к существу моей поэзии, уже многими прочно усвоенной?
Затем: не избежать укоров и от близких: с чего вдруг сыплешь запоздалым участием?
В других вещах и – того больше казуса. Люди знают о моём отношении к жертвам… В поэзию мною облечены тут крохи. Допросы я выдержал не героически, о чём записано в документах. И оппозиция ко мне сложилась из людей, значительно лучших, чем я. Меня забросали упрёками в подданничестве.
И вот за этим должны последовать новые стихи о грозном происшествии? Что скажу иного? Не выйдет ничего, кроме позора».
Сырое ненастье давно затонуло в объятиях наступавшей ночи. Скоро ли до Лепок? Ещё нет. Да и то кучер свернул, дабы спрямить езду, незаметно для пассажира миновав мост через неторопливую, но приличную по ширине и достаточно полноводную реку, так что теперь путь пролегал по её другому берегу, на удалённости от оставленного просёлка.
Алекса столь неуместное решение возничего сначала не озадачивало. Признаков для тревоги или страха, казалось ему, нет никаких.
Лишь немного слышнее стали звуки продвижения кибитки по дороге, где больше попадалось выбоин, да сама езда, похоже, замедлилась.
Но вдруг он вспомнил: перед поездкой Никита говорил ему о кучере, будто бы тот плохо разбирается на просёлках и нерасторопен да и слеповат. А служит менее года, хотя уже далеко не молод.
Посожалев о том, что замечания слуги пропустил мимо ушей, поэт усилием воли заставил себя смириться перед новым обстоятельством и не давать подозрительности хода. Но его внимание напряглось; обострившийся взгляд теперь лучше проникал через мутную блеклость выреза напротив, за которым на густо истемневшем фоне еле просматривалась размытая одинокая согнутая фигура, прилаженная к медленному дорожному ритму; она казалась нематериальной и неподвижной, и было такое ощущение, будто не стало там и самого кучера, будто над облучком мается только его усталый и продрогший бесплотный дух.
Образ тёмного и бестелесного был непрочен, и он исходил явно не от суеверия и боязни поддаться мистике. Скорее действовала привычка захвата ещё не до конца обдуманной мысли, которой предстояло мгновенно опоэтизироваться и войти в живые чеканные строки. Тем не менее заодно с ощущением исчезнувшего реального близко придвинулась обеспокоенность.
Поначалу это чувство мелькнуло соображением, что Никита в поездке, пожалуй, не стал бы лишним попутчиком. Надо было его взять, как тот просил, чуть ли не умолял.
Конечно, отказ барина он принял за каприз и высокомерие. Но что же теперь? Неясное хотя и было не давящим и не угнетающим и с ним даже как будто приходило облегчение, но оно быстро и незаметно себя теряло, так что в сознании удерживалось только мимолётное смущение, как перед некой запретной тайной. И тут ему неожиданно вспомнилось: с ним говорили о разбойниках – что они замечены как раз в этих местах и встреча с ними не может сулить ничего хорошего.
В тот же момент облучок заскрипел, на нём определилось некое шевеление пятна кучеровой фигуры. Затем послышалось как бы чем-то возбуждаемое и более связанное с текущими обстоятельствами, нежели раньше, оханье, бормотанье.
И вдруг с облучка раздался протяжный не сильный, но резкий посвист, а следом насыщенный устрашением, громкий, не коснувшийся земли, а только по воздуху, словно выстрел, щелчок-удар в одно мгновение свёрнутого и тут же распрямлённого жала кнута; кони всхрапнули; изменившаяся мелодия колёсного перестука, поскрипывания гужи, а также будто бы только что заново рождённые взвоны колокольчика указывали на то, что движение ускорилось и что этому была основательная внешняя причина.
Она и в самом деле тут же обозначилась: впереди и чуть в стороне от дороги темнота огласилась учащённым удушливым и скученным дыханием вперемежку со взвизгиваниями и отчаянным, злым, диким рычанием.
Звуки недолго продержались как что-то неординарное целое, быстро отодвигаясь, припадая к земле и одновременно распластываясь по ней, затихая и кончаясь где-то неподалёку.
Сложив прочитанную книгу, которую держал на коленях, Алекс приготовился к событию в общем-то заурядному, но требующему усиленной бдительности и решимости. В этом случае ему нужно было окончательно отодвинуть себя от витавших над ним навязчивых раздумий и ассоциаций. Книгу он положил на сиденье рядом с собой. Ощутил носком податливую мягкость бока полупустого кожаного дорожного саквояжа, отвёл на нём ременную застёжку, пошарил рукой внутри.
Охолодевшая сталь неторопливо принимала тепло от пальцев и кисти.
Осторожно сжав в руке один из пистолетов, Алекс несколько раз постучал его рукоятью по несущей передней стойке фуры.
Облучок опять заскрипел. Продвижение кибитки резко замедлилось, но продолжалось. Очевидно, кучер, хотя и понял, что ему велено остановиться, но пока ещё вроде как раздумывал, так ли это.
– Слушаю, барин, – прогудел он наконец, будто вылезая их шороховатого тесного мешка.
Алекс открыл дверцу и, высунувшись, скорее ощутил, чем увидел в темноте близко наставленное на него лицо возницы с крупными ложбинами запавших глазниц. Под носом неопределённого размаха усы, с нижней губы начинался оклад бороды. По самые брови на голове в искось торчала помятая меховая шапка, закрывавшая также уши и частью щёки. Зрачки поблескивали белесо и равнодушно: в них нельзя было приметить никакой выразительности и подвижности.
– Я, барин, было, того, вздрёмывал, виноват. – Изо рта у него шёл тяжёлый кислый запах, словно от застарелой и пропотелой ременной кожи. – Не извольте беспокоиться. Они более не подойдут… Убёгли, значит, на другую добычу…
Речь, понятное, шла о волках.
Экипаж остановился. Алекс размялся несколькими охватными движениями рук, поочерёдно подпрыгивая на каждой ноге. Затем подошёл к возничему, тронул его за рукав:
– Слышь-ка, братец, не нападают ли на сих дорогах? Будто бы разбойники…
Казалось, кучер только и ждал, чтобы ответить.
– Слыхал. Не стану утверждать, точно ли в энтих местах. Я тут не бывал давно. На всякий случай поостеречься бы…
– А ты знаешь кого из беглых?
– Знал, да забыл. Их уже давно каторга упокоила. Столько прошло годов как меня в рекруты взяли. Нет, нынешних знать не могу. Да и меня здесь давно забыли.
– Ты, стало, из местных?
– Так и есть. Побочный сын… тиунова… из деревни… Вон в той стороне, в заречье, – и он указал куда-то в темноту, в сторону правой лошади.
– Не знавал. А что, болят ушибы?
– Ещё как. Совсем старик. Изошла твердь… Ну, бог даст, не к погибели…
– А в каких же годах?
– Всего-то сорок три, а из них в солдатчине ровно половина…
Лошади стояли, переминаясь в упряжи и неторопливо подёргивая мышцами на крупах и на боках. Доносилось усталое их похрапывание. Призрачно, будто из-под земли, неизвестно чему усмехался колокольчик, вздёргиваемый их движениями.
Возничий взлез на облучок, прекращая разговор и будто слегка сожалея об этом.
– Отдохни. Я отойду малость. Голоден?
– Благодарствую. Хлебец есть. И солонинка.
Алекс отвёл глаза, отступил, и сразу его накрыла другая тьма. В отличие от той, которая окутывала кибитку, она хотя и была несколько разреженной ввиду предстоящего восхода луны, но не менее гнетущей, поскольку в ней как будто таилось и вызревало нечто неожиданное и непременно огорчающее, бедовое.
Под ногами различался мягкий, податливый шорох усыревшей стерни. Значит, здесь поле, которое возделывают. А вон там, дальше глыбится чернотой на тёмном же фоне – скирда. Ещё дальше похоже на лес. Так и есть. Там филин проухал о своём продолжительном одиночестве.
Почему-то мысли опять вернулись к Никите. Тот нередко нарывался на неудовольствие барина. «И что тебе за надобность оговаривать возниц?» – спрашивал он слугу, заставляя его стоять перед ним как бы для того, чтобы на свой вопрос тут же получить исчерпывающий ответ и только такой, что в нём раз и навсегда отрицалась бы надобность оговаривать. «Да они ведь с виду все надёжные и покладистые; касательно же дороги, – я бы не поручился; выходит всякое…» – медленно лепетал Никита, нанизывая одно на другое.
Таким вот образом он уводил ответ неизвестно куда. И Алексу не оставалось ничего, кроме как прогонять бедолагу с глаз долой. Зла на него он не держал, даже больше того, характер слуги ему нравился. Тем, что смутное убеждение в заскорузлой обывательской правоте тот не сумел бы уронить даже если бы к тому были существенные помехи. Верность барину превышала в нём любой возможный интерес человека, представляющего верхнюю часть издёрганной дворовой черни, окончательно потерявшей навыки действовать и рассуждать о чём-либо в пользу себя. Ввиду этого было бесполезно повышать или понижать по отношению к нему планку установившихся требований и ответственности.
Так двое и пребывали в положении как бы отрицательном для каждого; однако общее было у них всё же здоровым и крепким, и этим всё решалось.
«Уживчив, и добрый малый. Бог с ним, с его неуступчивостью, потешной предупредительностью и страхом, – уже примирительно размышлял поэт. – Впрочем, я и здесь отвратителен. Слуга рядом почти всегда. Но для меня, служителя муз, он как бы ничто. Я верен себе не только вдали, вокруг, но и около. Мои строчки о нём единичны и случайны, в них ни на йоту нет искренности и сострадания. Почему, этого объяснить ничем не могу. Таковы мы, дворяне, и я из них самый, кажется, гадкий. А, может, меня и тут настигает мертвящее начало самой поэзии, где одновременно и её конец: поэтическое устремление разбивается о преграду в виде человека, чьё значение закрыто для него самого и никуда не выходит. Нет ничего. Всё в нём кончилось. Таков и я во всей полноте.
И не заслуживаю иного, кроме как того, что должно происходить и уже теперь близко…»
Мысли опять исподволь перетекали в обобщения, формировавшиеся под влиянием прочитанного совсем недавно.
«Всё, что меня окружает, и что я чувствую и могут чувствовать другие, – огромный мир. А я прозябаю в уверенности, будто описываю из него самое важное и наилучшим образом. Какое заблуждение! И как же мелка, несущественна и недальновидна вся поэзия тысячелетий, включая и созданное мною.
И только ли о поэзии, как изящной словесности, надо говорить в данном случае?
Литература в целом представляется мне слабой и постной; в ней нет надлежащей проникновенности в глубины человеческого…
Осмелюсь утверждать, что она даже в таком положении, какого смогла достичь на текущий момент, остаться не сможет и обречена что ни дальше, то больше хиреть и превращаться в явление, замыкаемое в уже хорошо усвоенном чувственностью, только фиксирующим известное, или – в то, чем на всякие лады манипулируют, скорее всего в неблаговидных целях, непременно его огрязняя и опошляя, – а значит оно, такое явление, не способно будет ни в ком вызывать ни искреннего душевного отклика, ни сосредоточенного полезного переживания, как должно бы быть при постижении из литературной кладези чего-то свежего и неожиданного, пригодного каждому, чтобы лучше узнать себя и постараться быть лучше; тут не найдётся ничего, что по-настоящему привлекало бы внимание, побуждало к поиску, в том числе, разумеется, – подвизающихся в литературе…»
«С кучером, как и с Никитой, не то плохо, что я не знаю даже его имени. Но как мог не приглядеться хотя бы заранее ко внешности? За столько-то времени пути! Правда, была вроде тому явственная причина: сообщение с возницами и совместное с ними участие в разрешении дорожных перипетий по общему порядку возлагается на слугу, и он всегда был, что называется, под рукой. Но теперь-то, в этот раз я – без него. Подобало бы не упускать из виду…. Но – будто намеренно кто переводит мой взор с видимого прямо перед собою и вполне очевидного. Куда?
Неужто моё пребывание в жизни так сковано порочностью и я принуждён быть порочным и несчастным до крайности – до жестокости? Такое замечаю. Мало того, что возница давно уже немощен телом, теперь у него умирают глаза. Он почти слеп, и к концу провоза, возможно, ослепнет вовсе. А я уже знаю: ничем не помогу, не захочу и не смогу помочь. И когда придёт минута расставания, не вспыхнут во мне сожаления и не будет угрызений в душе. То же и после.
Я предпочту остаться поэтом, беззастенчивым рабом физического комфорта и опустошённой духовной чистоты. Как это ужасно и оскорбительно и как непоправимо! Да, я конченый, трусливый приспособленец…»
«И при чём тут волки? – размышлял он далее. – Пусть бы они напали. И даже будь я перед ними героем, как поэт, я себя стыжусь и боюсь…»
Ему припомнилась цепь его личных тоскливых и бестолковых дуэлей, большую часть которых он инициировал сам. Чего хотел? Чего искалось? Неужто по-настоящему представлялся храбрым во имя убогой и всегда остававшейся ни с какой стороны не осмысленной сословной чести? Если так, я – живущий только пороком, и – до кончины не так далеко. Пожалуй, оно и стоит того.
Трус в облике храбреца! Таким вот теперь уж и остаётся быть…»
Алекс зашагал в сторону тёмной глыбы скирды. Подошвы легко приминали податливый шорох стерни и неглубокими незримыми следами отпечатывались на мягкой, но ещё пока не сильно отсырелой земле. Он теперь один, и ему уже просто не хотелось преодолевать себя, рушить сложившиеся угнетавшие обстоятельства. В памяти затолклись эпизоды с убийствами по результатам игры в рулетку. «И там она же – трусливая сословная храбрость перед фетишем неясной чести. Значит, тоже огромная ложь в услужении порока; – всё опять сходится…»
Свирепая корысть – пороков грязных мать —
На души и стихи поставила печать
И речи лживые для выгоды слагала…1
Поэт вытащил пистолет из-за отворота. Вытянул вперёд державшую его правую руку и опустил вдоль туловища. Другой рукой начал расстёгивать пуговицы на груди.
«И вот – моя судьба. Где я – не знаю. Почему? – тоже. Но это – мой высший момент и мой час. Просто и даже хорошо. Сожалею, как мог жить в такой запертой и тесной храмине, приняв за явное истины придуманные и призрачные. Теперь говорю только о себе: озарение могу почесть за подлинное счастье. Что сохранится из моего для будущего? Для света и близких? Вослед меня их осуждение пойдёт за всё, что оставлял им прежде, а ещё более – за оскорбления дерзостью и вызовом сих минут…»
Рука, державшая пистолет, начала медленно подниматься в изгибе и от плеча. Было так же темно, как и раньше. В очередной раз проухал филин, уже значительно слышнее. Других звуков слух не различал, что казалось несколько странным, поскольку ещё у кибитки давали знать ощутимые порывы неожиданно задувавшего ветра, длившиеся, правда, недолго и так же неожиданно стихавшие. Они могли подойти сюда заново. И в самом деле: из-под низко нависавшей непроницаемой мглы сыпануло на щёку случайной пылью холодноватых невесомых капель.
Происходящее располагало к успокоенности и трезвой осмотрительности. Мозг и тело существовали в едином устремлении против любой попытки духа возбудиться в отчаянности мятежных чувств. То осознание воли, дисциплины и хладнокровия, которым ему приходилось довольствоваться, когда на расстоянии перед глазами появлялось едва различимое круглое отверстие рока.
Откуда-то издалека выходили и подступали мысли о том, что, пожалуй, более всего последствия уже окончательно созревшего решения могут быть неприятны для ослепшего возничего; ему, конечно, учинят изматывающий допрос, притом, как водится, ещё и с пристрастием. «Ну, это мы знаем…» Бедняге не выдержать. И если осудит и проклянёт, будет сто раз прав. Да, возможно, и Никита.
А матушка, наоборот, пожалеет и, горюючи, скоро угаснет…
Эти торопливые для данной ситуации размышления уже не казались уместными. Приходилось им сопротивляться. Но ещё более некстати и как бы по-особенному настойчиво приближалась и жалила очередная мысль – об авторе лежавшей теперь на сиденье книги.
«То, что он поведал о себе, это же происходит со мною сейчас!»
Алекс едва не вскричал, убеждаясь в полнейшем тождестве личных разочарований с финишной частью душевной муки главного героя, одновременно исполняющего роль повествователя.
Он окинул темноту взглядом, и она его так ошеломила, что, казалось, он сейчас упадёт просто так, сам по себе, не предпринимая более ничего.
И поле под стернёй, и скирда, и ближний лес, и стоявшая где-то позади кибитка с измождённым несуразной жизнью и подступающею слепотой кучером, и нависшая непроглядная просыревшая мгла вместо неба, и одинокое уханье ночной птицы, и всё, что ещё могло тут быть – всё это в какой-то странной схожести уже описано в книге, закрытые страницы которой ещё, наверное, хранят теплоту их последнего и, возможно, самого небезучастного читателя.
Казалось, что теперь темнота и сырость давили ему на внутренности. От них становилось больно глазам и ушам. «Да я, кажется, схожу с ума! К наставшему только ещё этого недоставало…»
И он резко повернул пятачок пистолетного ствола по направлению к своей груди, уже зная, что пытаться воздерживаться не сможет. Разом подступил озноб; и то, что должно было случиться очень просто и как будто вполне обдуманно, почему-то не вышло и отодвинулось. Ладонь, державшая рукоять, взмокла от холодного пота, а пальцами левой руки всё ещё не удавалось отстегнуть самую нужную пуговицу на отвороте. И в этот момент у края мутного окоёма, не так чтобы далеко от дороги, почти за пределом, куда только мог проникнуть скошенный в сторону взгляд, обозначилась едва различавшаяся точка блеклого неопределённого свойства. Подчиняясь инстинкту, взгляд переместился в сторону ещё дальше. Точка раздвоилась, а за нею, в стороне можно было разглядеть ещё несколько, таких же.
Темнота в том месте была такой густой и плотной, что никак не просматривалось, движутся ли эти сдвоенные блеклые пятна хоть куда-нибудь или они замерли, чему-то удивившиеся и озадаченные. Это, очевидно, была та же волчья стая, в которой несовершенный расчёт вожака привёл нападавших к атаке на экипаж с ещё недостаточно близкого расстояния и – к общему смятению перед резким посвистом возничего и всхлёстом его кнута.
Судя по всему, стая теперь заходила на выбег заново, прокравшись через глубь леса; но, выйдя оттуда на опушку, она остановилась, поражённая малоприятными дня неё обстоятельствами охоты.
Вопреки всему экипаж, подверженный погоне, находился не там, куда ему следовало умчаться в страхе, а стоял совсем невдалеке от того места, где стая услышала опасные звуки, исходившие от человека. Следовало быстро переменить повторный план расстановки участников погони, придав операции необходимую природную чёткость, без чего не могло быть желаемого успеха.
Возвращение к «следу» в таких обстоятельствах вещь не такая уж редкая. Тут и вожак мог быть виновен лишь в части. Будь стая голодной до свирепости, её бы не устрашили ни всхлёсты кнута, ни пугающий свист, ни крики во всё горло. Атака могла продолжаться, корректируемая по ходу целым рядом выбегов, – до тех пор, пока жертва не оказалась бы измотанной. И первый, кто приложил бы к этому самые невероятные усилия и приёмы, был бы не кто иной, как вожак.
Теперь стая, скорее всего, не была особенно голодна. Мог состояться обычный перебег к её более удобным логовам, но на пути ненароком появился тот же экипаж, и устоять перед искушением было нелегко, а раз уж прежняя атака не удалась, её необходимо было продолжить, одновременно удерживая в общей памяти звериные претензии к вожаку. И тот знал, что излишняя внимательность и осторожность будут ему только на пользу, а в случае конфликта он не вправе отстраниться от него и от своей ответственности и должен суметь постоять за себя.
К его беде случилось непоправимое.
Объятый страхом из-за вменённой вины и теперь вынужденный остановиться, чтобы усвоить, что же ему надо сделать буквально через секунду, чтобы начать стремительный выбег, он был вынужден убедиться, что к прежней его провинности может прибавиться ещё одна и притом не менее серьёзная: матёрый вдруг ясно учуял дополнительное препятствие по направлению погони, и оно опять же могло представляться притягательным не только ему, но и всей обескураженной стае.
– Вот случай, и я могу доказать, что я – не трус! Ну, подходите! – проговорил Алекс и вслед за тем выпрямил руку с оружием в сторону волков и нажал спуск.
В темноту словно в глухую мокрую стену ударился конус яркого сполоха, и, сопровождая его, грохот заторопился отгулять по глухому полю, между скирдою и лесом, теряя свою короткую, протухшую порохом жизнь.
– Виват! Славно! – заорал стрелявший, не удерживая быстро прибывающей возбуждённости.
Без промедления в сторону стаи прогрохотал ещё один выстрел.
Он был уверен, что волки совсем близко, и вожака он даже успел разглядеть при вспышке: силуэт внушительного размера, казавшийся собранным в одно тугим и вздрагивающим сгустком мускулов, со вздутой бугром холкой, не двигался, припадая к стерне, беззвучно ощериваясь и не мигая суженными тусклыми свирепыми зрачками.
– Ба-а-а-рин! Ба-а-а-рин!!! – прокатился от дороги зов кучера. – Тут я! Сю-у-да-а!!!
В тот же миг у опушки, где находились волки, произошло как бы взорвавшееся движение по небольшому замкнутому кругу, но с отчётливо различимой на слух серединой.
Донеслись рыки, скулёж, клацанье челюстями, взвизгивания, удушливое храпение, а также многократные, какие-то взрывные звуки, означавшие жестокое насильственное бросание на землю и плотные массивные удары об неё живых поджарых тел. Скоро всё стихло. Чувствовалось, что участвовавшие в разборке звери разгорячены, дрожат, но их прежнее ожесточённое перевозбуждение проходит. С вожаком было покончено. Без него стая уже не могла иметь никакого намерения, кроме как найти ему замену. Для этого следовало с данного места уйти.
– Ба-а-а-рин!!! – продолжал подзывать слепнущий возничий.
Голос его звучал ближе; ясно, он посчитал положение отчаянным и поспешил на подмогу. Алексу даже показалось, что он опять различает запах старой ременной кожи у него изо рта. «Чертовщина какая-то», – проворчал он, смятый захватившим его событием
– Иду-у! – и, повернувшись, он зашагал по стерне навстречу.
Темнота вдруг открылась ему ещё одной странностью. Там, где скирда краем отстояла к лесу, легко задвигалась тень, потом вторая. Их очертания не просматривались, и всё-таки в них, хотя и неотчётливо, угадывались движения, присущие людям, фигурам людей. Можно было установить, что они разные по росту и несомненно являются людьми, на что указывали и движения призрачных линий рук. Тени одна за другой устремлялись к лесу, прошелестев на невидимой кучке слежалой соломы. И когда их совсем поглотила тьма, там раздался звучный, обрамлённый шипением посвист. Чем-то он был похож на тот, который Алекс услышал недавно от облучка. По шелесту впереди себя он понял, что это идёт возница. «Вот новость!»
– Я бы и сам.
– Барин, бяда, – говорил тот, ещё издали узнавая пассажира. Кучер повёл рукой в ту сторону, где должна была находиться кибитка, дополнив жест поворотом незрячего лица. Он был испуган и тяжело дышал: – Мне велено позвать…
– Кем?
– Трое. По всему, беглые. Один как из благородных. А у одного топор…
– Идём!
Поэтом овладело то хладнокровие, которое не имеет вообще и не может иметь под собой никакой основы. Некая потеря чувственности, но при полном и чётком сознании, когда раз и навсегда решённым устраняется малосущественное.
– Как же можно, барин?.. – в голосе кучера обозначилось пугливое недоумение. – Я им, чай, не помощник. Надо бы не идтить! Самим да в пасть. Ох, бяда. И – вовновь – по мне…
Алекс не проронил ни слова. Всё это теперь побочное. Вместе подошли к кибитке. Трое стояли возле неё; в руке одного из них находился, почти касаясь земли, фонарь, видимо, взятый с облучка, где обычно держат его возничие, зажигая нечасто, а лишь при крайней необходимости; теперь от него исходил тусклый полусвет, направляемый намеренно вбок, где не могло быть никого.
Над обеими сторонами встретившихся провисало неопределённое безмолвие. Только было слышно, как лошади в ожидании дальнейшего пути покачивали головами и встряхивали крупами, а в такт их движениям тихим звоном подрагивали колокольчик и сбруйные пряжки.
– Просим не пугаться, – выговорил крайний по ряду слева, стоявший теперь напротив возвратившегося к фуре поэта.
Голос его спотыкался на отдельных слогах из-за того, что дыхание перемежалось, вероятно, очень болезненными подступами кашля, требовавшими постоянного и весьма старательного их сдерживания; по этим особенностям он, голос, выдавал если не начальную стадию чахотки, недуга, в те времена признававшегося неизлечимым, то, по крайней мере, сильно запущенную и уже осложнившуюся простуженность.
Беглым этот человек не казался. Молодость уже не с ним, но и старение пока не представлялось явственным. Обросшее бородкой и усами лицо, насколько его можно было разглядеть в темноте, только слегка разреженной потайным освещением фонаря, хотя и казалось усталым, но не затёкшее и не лишено выразительности. По скупым движениям и ещё не рваной одежде и сапогам – будто с начатками благородства, а в целом, возможно, холуй. Двое других, – обутые в лапти, в подпоясях и с однообразной, запущенной стрижкой подрезом, – видимо, никак не собирались вступать в разговор и стояли сущими истуканами. Топор, как наиважнейшая принадлежность для ночных вылазок, подобных этой, мог быть сзади за поясом у одного из них.
– Я… – решился было заговорить первым Алекс, но едва он успел произнести этот начальный слог, как был прерван:
– Вам называть себя не обязательно; мы знаем…
– …сочиняю стихи и разное; еду по своим делам, – как бы не считая нужным обращать внимание на помеху, а заодно и на то, чему она стала препятствием, сказал Алекс. – Вижу, вы не очень любезны и боитесь чего-то. Без лишних слов: чем обязан?
– Давайте отойдём; вы и я.
Алекс не двинул даже мускулом. Тогда те двое разом качнулись и вместе с их тенями зашагали в голову экипажа, унося также фонарь.
За ними поплёлся и кучер; двигаясь вдоль фуры, он наощупь удостоверился в наличии облучка и, охая, медленно взобрался на него.
– Дело для вас хотя и непривычное, но не так чтобы и сложное, – приступил главарь, прокашливаясь на отдельных последующих словах или частях фраз. – В имении, куда вам ехать, через управляющего попросите нам помощи пропитанием и лечением. У нас недужные, один сегодня помер. Хозяин ничего знать не должен. К нам, насколько позволяет его положение, он добр и даже в помощи не отказал бы, хотя и во вред себе; мы предпочитаем не чинить ему неприятностей. Управляющий пока ничего не знает. Выходец не из этого уезда. Обратится один из нас. Мы только просим. О вас узнали… – говоривший кивком головы указал на облучок.
Ничего особо таинственного поэту больше не представлялось.
«Их тут целая ватага. Держатся леса, глухомани. Они и волкам помешали. А возница-то – каков; – только – что с него взять!»
– Меня вам придётся подвезти, а если понадобится и защитить, – продолжал новоявленный собеседник. – Облава по дороге или что ещё. Будто еду с вами. Так и надо сказать, не позволяя никому рассмотреть кибитку внутри. А расстанемся на подъезде. До той поры ваши пистолеты будут со мной. Прошу!
– Я не приучен отдавать своё оружие кому бы то ни было, а тем паче разбойникам, – ровно, выделяя каждое слово, произнёс Алекс.
– Вашему реноме от того урону не будет; а противиться, как видите, без пользы, – парировал главарь, придвинувшись к поэту лицом, так что угадывалась нездоровая бледность на его щеках и губах.
– Значит, я у вас пленник?
– Как поэт вы – свободны. Сейчас, однако, вы не только поэт, но и барин. Да к тому же – проезжий. Извольте: кажется, и в лучших своих стихах вы представлены как не только поэт.
И он принялся декламировать начальные строки одного из его объёмистых стихотворных текстов, натужно, чтобы не допустить раскашливания, протягивая слоги и пробуя артикулировать отдельными из них; но – тут же и перестал.
Алекса круто задела эта прямая и так быстро изготовленная дерзость; от неё оставалось недалеко до грубой насмешки. Но он себя одёрнул, прикидывая, что, пожалуй, ничем тут возразить уже невозможно, да и не надо. Вернувшееся отточенное хладнокровие было весьма кстати, потому что как раз в этот момент могла случиться глупость, а за нею глупые же, то есть непоправимые последствия, разумеется, – для него, проезжего, таким вот бесцеремонным образом задержанного: разбойник протягивал руку как бы в намерении силой заполучить пистолеты, имевшиеся у Алекса.
Оставалось безо всяких условий принять навязанные требования. К тому же их можно было считать лёгкими, почти гуманными. Ведь теперь из диалога становилось ясным, что незнакомец, если он и разбойник, то не такой уж холуй, каким казался вначале. Определённо не холуй. И не играет благородностью. Хотя неизвестны её границы, достаточно и вежливости.
«Будь я сам таким же разбойником, много ли бы жалости и сочувствия имел до какого-нибудь барина, кропающего стишки?»





