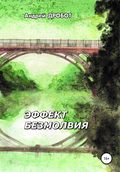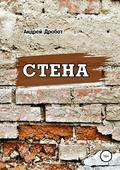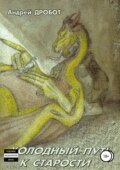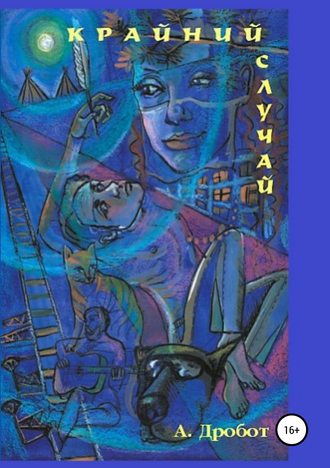
Андрей Викторович Дробот
Крайний случай
Путевка в жизнь
«Да, свет, а не мрак мы видим в прошлом, свет без теней. Пройденная нами дорожка весело бежит, теряясь в туманной дали: камней на ней мы не замечаем. Нас останавливают только розы, а колючки в нашей памяти рисуются нежными, колеблемыми ветром усиками»
Дж. К. Джером
Несмотря на юный возраст нашего города, его прошлое уже тает понемногу в дымке забвения. Историю пишут люди, но слаба память людская, короток и изменчив век человеческий. Герои тех далеких дней, когда город Муравленко только зарождался, понемногу уходят из поля зрения, унося с собой крупицы прошлого. Но так хочется найти ответ на вопрос: кто был первым на муравленковской земле? Правда, вопрос этот неблагодарный: как на сильного всегда находится сильнейший, так и на первого – первейший. И все же сегодня мы расскажем о человеке, вбившем первый колышек под разметку фундамента первого здания, построенного в городе.

Знакомство с Иваном Скубой началось с его письма, отправленного в музей города Муравленко. «Здравствуйте, товарищи! Услышал по радио, что вы хотите узнать, когда и кем был забит первый колышек в основание города Муравленко. Я могу рассказать вам об этом. Начинался город с рубки первой сосны моими руками и руками трех моих товарищей…»
Эти строки не могли не заинтересовать. Мы отправились в Ноябрьск по адресу, указанному на конверте. Но оказалось, что автор письма из-за внезапной болезни срочно выехал на «землю». Он уже пенсионер и свободен от условностей трудовых будней. Через его знакомых удалось найти адрес и телефон. И вот мы, наконец, связались с Иваном Скубой, который был уже на родине, в городе Днепродзержинске Днепропетровской области.
Иван Яковлевич в свои 60 уже десять лет как на пенсии. За плечами годы трудовой жизни, проведенной по большей части на вредном химическом производстве. Болезни дают о себе знать. И даже более того: работа в цехе по производству азотной кислоты едва не стоила ему жизни. Случались аварии, когда натиск кислоты порой не выдерживали трубопроводы, и она вырывалась наружу. Ремонтникам приходилось работать в тумане ядовитых испарений. Хотя и дел-то было – перекрыть задвижку, но Ивана Яковлевича несколько раз после этого вытаскивали из цеха без чувств. Раньше многие работы, на которые современный человек не пойдет ни за какие деньги, выполнялись на голом энтузиазме. Это не могло продолжаться долго. Он ушел…
Работы он не боялся. Парень был мастеровой. С отличием окончил ремесленное училище. Служил в армии. После дембеля, в отличие от многих, нашел в себе силы на продолжение учебы в институте и получил специальность инженера-электромеханика. Конечно, вечернее отделение было не сахар. Днем работал на заводе. Зубрил по ночам. Но без образования тоже плохо.
Черты первопроходца обозначились в нем через пару лет после окончания института. Он устремился на строительство города Шевченко в Казахстане. Этот небольшой город на полторы сотни жителей на берегу Каспийского моря появился в 1963 году в связи с освоением месторождений нефти и газа. Иван Яковлевич приехал на новостройку, когда строительство еще только начиналось. А когда на Шевченковском заводе пластмасс забрезжила жизнь, он остался на нем работать. Вначале – мастером контрольно-измерительных приборов, затем зам. начальника цеха. Было еще несколько переездов. Побывал Иван Яковлевич во многих уголках СССР.
Характер у него был непоседливый, потому к географии своих переездов не побоялся приплюсовать весомый добавок в виде Крайнего Севера. А тогда, в 1982 году, закрепиться в этих краях было тяжело. Да и милиция в те годы была строга к приезжим, а бичей гоняла нещадно. Но все же именно вот таким бичом Иван добрался до Ноябрьска в вагоне поезда-бичевоза. Сам-то тепловоз ничем особенным от нынешних не отличался, но вагоны… Их было три-четыре, и все без окон и дверей. Без проводников. Было сломано все, что можно было сломать, и, естественно, в первую очередь было выбито все стеклянное. Поездка даже по прошествии многих лет не стерлась из памяти. Несмотря на август, сквозняки заставляли кутаться во все, что было теплого, и искать места, где они не сильно доставали.
Ноябрьский вокзал представлял собой в то время небольшой полустанок. Собственно, сам город еще только зарождался. Бараки, балки – вот и все архитектурные решения того времени. Но Иван Яковлевич не из тех, кто унывает.
Работу мастера он нашел быстро. Получил вызов, так сказать, путевку в северную жизнь. Заработки в то время были неплохие. С сентября 1982 года Скуба приступил к работе. И так сложилось, что скоро он попал в здешние места.
Стоял морозный ноябрь 1982 года, когда бригаду треста ННГС (Ноябрьскнефтегазстрой) под руководством Ивана Скубы вертолетом забросили в район строительства города Муравленко. Место высадки – район нынешнего перекрестка улиц Нефтяников и Энтузиастов. Тогда существовал только план обустройства будущего поселка, в самом поселке не было ни кола ни двора. Вокруг одинокого вагончика стояла укрытая снегом молчаливая тайга. Их было четверо. Из инструмента – только топоры. Ими они и одолели закаленные сорокаградусным морозом сосны, чтобы расчистить плацдарм для первой стройки. Вот тогда-то и был забит первый строительный колышек в землю, где сегодня стоит красивый 36-тысячный город Муравленко.
В наш технологический век реализация всех более или менее крупных проектов (даже на бытовом уровне) начинается с поиска розетки. Для строительства города она была тоже необходима. Бригада Ивана Скубы должна была ее установить: небольшую комплексную трансформаторную подстанцию польского производства, мило называемую полькой. И для начала надо было вырыть яму под фундамент в грунте, который от мороза стал тверже камня. Но в то время не было ничего невозможного. Грунт разогревали горящей соляркой, которую доставляли вертолетами в огромных бочках.
Каких-то особенных впечатлений то время не оставило. Рассвет начинался часов в девять утра, а в четыре часа дня было уже темно. Работу спрашивали строго. Как говорится: «давай-давай». Жили, несмотря на трудности, хорошо. Так это видится спустя годы. По воздуху два раза в месяц им доставляли все необходимое: тушенку, болгарские овощные консервы, хлеб, мясо, крупу…
В вагончике особо не разгуляешься. Теснота. Но жили дружно. Готовил в основном Иван Яковлевич. Пока ребята работали, он орудовал на кухне. Монотонность существования скрашивала охота. Несмотря на то, что продуктов было достаточно, ребята постреливали дичь. Тогда ружье было почти у каждого, и зверья вокруг уйма: куропатки, глухари, зайцы. Можно сказать, что вся эта живность гнездилась прямо на улицах будущего города. Дикая жизнь била ключом, в это сейчас даже не верится.
«Зачем вы набили глухарей?» – в очередной раз спрашивал Иван Яковлевич у мужиков, когда в узком коридорчике жилища появлялись свежие тушки безвинно убиенной дичи. Ему было непонятно, что за необходимость добывать это жесткое мясо с сосновым привкусом, когда свои продукты девать некуда. Но с охотничьим азартом первопроходцев ничего нельзя было поделать. А потом пришло пополнение, появились первые жители… и на многие десятки километров вокруг города исчезли звери.
В конце весны – летом 1983 года, когда сошли талые воды, сюда начали пробиваться первые машины: мощные «Уралы», груженные стройматериалами. Они шли по бездорожью через мелкие речушки и болота в сопровождении тракторов. Через непроходимые места машины протаскивали волоком. Бывало, что и тонула техника. Это была самая настоящая битва за нефть и за город. Были потери. Где не хватало сил у машин, в работу включались люди, на себе перетаскивая часть грузов. Ведь болото на въезде в город было страшное. Казалось, что дорогу здесь никогда не построят. Но бездонные пропасти завалили песком. Дорогу построили.
С наступлением лета жизнь небольшой бригады строителей оживилась. Рыбалка оказалась по душе всем. Причем ходить далеко не надо. Озеро было рядом – на границе современного парка, где сейчас пирс и стоят на приколе катамараны. Окуней там было видимо-невидимо. Ловили и сетями, и удочками. Глухомань, правда, была еще та. Сосны стояли стеной. И это едва не стоило Ивану Яковлевичу жизни.
Всем рыбакам известен тот захватывающий азарт, что возникает при хорошем клеве. Хочется зайти как можно дальше, чтобы забросить наживку в наиболее глубокое место и вытащить самую крупную рыбину. Берег был заболоченный, и Иван Яковлевич по кочкам стал подкрадываться ближе к воде. А человек он крупный, под сто килограммов. Очередная кочка не выдержала его веса, стала быстро погружаться. Он поскользнулся и очутился в воде. Чуть не утонул. Выбраться было сложно. Берег уходил из-под ног. Но он все же выполз, подминая кочки под себя. А ребята сидели рядом, метрах в двадцати, вокруг костра, отгоняя надоедливых комаров, и совершенно не слышали, как он звал на помощь…
Сейчас город Муравленко вырос и окреп. Его улицы становятся все краше. Поэтому Иван Яковлевич гордится, что именно ему выпал случай дать отправную точку строительству, дать путевку в жизнь целому городу.
Сентябрь 1999
Человек должен идти вперед
«Высшим отличием человека является упорство в преодолении самых жестоких препятствий»
Людвиг ван Бетховен
Пик развития города и месторождений вокруг него пришелся на отрезок времени с 1985 по 1990 год, когда население города увеличилось с 4 до 27 тысяч человек (на 2/8 нынешней численности населения города), была создана система его жизнеобеспечения, и был достигнут максимум в добыче нефти. Первые три года указанной пятилетки начальником НГДУ «Суторминскнефтъ» (на котором лежала двойная задача: освоение месторождений и строительство города) был Александр Минченко. И неизвестно, согласился бы он занять эту должность, если бы знал, что его ожидает в Муравленко образца января 1985 года.

Тогда всего не хватало, только мороза было в достатке. Слабенькие котельные не могли обогреть даже небольшой поселок.
В квартире деревянного «бамовского» дома, где Минченко разместился с семьей, было семь градусов тепла. Не было ни горячей, ни холодной воды. Она журчала только в системе отопления, да и то не всегда. Канализация тоже перемерзала, собственно, ее и не было из-за недостатка холодной воды. В довершение картины и на самой Суторме ситуация была очень тяжелая.
Из-за аварии, произошедшей перед Новым годом, остановилась в замороженном состоянии система ППД (поддержания пластового давления). А Виктор Городилов, генеральный директор «Ноябрьскнефтегаза», привез Минченко в Муравленко, представил его коллективу и бросил, как котенка в воду, в поселок, где была не жизнь, а одно мучение.
Хлеб продавался тогда в одной-единственной пекарне. Люди в любой мороз часами стояли в очереди к небольшому окошечку, где в час на продажу поступало всего 10-20 буханок. Действовало ограничение – одна буханка в руки. Люди занимали очередь по нескольку раз. Испеченный хлеб мгновенно раскупался.
С получением корреспонденции было также тяжело. Приходилось ждать около часа, пока почтовые работники искали письмо или газету в общей куче, сваленной на полу.
Тоска женщин по воде была настолько глубокой, что по ночам им иной раз мерещилась капель из еще не установленных кранов. Отверстия в трубах были заглушены пробками…
Что же заставило Минченко с женой и сыном покинуть обжитый Ноябрьск и переехать в Муравленко?
«Человек должен идти вперед, к цели. Он должен стремиться стать хотя бы на вершок выше, чем он есть сегодня. Когда роста нет, то пропадает интерес к жизни. В известном смысле отмирает даже сам смысл работы, если не считать животную борьбу за существование, за кусок хлеба», – эта мысль и стала решающей, когда главный инженер НГДУ «Холмогорнефть» думал, стоит ли ему брать на себя груз ответственности за НГДУ «Суторминскнефть».
Западная Сибирь тогда сильно отличалась от «большой земли», где люди на одном месте иногда работают до пенсии. На Севере при той новизне, при тех бешеных темпах работ люди, которые себя проявляли, быстро продвигались вверх по служебной лестнице.
Минченко решил испытать себя. Тем более что опыт работы позволял: к 1985 году он проработал в нефтяной промышленности пятнадцать лет и начинал еще оператором по добыче нефти.
Одно только селекторное совещание по НГДУ «Суторминскнефть» с отчетом перед руководством объединения проходило в течение двух часов. На совещании присутствовало не менее пятидесяти ответственных работников. После «селектора» шли встречи с подрядчиками, а их, только генеральных, у НГДУ было около тридцати. В обязательном порядке приходилось выезжать на места. Затем планировались работы в ночную смену. Александр Михайлович приезжал домой часов в девять вечера, чтобы поужинать, и, часок-другой отдохнув, до двух часов ночи проверял, как ведутся ночные работы. А уже в семь утра ему докладывали текущую обстановку, и в первую очередь по добыче нефти. Потом он звонил в котельную, т. к. на дворе стояла суровая зима. Собственно, этому была и другая причина.
Зимой 1985-го, когда ударили сильные морозы, город оказался на грани выживания. Люди самостоятельно решили проблему тепла. Чтобы ускорить движение горячей воды по трубам, один конец шланга подсоединяли прямо к батарее, а другой выбрасывали на улицу. Пока это делали несколько человек, то действительно в их квартирах становилось теплее. Но шила в мешке не утаишь, как и такое новшество в маленьком поселке.
«Рационализаторов» становилось все больше, и в конечном счете получилось так, что вода из системы отопления практически перестала возвращаться на центральную котельную, а мощности артезианских скважин не хватало, чтобы восполнить потери. Возникла угроза размораживания отопительной системы города. В срочном порядке начальником суторминцев были направлены по жилым домам работники ЖКХ, пожарные и даже конторские служащие НГДУ. Они убеждали людей не хулиганить. Жители поселка осознали опасность, и план по дополнительному восполнению системы теплоснабжения города озерной водой не был реализован.
Не выдерживали потребляемой поселком мощности трансформаторные подстанции. Они в буквальном смысле взрывались. Представьте себе, когда мороз переваливает за отметку в 40 градусов, вдруг прекращается подача электроэнергии. Тут хоть караул кричи. И виною этому были соскучившиеся по теплу жители, которые подключали к сети все, что имеет способность нагреваться, начиная от предметов заводского изготовления и кончая самопальными «козлами». Авральный режим работы и выживания стал нормой. Природа давала самый настоящий урок выживания первопроходцам.
Горели здания, гибли люди. Гибли порой прямо на глазах, а помочь им не было никакой возможности. Пять или шесть человек сгорели в огне пожара в ту субботу… Ожидался приезд главного инженера «Ноябрьскнефтегаза» Алексея Кондратюка и заместителя генерального директора Ревала Мухаметзянова (того самого, который сейчас работает вице-президентом в «Сибнефти»), Встреча была назначена на 9 часов утра, и Минченко пошел на работу пешком, тем более что небо было ясное, бодрил легкий морозец, а солнечные лучи весело отражались от чистого снега. И тут – дым в районе НГДУ.
Минченко ускорил шаг, а потом не выдержал и побежал. Завернув за угол, он увидел, что охвачен огнем жилой дом. Жильцы выскакивали из подъездов кто в чем был. Люди на втором этаже выбивали стекла и по стреле крана, который оказался рядом, спускались на землю. Дом сгорел в течение получаса. Тогда погибли и дети, и женщины, отравившись ядовитым дымом горящего утеплителя…
«Главный суторминец» крутился, как белка в колесе, буквально разрываясь между НГДУ и поселком. Не было ни выходных, ни «проходных». А в то время приезжало много комиссий. К их приезду составлялись дополнительные мероприятия. Для отдыха в лучшем случае оставалось время после обеда в воскресенье. Приходилось быть жестким по отношению к себе и другим. Это не всем нравилось.
Минченко был сторонником волевых решений. Ярким примером тому служит случай, произошедший, когда он работал в НГДУ «Холмогорнефть». Тогда еще года не прошло, как образовалось объединение «Ноябрьскнефтегаз». И зачастую многие проблемы не решались из-за того, что часть территории Холмогорского месторождения находилась в Ямало-Ненецком округе, часть – в Ханты-Мансийском. В Сургуте указывали на Ноябрьский регион, а Ноябрьск в свою очередь – на Сургут. Но что-то надо было делать с дельцами, которые повадились торговать пивом и водкой. Они, пользуясь случаем, на широкую ногу организовали нелегальный сбыт хмельной продукции работникам объединения. Минченко решил проблему по-своему: дал бульдозеристу команду снести несколько балков, где базировались спиртные лавки. Был случай, когда он уволил в полном составе бригаду вахтовиков из Краснодара, которые прилетели на работу в стельку пьяные.
Большие проблемы были и с жильем. Люди сюда ехали и ехали в связи с увеличением объемов работ по добыче нефти. Строительство поселка шло практически круглосуточно. Украинцы вели непрерывный монтаж. Шесть финских двухэтажных домов тогда, в суровые сорокаградусные морозы, были поставлены в рекордно короткие сроки, с опережением темпов всех предприятий, которые вели аналогичные работы в районе Ноябрьска, на Вынгапуре. Произошло это так.
Однажды Городилов вызвал Минченко и приказал за три месяца построить шесть финских домов, квартиры в которых были уже распределены между организациями. Это был октябрь 1987 года, а зима тогда была ранняя, очень суровая, такая, что старожилы не помнят ничего подобного.
Генеральный план строительства финского комплекса был разработан отделом капитального строительства НГДУ «СН» в течение нескольких дней. Чертежи прямо из-под карандаша уходили на строительные площадки. Но, несмотря на активную работу, в три месяца строители не уложились. Температура воздуха опускалась до минус 57 градусов. Такой мороз держался около месяца. Под давлением Городилова Минченко и строители вынуждены были пойти на крайние меры. Работы продолжались, невзирая на актированные дни*. Рабочие бригады выходили на пятнадцать минут на улицу, выполняли, что успеют, и уходили греться. Их сменяли другие. Вот так в суровейших условиях и шли работы по возведению финских жилых домов.
НГДУ «Суторминскнефть» в 1985 году добывало где-то 4 с небольшим миллиона тонн нефти в год. При Минченко через три года, в 1988 году, НГДУ вышло на добычу примерно 10 млн. тонн нефти в год. Шел ежегодный прирост примерно 2 млн тонн нефти. Но особого почета в системе «Ноябрьскнефтегаза» суторминцам за это не было. Они частенько сидели без премий, проигрывая в зарплате своим коллегам из других НГДУ. К «главному суторминцу» отношение было особое. Как-то в объединении посчитали, кого больше всех наказывали. Оказалось, что лидером среди первых руководителей, причем с большим отрывом, стал Минченко. На него за годы работы начальником НГДУ вышло порядка 30 приказов с выговорами, «строгачами» и лишением премий. Конечно, все это было небезосновательно: слишком много вопросов решалось – строили поселок и месторождение, что-то Минченко и упускал. Вот только ему упущений не прощали. А может, дело не в нем, а в отношении к самой Суторме, как к ребенку, который не оправдал ожиданий.
Дело в том, что Суторминское месторождение огорчило многих. Здесь грезился новый Самотлор с мощными нефтяными фонтанами. В действительности же почти все новые скважины после бурения вводились механизированным способом. И себестоимость нефти была относительно высокой по тем меркам. Выйти на проектный максимальный уровень добычи (20 млн тонн нефти в год) не удалось. Оказалось, что запасы по Суторминскому месторождению были завышены на треть. Поэтому своего пика НГДУ «Суторминскнефть» достигло в 1989-1990 годах, добыв только 12 млн тонн нефти.
Но Минченко не нравилось, что муравленковцы всегда были на последних ролях. Он как-то спросил Виктора Городилова: «Почему наши жители не имеют права на равное с ноябрьцами отношение?» Ведь муравленковские нефтяники уже тогда добывали половину объемов добычи объединения. Этот вопрос потом задавали многие, не получая ответа. Не получил должной оценки труд людей, работающих в Муравленко. А ведь таких темпов разработки месторождения, какие были здесь, не было даже на Самотлоре. В связи с большими объемами бурения вводилось по 40-60 скважин в месяц, что давало значительный прирост добычи нефти. Именно в таких экстремальных условиях приобрели закалку, которая им позволяет сегодня решать стоящие перед ними задачи, многие известные в нашем городе люди.
Мастерами по добыче нефти в то время были: Михаил Ставский, Юрий Шульев, Михаил Кудинов, начальником нефтепромысла был Валерий Солнцев. Общие трудности объединяли людей, отсекали все лишнее, и те, кто прошел здесь стужу и лед, огонь и воду, приобрели силу на долгие годы. Многие не выдерживали темпа работ, неустроенности и уезжали. Не хватало инженеров. У ИТР в то время была низкая зарплата. Отрабатывали свое высшее образование люди разве что увлеченные, большинство уходило на рабочие места.
1985 год стал самым тяжелым годом, самым тяжелым этапом в становлении города. Как только отступил снег, был перекопан буквально весь поселок, как будто здесь готовились к круговой обороне: восстанавливали канализацию и водоводы, расширяли теплосети. Чтобы насытить город водой, летом 1985 года было пробурено много артезианских скважин в районе существующих котельных. Была пущена и новая котельная… Первый рейсовый автобус на Ноябрьск пошел в 1985 году, где-то ближе к зиме. Было создано муравленковское автотранспортное предприятие, и первые автобусы забегали по поселку… Тогда многое было впервые.
Не было телевидения. Минченко поставил задачу перед своими энергетиками, и те собрали мачту. Так у жителей Муравленко появилась возможность отдыха перед голубыми экранами. Музыкальная школа разместилась в жилом двухэтажном доме, который ему пришлось отобрать у украинских строителей волевым решением. Правда, те не сильно жалели о потере, поскольку понимали, что это надо детям. А потом пришлось помогать директору музыкальной школы Валентине Страбыкиной с мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами. Все ее пожелания были профинансированы. Хлебозавод начали строить также в 1985. Интересно, что на одном из совещаний первый заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности пообещал Александру Минченко поставить в город финскую трехтонную пекарню. К сожалению, обещание так и осталось невыполненным.
В то время НГДУ, имея свой расчетный счет, было действительным хозяином положения. Нефтяные деньги впрямую работали на город. Сегодня многое изменилось, и не все в лучшую сторону. Минченко больно и обидно, что НГДУ превратились в территориальные проекты. Оба муравленковских НГДУ низведены до уровня крупнейших цехов по добыче нефти. Он считает, что это очень плохо, когда первые руководители не владеют денежными ресурсами, необходимыми для решения стоящих перед ними задач. И почему руководителям таких крупных предприятий запрещено решать кадровые вопросы? Неужели генеральному директору из города Ноябрьска видней, какого работника нужно принять на работу здесь, в Муравленко?
После ухода с поста начальника НГДУ «Суторминскнефть» Минченко по приглашению уехал в Нягань. Месяц работал заместителем начальника НГДУ по производству, а потом три года – начальником. Он бы всю жизнь посвятил Северу, да вот жена… И они уехали в Краснодарский край, где Минченко стал директором фирмы, строящей коттеджи. У него самого дом неплохой, с большим садом, где в этом году вырос небывалый урожай винограда, больше, чем у соседей. Растут груши, яблоки, сливы. Они опадают и валяются на траве, на что их сын, когда приезжает, замечает: «На Север вас надо». А Минченко и сам бы хотел на Север…
(*актированные дни – это такие дни, когда из-за крайнего холода запрещаются работы на открытом воздухе).
Октябрь 1999