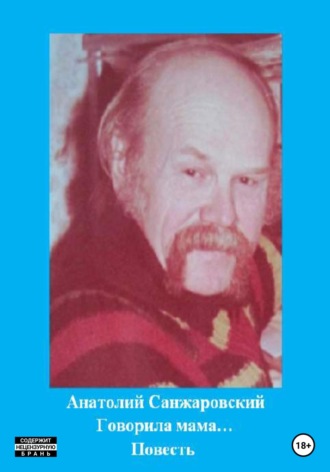
Анатолий Никифорович Санжаровский
Говорила мама…
Молитву и курица слышит
Маме кажется, что гостейку всё не так потчуют.
– Гриша, – тревожится она, – та шо ты напал на петухов? В них же мясо резинное! Зарубай хоть одну курицу!
Гриша сопит.
Больной маме не возрази. Слова поперёк не кинь. И согласиться он не разбегается. Каждый же день по петуху отстреливает! Два-три кило свежатинки на двоих! Сама мама мяса не ест. Не то что петуха, бульона в рот не вотрёшь!
Все дни, что я здесь, мама пристаёт к Григорию с курицей. И все дни он твердит одно:
– Да что в той Вашей курице?! На один зубок нечего возложить!
– Зато у курицы мясо мягкое та укусное. Тольке завтра ехать. А курица не рубана! Ты шо творишь, комиссар Топтыгин?
– Хоть всех перерублю! – вскипает Григорий.
Он бросает разминать в ведёрной кастрюле мешанку и бежит в сарай за топором.
Откуда ни возьмись с сарайной крыши с воплями вдруг пикирует тараном на него красным боевым снарядом пулярка.[80]
Такая гнусь!
Чтоб хохлатка напала на всеми почитаемого пана Григореску?!
Не хватало, чтоб ещё села на голову и принципиально клюнула в темечко?
На родном пепелище и курочка ж бьёт!
Ведёрный чугунный кулак-кувалда был при Григории. Он со всего маху залепил вражине по уху. Та и пошла винтом по сетчатой загородке.
Делать нечего. Рубить край надо!
Григорий топор в руку, курку в другую и, подбежав к торчавшей попиком колоде, с полузамаха отвалил воинственной психопатке голову.
Эта история воспотешила маму.
– То, Гриша, – заключила она, – так и должно було случиться. Я стилько тебя просила. Зарубай та зарубай! Моя молитва и до курицы дойшла. То щэ хороше, что напала одна. А ну налети все шестьдесят! Шо делал бы? Га? В прах бы заклевали нашего сердитого комиссара…
А в Москву я всё же повёз петуха.
1 сентября 1992
Отдохнул и – погреб вырыл, или Дать спасибо!
Вскоре после школы меня вкружило в журналистику, и весь оставшийся кусок жизни припало мне куковать вдалеке от своих.
А кто не давал прикопаться возле наших?
В Евдакове, куда мы переехали из Насакиралей, ходила газетёшка «Путь к победе». В народе её называли «Путь к горшку» или «Вокруг двора». А то ещё короче. «Брехаловка».
Потом перебрались наши в Нижнедевицк. Была и там газетка «Ленинский завет». С издёвкой навеличивали её «Ветхий ленинский завет».
Тоскливые районушки не грели меня.
Мне нужен был размах!
И почти полжизни прокрутился я в столичных газетах и журналах. Верх моих журналистских скаканий – три года проработал редактором в центральном аппарате Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС).
Каждое лето я приезжал к маме, к братьям Григорию и Дмитрию в гости.
Поначалу ездил один.
Потом, женившись, стал ездить вместе с женой.
На этот раз Галинка осталась в Москве с маленьким Гришиком. Я приехал погостить один.
Я до́ма. В Нижнедевицке.
У милой мамушки со старшим братиком Гришей.
Святые, великие дни…
Я приехал уже под вечер.
Отоспался по полной программе.
А наутро началось моё гостеванье.
Гостеванье – это ломовая работа.
Мама, брат уже при солидных годах. Прибаливают. Кто же им поможет, если не я, в ком силёшки ещё играют?
Выкопать картошку, нарубить на всю зиму дров, заготовить угля, под зиму вскопать у дома огородишко, починить погреб – всё это набегало перемолотить мне за время отдыха.
Не зря мама, провожая меня до автобуса, часто повинно казнилась:
– Извини нас, шо стилько пало тоби роботы. Отдыха и не побачив. У нас отдохнул – и погреб вырыл!.. Тяжкий у нас отдых…
Я переоделся в заводскую братову робу из брезента и ну рушить ветхий сарайчик. Порубил на дрова.
Вечер собрал всех за ужином.
– Гриша, – заговорила мама, – я все дни растеряла. Якый сёгодни дэнь?
– Четверг.
Минуты через две мама обращается уже ко мне:
– Толюшка! Я все дни растеряла. Якый же сёдни дэнь?
– Разве Вам Гриша не сказал?
– А у тебя уже и нельзя спросить? А вдруг Гриша ошибся? – И закашлялась. – Во! Шо цэ я ославилась кашлем? Зовсим опрокудилась… Не вспопашилась, как и… Нигде не выходила… Не обидно, если б за порог куда хоть на секунд выпнулась. А то сидючи в хате…
Мама ест яблоко и жалуется:
– Я яблоко не кусаю. А тираню-скребу… Биззуба… Еле доскребаю…
– Да бросьте Вы травмировать то несчастное яблоко! – Гриша подаёт ей чашку молока. – Вот Вам монька.
Мама замахала на него обеими руками:
– Ну ты на шо накачав повну чашку? Я и так уже почти намолотилась.
– С одного яблочка?.. Ешьте! Поправляйтесь!
– А я шо делаю? Тилько и ем… Та лежу… В хвори валяюсь… Вы, хлопцы, в работе кружитесь. А я лежу и лежу… Ничё не роблю, как коровя. Палкой меня надо гнать с койки в работу!
– Вы, ма, своё отработали, – на вздохе сказал Гриша. – Восемьдесят пять лет не восемьдесят пять реп! С помоями за дорогу не плеснёшь!
– Подумаешь… Аж страх осыпае… А я боевая бабка. Добежала до таких годов и не скапустилась!
– Ешьте побольше и пробежите дальше Хасанки![81] – хохотнул Гриша. – Счастливого пути! – смеясь, он прощально покивал маме одними пальчиками. – И на дорожку примите чашечку молочка.
Он поближе пододвинул к ней чашку с молоком.
– Молочко, Гриша, у меня не пропадэ… Тилько… Шо ж мы з тобой робымо? Я в хвори лежу. Ты посля операции… Слабкий щэ на ход… Задрыхленький… И тебя года бьють. Шесть десятков без году… Цэ, сыно, вжэ багато.
– Видите, я богатый. Так и Вы ж не бедные! Не горюйте. Всё образуется.
– К тому надо бежать…
Мама берёт крупный помидор.
Смотрит на соль в банке.
– Соль, як ледянка… Гарни помидоры у нас уродились… Прям сахарём усыпаны. Таки сладкие… Толька! А почём у вас хлеб?
– Я Вам уже десять раз говорил!
– Так то тилько десять… Ты не обижайся. Я трохи умниша була, як помолодче була… Так почём?
– Шестьсот рублей буханка. В два раза дороже, чем у Вас.
– Ка-ак цены возлетели! Когда-то буханка шла за шестнадцать копеюшек. Перевернулось всё кверх кармашками… С сентября знову подвышение цен…
– Поделали, – Гриша наступил мне на ногу с лёгкой подкруткой, – поделали хватократы-демократы из нас клоунов. Цены гонят и гонят без конца. Обдерут нас как липку и голенькими пустят в Африку…
Гриша вздыхает на улыбке.
– Ма! А Тольке надо дать спасибо! Сегодня сарайчик у дома сломал. Нарубил машину дров. Я только в ведре носил на погребку. На ползимы мы уже с дровушками! Так дадим спасибо?
– Та или мы жадни?! Дамо! Тилько… Одного спасибка малувато…
Мама надвое разрезает помидор.
Одну половинку посыпает крупной солью. Подаёт мне:
– На тоби, Толенька, помидора за хорошу роботу.
25 августа 1994. Четверг.
Катила мышка бочку
Вечер.
Культурно отдыхаем перед телевизором.
Гриша полулежит в кресле. Голова на спинке. Державно храпит.
И по временам, оглядываясь спросонку по сторонам, мужественно строит вид, что смотрит телевизор.
Я лежу на койке.
Пытаюсь всмотреться и вслушаться.
Да как ни всматривайся, кроме нервно дёргающихся белых полос ничего другого. Как ни вслушивайся, кроме дикого храпа ничего иного благородного не доносится до ушей.
Это не смотрины.
Это муки.
Принимаю я эти телемуки стоически.
Хочется посмотреть. Всё-таки про Зощенко. Сегодня ему стукнуло б сто, не дожми его усатая соввластюра в пятьдесят восьмом.
Вдруг послышался отдалённый глуховатый топот котов. Оглядываюсь и вижу: из-за иконки по верху угла серванта, проворно стуча хвостиком, как музыкальной палочкой, по святым объектам – четыре трёхлитровые банки со святой водой, мамино богатство, восемь поллитровок с русской (Гришины завоевания рынка) – вдруг сквозь этот святой строй со звоном пробегает мышь и грациозно пикирует на спинку дивана, на котором я имею честь спать.
Придиванилась, деловито понюхала воздух и весело побежала по гребню долгой диванной спинки, как полуголенькая нежно-розовая гимнасточка по бревну.
Я в изумлении чего-то вякнул. Разбудил Григория.
Он не обиделся. Напротив.
Бегущая мышка глянулась и ему.
И мы стали смотреть, что она нам покажет.
Только она ничего не показывала.
Знай себе бежала и бежала, бежала и бежала к телевизору.
Похоже, ей самой хотелось приобщиться к столичной культуре, посмотреть чего-нибудь интересненького да свеженького.
Наши дурацкие морды, видать, ей не нравились.
С серванта она прыгнула на тумбочку с телевизором.
Я думал, она остановится перед экраном и станет смотреть.
А она обежала телевизор по краю тумбочки и пристыла.
Эта титька тараканья будет смотреть телевизор сзади?
Ну да!
Как мы в детстве. На халяву набившись в совхозный насакиральский клубишко, скорей летели на сцену и влёжку рассыпались по полу у обратной стороны экрана, по-барски кинув босую ногу на ногу. Смотреть так фильмы было куда вкусней.
Забежала мышка за телевизор.
На том мы с нею и расстались.
Да не навек.
Среди ночи мы с Гришей проснулись.
Мышь что-то яростно катила. Гром стоял адовый.
– Кто дал право этой сучонке в ермолке нарушать наше законное право на восьмичасовой сон!? – зло, сквозь зубы поинтересовался Григорий. – Что она там катит?
– Может, бочку с порохом на тебя? – выразил я предположение и костью пальца постучал в пол.
Однако мышь не унялась. Ещё обстоятельней покатила к норке под икону, в святой угол, свою звончатую добычу.
Жаль, что лень не пускала нас из-под одеял.
Но всему приходит конец. И выбрыкам мышки. Может, она спрятала свою находку? На том и успокоилась?
Утром я нашёл у норки греческий орех, больше известный в народе как грецкий. Из самой Греции прикатила? Мышка разбежалась впихнуть его в норку. Он был крупней норки и не проходил. Тот-то она старалась, как сто китайцев. Всю ночь гремела.
– Всё-таки хорошо, что орех не пролез в норку, – пощёлкал Гриша пальцами. – И наше благосостояние не пострадало. А наоборот. Приросло стараниями мышки! Где мышка добыла этот орех? У нас же вроде не было орехов? Не было, так стало!
Гриша торжественно раздавил орех. Съел.
– Вот я и подзавтракал! – доложил он. – Сыт на весь день. Спасибо мышке!
– Чем выносить мышке благодарность с занесением в личное дело, лучше б дал хоть одно генеральное сражение этой нечисти.
– Да ну давал… Сбегал в санэпидстанцию, настучал на мышку. Санэпидстанция поставила мне на боевое дежурство целую горсть отравленных семечек…
– И ты их сам поклевал?
– Да нет. Поделился по-братски с мышками. Что интересно, посыпал – ещё сильней забéгали!
– Значит, надёжно подкормил.
– А как иначе? Свою живность надо беречь! По нашей бедности у нас в хозяйстве не только мышь, но и таракан – скотина!
– Ну-ну… Семечки не остались? Или все сам дохлопал?
– Да есть ещё. Могу и тебе дать.
Я посыпал у самой норки.
Ночью мы спали спокойно.
То ли мышка упокоилась. То ли мы за день так наломались – я на картошке, Гриша в стирке, – что не слышали её похождений. Я склоняюсь ко второму.
29 августа 1994. Понедельник.
И гарбуза хочется, и батька жалко
Рань.
Солнце ещё не проснулось.
Чтобы не разбудить маму и болящего Григория, на цыпочках крадусь в переднюю комнатёшку, где и кухня, и обеденный стол, и ведро с водой на табуретке, и умывальник, и чуть в глубине мама лежит на койке за печкой.
Тихонько умываюсь над ведром.
– Ну шо, сынок, подъём?
– Отбой. Чего вскакивать спозарани?
– Как спалось на новом месте?
– Да как… Обычно. Закрыл глазки и спал.
На электроплитке – она на обеденном столе – разогреваю вчерашний суп, вчерашнюю жареную картошку.
Мама пристально смотрит из-под одеяла, как я быстро ем, смотрит, смотрит, и слёзы задрожали на глазах.
– Вы чего, ма?
– Ну это видано? Приихав у гости. А набежало одному убирать картохи… Одному в поле на лопате качаться… Вся работа на твои руки пала. А мы сидимо, як кольчужки. Я, як коровя, ничё не роблю. И Гриша посля операции нипочём не очухаеться… От горечко насунулось…
Я кидаю в целлофановый пакет кусок сыра, краюху хлеба, два яйца, с десяток слив, только что подобрал в палисадничке под окном, три белых налива в чёрных пятнах.
Полевой княжев обед!
Сборы кончены.
Мешки под прищепкой на багажнике. Можно и в путь.
– Ну, сынок-золотко, подай Бог тоби счастья, здоровья! – сквозь слёзы твердит мама каждое утро одну и ту же приговорку, когда я уезжаю в поле.
Глядь – я в домашних синих Гришиных тапочках.
Я переобулся в калоши, прыг на велик и покатил.
Десять соток нашей картошки далеко в поле. Под самым Першином. Туда дорога всё чаще в горку.
С переменным успехом я то еду, то сам веду педальный мерседес.
Гришин костоятряс «Урал» какой-то с припёком. Тяжёл в ходу. И всё время тянет куда-то в сторону. Еле удерживаешь. Что за дикость?
В первый день я убрал двенадцать рядков.
На второй чуть больше.
Я слегка загрустил.
Да если я буду убирать такими стахановскими темпами, я и в декаду не вотрусь!
Завтра ты кладёшь на лопатки пятьдесят рядков!
Старый метод копки кидай на свалку истории!
То я как убирал?
Сунул лопатку под корень. Перевернул. Лопату в сторону, выбираю интеллигентно. Не спеша, обстоятельно.
Теперь я отвожу намеченный фронт работ.
Пятьдесят рядков!
Отсёк себе танцплощадку и скачи на радостях. Выкопай сразу все пятьдесят. Только потом начинай выбирать. Пока не уберёшь, ни шагу к дому! Хоть до полуночи пляши на карачках!
Сначала я выкапываю с краю первые гнёзда в каждом из пятидесяти рядков…
Завидно смотреть по сторонам.
Люди убирают под соху. Лошадка выпахала, осталось подобрать.
И подбирают не по одному, а целыми ордами!
В полдня картошка перебралась из земли на машину и гордой княжной отбыла отдыхать на курорт. В прохладный сухой погреб.
И опустели соседние делянки.
А ты один катайся, катайся на лопате…
Солнце какое-то очумело злое.
Варишься в поту. Усталость переламывает тебя надвое. А кататься не бросаешь и на минуту. Край понравилось дураку лбом орехи щёлкать.
Ворочать одному рядок за рядком тоскливо и медленно. Нельзя ли побыстрей? А что если выкопать весь сорок девятый? На целый же рядок останется меньше!
Или чего не вскопать поперёк последний рядок? Тогда в каждом рядке меньше останется гнёзд, всего по семнадцать. А было по восемнадцать. Всё-таки семнадцать меньше восемнадцати. Это вакурат подтверждается долгими выверенными подсчётами…
В конце концов, как ни хитрил, а всю сегодняшнюю танцплощадку перевернул кверх корнем.
Бело поблёскивает на солнцепёке картофельная братия.
Я и не ожидал от себя такой прыти. Выкопал экую махину и не испустил гордый дух.
Раз живой, покувыркаемся дальше.
Поесть жало давно. Но я всё ещё не ел.
Заработай!
Как выкопаю намеченное, так и поем.
Заодно первый разок и отдохну.
Как ни трудно, доскрёбся-таки до поедухи.
Раскинул фуфайку по траве на краю рва, опустошил пакет и сверх того минуты три полежал в роскоши, раскидав по сторонам беззаботные руки-ноги.
Гулять так гулять!
То с колен, то сидя подобрал последнюю картошку уже в молодых сумерках.
Набежало шесть мешков.
Как же я их уволоку? Пускай и напару с веселопедом?
А вел у меня с норовом.
Любит, чтоб ему кланялись. Чтоб перед ним приседали.
– Видишь, – толкую велосипеду, – чтоб тебе легче было, три мешка я спрячу в бурьян. Всё равно ты больше не увезёшь?
Он молчит.
Я затащил три мешка в заросли за межой.
Рядом с нами дали полоску одному. Поганых глаз он сюда и разу не показал. Выросло чёрт те что выше моей лысины.
Я зажал веселопедов хвост коленками, лажусь вспереть беременный чувал на багажник.
Веселопед нервно дёрнулся от меня и завалился.
– Хамлюга ты приличный! День же деньской спал на солнышке! И опять на боковую?! Домой поедем или тут заночуем?
Молчит.
Я подпихнул палку ему под сиденье.
Стоит как миленький. Не брыкается.
Покидал я мешки, и тяжело повёз.
Со зла он кряхтит.
Но везёт под мудрым моим руководством.
Я бреду-упираюсь рядом. Трудно держу норовистого за рога.
Дорога полилась с горки.
Я изловчился, сел между мешками.
Он сердито потащил.
Даже ветерок у ушей просыпался.
Я на тормоза.
Щелчок.
Или я солидола во втулку слишком напихал?
Я снова на тормоза.
И опять щелчок.
А он тащит всё наглей.
Ну ёпера!
Что было силы, сжал твёрдо руль, нажал ногой на бок передней шины. Не знаю, как и остановил.
– Бандюга с чёрной дороги! Что у тебя с тормозами-мозгами? Убить же мог! Больше я на тебя не сяду!
Он скрипнул:
«Большой печали не будет».
Бредём потихоньку напару. Смирно молчим.
Надоели друг дружке.
Как вдруг новая напасть. Свалился верхний мешок.
Один был на раме, два на багажнике.
Верхний и рухни бугром наземь.
– Или ты спятил? – дёргаю за хохолок чувал. – Кто подсадит тебя на верхотуру? Лежал бы себе и лежал. Так нет, край ему валиться!
Стою посреди угрюмой ночной степи и ума себе не дам.
Ну как я его взопру?
Одной рукой держу велосипед.
Другой пробую поднять мешок.
Слабо.
Рука болит в локте, силы никакой. И такое чувство, будто она у меня вот-вот отвалится. До того налило усталости.
Кто бы помог?
Нигде ни души.
Только в низине-яме какие-то покорные, смирные нижнедевицкие огни.
Невероятным усилием я всё-таки встащил мешок одной больной рукой.
И медленней черепахи пополз по ночи дальше.
Больше всего я боялся уронить мешок снова.
Ненароком подобралась компания. За веселопедом смотри, за мешками смотри.
Эти друзья готовы в любую минуту свалиться и заночевать в степной канаве.
Ночёвка в канаве им не улыбается, и велосипед норовит удрать от тебя. С горки тянет слоном. Не удержать. В гору же упирается опять, как слон.
Еле-еле пихаю.
С грехом пополам дотолкал я велосипед до нашей калитки. Чтобы открыть её, хотел я на минутку прислонить велосипед к загородке и тут мешки с веселопедом повалились набок. До того я с этой компанией наломался, что усталость приварила руки к рулю, я не мог быстро разжать пальцы, ладясь хоть как-то подправить картинку, и скандально рухнул наземь вместе со всей этой шатией.
Гриша с мамой все видели в окно.
Трудно подошёл братка и жалконько, по-старчески помог мне подняться.
– Проклятуха картошка! – буркнул он. – И бросить жаль. Столько трудов вбурхали! Не знаешь, почём будет на базаре. А то б дешевле прикупить. И жалко на твои муки смотреть… А помочь я тебе не могу… Чувствую, слабый, хилкой на ход. Впервые в жизни не могу я свою картошку сам убрать… – И бессильно хохотнул: – И гарбуза хочется, и батька жалко.
– Что за притча?
– От мамы слышал.
Мы стали вместе перетаскивать мешки в сарай.
– Прижимистый батяня, – рассказывал Гриша, – купил крохотульку арбуз. И режет за столом. Это матери. Это старшей донечке. Это младшенькой… Это… По кругу пришла очередь отца. Но кусок был последний. А за отцом сидел ещё единственный сын. Отец со вздохом отдал свою долю сыну. И тут сын горько заплакал. «Ты чего плачешь?» – всполошилась мать. – «И як же мне, мамо, не плакать? И гарбуза хочется, и батька жалко…»
За вечерей Гриша поторапливал маму:
– Работайте, ма! Работайте! Чего ложку положили?
– Та я вжэ картохи не хочу. Я яблоко… Поскребу трошки…
– Ну, скребите, скребите, – разрешает Гриша. – А ты, – поворачивается он ко мне, – что накопал, то и привёз?
– Да, – соврал я.
– Если когда придётся оставлять там, в бурьяне, то не оставляй в мешках. Врассыпку оставляй. Вдруг кто нечаянно набредёт… Не унесёт… Ну, в карманы напихает… Вот и всё всепланетное горе…
Совет выслушать не возбраняется.
Только поступай по-своему.
– Да кто там набредёт? Ночь. Разве что космонавты из ракеты увидят? Ну станут ли они размениваться на твой мешок?
– Люди в степи не постесняются, – уклончиво пробормотал он. – Я тебе не писал… Если б ты знал, что я после операции не смогу убрать картошку, ты б не сунулся в эту каторгу?
– Напротив. Обязательно б приехал! Сколько живу отдельно от вас, каждое лето приезжал навещать. А тут приехал бы на больший срок, чтоб всё поделать по дому.
Он хмыкнул и замолк.
Слышно лишь было, как на электроплитке уныло закипал чайник.
– Это тебе для мини-сандуновской бани! – показал Гриша на чайник.
Перед сном мама вышла посидеть на лавочке у окна под каштаном. А я тем временем выкупался в корыте. Поливал себя изо рта.
На следующий день я одолел ещё пятьдесят рядков.
– Всё! Завтра не пойдёшь на картошку, – объявил Гриша. – Получаешь льготу на отдых.
– Солнце. А я задери кособланки[82] и дрыхни? А ну послезавтра дождяра вжарит? Дожму картошку. А там на отдых посмотрим.
Тут я включаю «Новости» и слышу: завтра в Чернозёмье дождь.
Во мне всё заныло.
Три мешка в бурьяне и выкопанную, но не собранную картошку на двадцати рядках будет купать дождюха? И так в этом году картошка плохая. Спасибо Гришиному другу Валере Котлярову. Божьей милостью дружбан прополол, когда Гриша лежал в Воронеже. И эти остатки кинуть? А ну дождища разбежится полоскать до двенадцатого сентября, когда я должен уже ехать? Билет-то на руках…
Ночью мне приснилось, как рекой лило с крыши.
Проснулся я в половине седьмого.
Дорога под окном сухо стекленела.
Я обрадовался.
На пальчиках выкрался из засыпухи. Никто не проснулся.
Я скок на велик и в поле.
Надо мной брюхато провисало облако.
Вдали стоял то ли тугой туман, то ли уже полоскал дождь.
Была сильная роса. День-плакальщик. Утренняя роса – добрая слеза: ею лес умывается, с ночкой прощается.
В Першине не вилось ни дымка. Иной колхозничек, этот горький чёрный коммунар, проснётся о-го-го когда и долго будет очумело метаться из калитки в калитку, ища, где бы на халяву врезаться в жестокий опохмелон. С семнадцатого года никак не опохмелится. Где уж тут до работы?
Что смогут, уберут с полей горожане и школьники-студенты с горячим участием военных. А на тоскливый хлеб ему дуриком отвалит кремлёвский дядя буляляка.[83]
Сбросил я с одного мешка траву. Из дырки в мешке выскочила мышь. Нашла где тёплую хатку!
В восемь я был уже дома с родной картошкой.
Говорю своим:
– Я дверь оставил незапертой. Вас тут не покрали? Все в полном составе?
– В полном! – в присмешке подтверждает Гриша.
Быстро позавтракав, я снова дунул в поле.
Осталось собрать с двадцати рядков. Да выкопать ещё со ста пятидесяти пяти. Раз плюнуть!
Выкопал рядков десять – сломалась лопата!
Даже железо не вынесло моего энтузиазизма!
Поскакал я напару с велосипедом по ближним делянкам. Ни у кого нет запасной лопаты. Пожимают лишь плечишками:
– Мы под лошадку убирам!
Подобрал я выкопанную картошку и домой.
Хоть тормоза и не держат, но если тормозить осторожненько, нерезко, то ехать можно. До первой аварии.
На спуске имени товарища Бучнева – это невропатолог районной поликлиники, вымахал юртищу в два этажа у речонки Девицы, – тормоза мне твёрдо отказали.
А навстречу грузовики, сзади кучка легковиков.
Народу везде невпроскок…
И с половины спуска я чудом сумел вырулить перед носом у камаза в отбегавший в сторону от дороги затравянелый проулок и потому, наверное, могу сейчас всё это писать.
Докопал я остаточки.
Глянул окрест.
Мне стало грустно.
По чём я грустил? По чёрному полю, которое больше не увижу? По километровому колхозному стогу соломы, который гнил по тот бок рва и в прошлом году, и в позапрошлом?
Я поболтался по рву, надёргал полсумки шиповника.
Возьму в Москву сыновца отпаивать.
Привёз я последние три мешка.
Мама с Гришей в грусти сидели на лавочке под окном.
– Ну, сынок, – виновато проронила мама, – большое тебе спасибо! Вырыть картошку – это языком легко. А руками надо землю ворочать. Одному убрать всю нашу картоху – всё равно что шилом вырыть погреб… Цэ яки труды?.. А картоха там чиста, как орехи! Дай Бог тебе счастья, здоровья… Картошка – всё богатство наше. Спасибко, сынок-розочка…
– У-у-у! – хохотнул в довольстве Гриша. – По части спасиба мы не жаднюги. Сломал ты птичий сарайчик – спасибо! Нарубил дров на всю зимку – спасибко! Выкопал, выхватил из земли картошку – спасибушко! Вишь, сколько спасибов надавали? Вагон и большую тележку! Мы этими спасибами тебе шею уже перетёрли! А если по большому счёту, с тебя, браток, магарыч. Если ты убрал нам нашу картошку, то, думаешь, мы платим? Не-е… Платишь ты! По Москве безработица. А мы тебе – работёху до поту! Неслыханную заботу отвалили о твоём дорогом здоровьишке! Нашармака отсвинярили тебе целый царский склад здоровья! Ты приехал бледный, слабей комара. А на нашем огороде, на нашем свежайшем воздухе какую мускулатуру наел! – Он ударил ребром ладони по верху моей руки. – Гири накачал! На лице зарисовалась крутая краска. Лопата кровь разогнала. Королевское здоровье налицо! И всё добыто нашими стараниями. Врубинштейн? Ну разве грех за это нам дёрнуть с тебя магарыч?
31 августа 1994. Среда.







