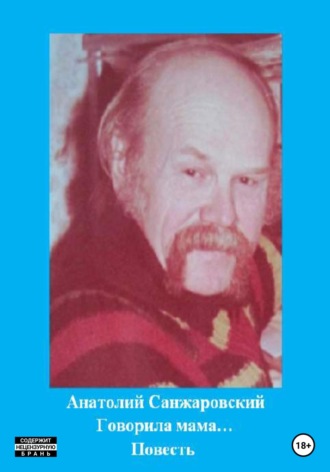
Анатолий Никифорович Санжаровский
Говорила мама…
Слушай сюда. Я тебе устно скажу
Утром мама внесла с огорода помидорную веточку.
– Не попадэшь, шо оно и творится… Там иля где морозяка учесал?.. Холодюга!.. Ой-оеньки… То листья на помидорах висели. А то стоять дыбарём. Як коляки! На, глянь.
Я взял веточку. Стылые закаменелые листья как-то оцепенело топорщились в стороны.
– Насунуло кругом. Должно, дождь возьмётся навспрашки полоскать, – добавила мама тихо, боясь разбудить на полу Гришу. – Спыть наш герой-генерал. Хай поспыть…
– Хай! Хай! – подал голос Гриша. – Все дни как конь занузданный… Будто штамп на лбу: паши, паши, паши, саврасушка! А сегодня я барин. Хочу, полежу хоть час, хоть до ночной смены и ни одна бяка в меня пальцем не шильнёт!
Мама грустно постояла у окна на кухне, потом вошла в комнату к Грише, откинула занавеску. Усмехнулась:
– О дела! В соседнем дворе бабка с дедом разодрались… Иль печку на зиму делят?.. Да-а… К снегу едем… В одном окне сонце. В другом дождь схватился с крупой хлобыстать… Листьё на дереве не держится… Летит… Листопадник последний гриб растит… Да… Ненастное бабье лето – погожая осень будэ. Сонце щэ погреет…
– В сентябре? Говорят, трудолюбцы япошики сажнем точно измерили Солнце. Его диаметр 1392020 километров. Диаметр Земли – 12757 километров. Солнце в 110 раз больше Земли. А толком согревает Землю только летом…
Скорбная моя статистика припечалила-таки маму, и она, вздохнув, тихонько побрела в сенцы к газовой плите.
Гриша игриво поманил меня к себе пальцем:
– Слушай, пане, сюда, что я тебе устно скажу… А ловко мы… Разными дорожками скакали с тобой вчера ночью. Вы с Мацневым покатили с огорода вниз. А мы с Востриком подъезжали сверху. Видели ваш хвост… Всё до картошеньки в погребе! Ай да мы! Ай да мы! Налетел холод уже утром. И что нам с того? Никакие морозы нам теперь не указ. Наша барынька Картошечка с комфортом переехала на зимнее житие в погреб!!! В свои царские покои… Могу я до самой смены спать?
– Можешь.
7 сентября 1991
Батько
В полночь позвонил старший брат Дмитрий.
– Толик! Приезжай. С матерью плохо.
– У меня сыну нет месяца. Сейчас он с Галей в больнице. Но я приеду.
Галинка выставила условие:
– Ехать всю ночь. Отпускаю в том случае, если возьмёшь в вагоне постель.
– За двадцать пять? Когда-то ж стоила рублёху всего… За двадцать пять я хорошо высплюсь на откидном столике. Кепку под умнявую головку и дави хорька…[72]
Постель стоила двенадцать. Я немного поколебался. Пожалел себя и взял.
Уже в Воронеже в аптеке у вокзала купил ундевида, аминалона. Всё не с пустыми руками…
Я вошёл.
Мамина койка в прихожей у печки пуста.
Гриша в своей комнате торчит растерянным столбом.
– Привет, начальник, – вяло промямлил я.
Мы молча обнялись.
– Где мама?
– В больнице… Только что я оттуда. Положили. Надо своё полотенце, свою ложку, свою миску, свою кружку, свой стакан. Сейчас понесём.
– Как она себя чувствует?
– Туго… И как получилось… В пятницу встала весёлая. Говорит, будем суп-воду готовить. Начала резать лук. Я побежал, – он посмотрел в окно на сарай напротив, – я побежал в куриный кабинет подкормить кур. Прихожу. Она расшибленно крутится вокруг себя, опало бормочет: «Как же так оно получилось, что пропала память?..» Я спрашиваю: что Вы ищете? Оказывается, нож. Уронила. И пальцем стучит по луковице. Режет пальцем… Я испугался. Уложил её и позвал соседку Шурочку. Она медсестра. «Шур, иди на секунду. Посмотри на мать». – «Или лечить я стану?» – «Лечить не надо. Ты просто войди. Как она среагирует на постороннего человека?» Шура вошла. Мама забеспокоилась. На локте привстала на койке: «Вы что хотите со мной делать?» – «Да ничего мы с тобой, бабушка, не собираемся делать… Брёвна раскатились. Прибегла Гришу дозвать, чтоб собрать помог». Шура ушла. Я вызвал скорую. Скорая сказала, надо на приём к невропатологу. А уже ночь. Мама молчит. А вдруг что случится? Ты всегда наказывал: звони в тяжёлых случаях. Как знаешь, телефона у меня нет. Я к Мите. Митя и позвони тебе. А когда он пришёл, мама его не узнала. Минут десять не узнавала. Оно и неново. Хоть Митя в своих хоромах и живёт-княжит в ста шагах от нас, а к нам редко заскакивает… В субботу невропатолога не было. Вызвали в Острянку. В понедельник собираемся в поликлинику. Вон, – ткнул он рукой в окошко, – на наших задах. Говорю, давай отвезу. Нет! Пошли пешком! Я упросил очередь разрешить пройти нам сразу. Так мама упирается: «Не! Люди прийшли под перёд нас. Да як это мы пойдём зараньше всех?» Вот какая у нас мамушка. В очередь! А сама на ногах еле держится. Ей же уже восемьдесят два! Врач Белозёрцев увидал её – кладём!
Бочком мы вжались к маме в тесную четыреста четырнадцатую палату. Её койка у двери.
Меня мама узнала сразу.
Я поклонился, поцеловал её.
И мама загоревала:
– Толенька, сынок-розочка, приихав… А я барыней царюю в больнице! Это дела? Така беда скрутилась, така беда… Ну шо поделаешь? Беда на всякого живёт… Толька, ты теперь батько?
– Батько? – не сразу сообразил я.
– Ну что ж он, маленький, робэ? Ростэ хоть чуть-чуть?
– Баклуши не сбивает! Некогда! Знай растёт колокольчик наш с шелковистыми русыми волосами!
– Хай ростэ великим! Хороше вы его назвали… Гриша…
– В честь этого дорогого товарисча, – пожал я Грише локоть. – Мы своего маленького ещё ни разу не снимали на карточку. Поэтому я привёз показать Вам метрику нашего Гришика. Нате посмотрите.
Мама тихонько погладила метрику. Прошептала:
– Хай ростэ великим!..
Мы стали выкладывать, что принесли, и выбежало, мы с Гришей забыли взять кружку и миску.
Я сбегал принёс.
– Гриша, – сказала мама, – не сидите голодняком. Зарубайте петуха.
– Сегодня же отсобачу Вашему петрунчику башню! – на вспыхе пламенно пальнул Григорий.
А мама, вздохнув, запечалилась:
– Как же так беда случилась?.. Человек полный день невменяемый!
Потом она заговорила неясно.
Слова вязкие, непонятные.
Я поддакивал и боялся смотреть ей в лицо.
Дома мы с Гришей сварили петуха.
Банку с горячим бульоном я укутал в полотенце, сунул под полу плаща – шёл дождь – и побежал к маме.
Есть она не стала. Говорит, не хочется.
– Мам, – спросил я осторожно, – а что у Вас болит?
– Голова. Одна сторона, левая, молчит. А другая, – приложила руку к правому виску, – лаеться…
Я по все дни ходил к маме, пока её не выписали из больницы.
Июнь-июль 1992
Банда
Взовсим, сынок, дни утеряла. Ну раз головешка, – пальцем мама стучит себя по лбу, – не робэ! Сёгодни шо будэ?
– Четверг.
– Совсем в словах запутлялась… И в словах, и в годах… Воспоминается… Горбачёв людей размотал.
А теперь кочуе по заграничью… Какие мы у них рабы… Той проклятущий чай… Вскакувалы летом вдосвита у четыре и в устали приползали домой не знай когда. Когда того погибельного, каторжанского чая уже не видать. В одиннадцатом часу ночи! И… Тилько первый свет подал день в окно, знову вскакуй…
– Помню, помню преотлично то проклятое рабское времечко… – припечалился я. – Как же Вы допекали по воскресеньям… Темь на дворе. А Вы будите… Да как! Вырывали подушку из-под головы, молили со слезами в голосе: «Уставай, сынок… То не сон, як шапку в головах шукають…». Я сел на койке, протираю кулаками глаза. Вы: «Просыпайся скоришь. На выходной бригадир припас гарный участок. Постараемось, нарвэмо богато чаю. Шо, гляди, и заробымо…». – «Ну… Вырвали подушку… Шапку-то нашли?» – «Найшла! Просыпайся, просыпайся, шапочка… Лева ножка, права ножка просыпайся понемножку…».
Мама повинно тихонько улыбнулась мне:
– Прости, сыно, за те давни проклятущи утрешни побудки…
– Да при чём тут Вы!? То не Вы, мам… То нищета будила!
– Оно-то так… По семнадцать часов у кажный день гнулись раком на том проклятом чаю! Без выходных… Жара под сорок… То дожди… Все твои… С плантации не уйди… Клеёнкой обмоталась и рви той чай… Разве то жизня? Рабская каторга… На минуту с чем в хате завозюкаешься – бригадир бах палкой в окно: Полиа! Аба бэгом на чай!.. Цэ людская живуха? То и пожили по-людски, шо до колхоза… Летять года… Летять… Не остановишь и на секунд. Ну это надо? Налетела целая чёрная шайка коршунов. Восемь десятков да ещё два! Целая банда. И как же они меня мучат. И шо я одна-то сделаю с этой злой бандой? От своих годов не убежишь… Их не отгонишь от себя… Снежком не прикроешь… Боюсь я их. Голова не свалилась бы… Мно-ого годов ко мне содвинулось. Но никто не видел, как они днями и ночами шли-летели ко мне… Только мелькают зима – лето, зима – лето…
– А поют, мои года – моё богатство.
– Да петь шо хошь можно. А года – это полный разор. И чем большь их, тем звероватей они. Ну шо ж… Старое вянет, молодое на подходе… У маленького малютки Гриши личико худенькое или полненькое?
– По-олненькое.
– Молочко пье живое? А не то, шо с завода? Гнатое-перегнатое?[73]
– Со своим молочком не получилось… Тут история темноватая… Рожала Галинка в первомайские праздники. Роддомовские коновальцы с перепою сразу запретили кормить грудью. А потом выяснилось, напрасно запретили. Да поздно уже было. Молоко пропало… Вот она наша бесценная бесплатная медицина… Тот-то мы и кормим парня смесью Nan.
– Это той, в банках? Как молоко или чуть получше? Ребёнку плохэ не дадуть… Он у вас в кроватке спит? А как подрастёт, где будэ спать?
– Кроватку растянем.
– Ещё не бегает?
– Тренируется.
– Не ленится расти?
– Да вроде старается…
– Хай с Богом ростэ. И подальше туда. Подальше от моих годов…
– Он у нас крепенькой.
– Цэ самое главное. Здоровье – всё золото наше! Здоровье никто нигде не подаст за твои же денежки. Здоровьюшко не украдёшь, не найдёшь и не купишь.
27 августа 1992
Не спеши!
Что я знаю, то знаю, а чего не знаю – того и знать не хочу!
Алексей Аракчеев
Гриша решительно объявил мне:
– Всё! Я намылился привести тётку!
Я кисло отмахнулся:
– Кончай ездить по ушам! Мы это уже не раз проходили…
– Плохо, сударь, проходили! Амбец! Женюсь!
– По случаю високосного года?
– Случай другой… Пока глупость мне воевода… Похоже, завис[74] я… Женюсь!
– Хочешь новых проблем – женись! Однако веселей будет. Давно пора. Наконец-то… Куда не едешь, там не будешь. Куй железо, пока не остыло. Шашку наголо тебе в руку и горячего боевого коня в придачу!
– И куда мне лететь с шашкой на коне?
– Ка-ак куда? На завоевание сердца целинки!
– И конь не нужен, и шашкой махать не к чему. В соседнем же бараке кукует.
– Опа-на! Расшибец![75] Глядишь, сораторите ребёночка-молоточка, эту совместную пылкую божественную баркаролу на праздничную вольную тему, и покуривай себе бамбук![76]
– А мы, что интересно, берём уже с готовеньким… Чтоб потом не обливаться потом при давке блох.
– Расшибец в квадрате! Не так уж и плохи дела в нашем орденоносном колхозе! Полдела скачано! Но… Ты заранее подумал о его пропитании? – Я деловито посмотрел в окно. – Не похоже… Не вижу ни одного вагончика, ни одного огурчика…
– Ты чё лалакаешь? Какие ещё вагончики? Какие огурчики?
– Обыкновенные! По подсчётам британских учёных, за свою жизнь человек съедает до сорока тонн продуктов, включая 3201 огурец и восемь пауков. Пауками человек харчится во сне. Как учёные всё это обосновали? Уму недостижимо.
– Хватит крутить ламбаду! Ну совсем замумукался я с этим своим сералем. «Мало того что годы летят, словно птицы, так они ещё гадят и гадят нам на голову!» Огороды на мне. Готовка… Вечный неустрой… Мама часто болеет… Недосып. На мне ж все собаки! Всё делал. Ничего из рук не вырывалось! Мозоли, как у гориллы… Да сколько можно? Крутишься ж, как шизокрылый вентилятор! «Ни одна собака не поверит, что наша жизнь собачья»! Надоело. Женюсь!
– А она бить с крыла[77] не будэ нас обох? – забеспокоилась мама. – С капризной же начинкой. Привередливой бабе и в раю плохо, и в аду холодно.
– Товсту та гарну выбрал? – спросил я на мамин лад.
– А чё её выбирать? Не корова… Средняя так… Не страхозявра какая там в скафандре… Путёвая… Лет сорока… Начитанность[78] и образованность[79] на уровне моего уважаемого евростандарта. Только уж чересчур простяшка… Ну ни воровать, ни караулить…
– Там здорова, як мурлука! – пожаловалась мама. – Не знаю, шо в ней Григорий и раскопал… Прямо бугаиха… На всё время бувае. Когда цветок цветёт вовремя – хорошо. А как цветёт не в своё время – он уже отцвёл. Отделался. Отбалакался.
– Когда ж, пан Григореску, свадебка? – копаю я в глубь радости.
– А вот спешить как раз и не надо! Всё в своё время.
– Ну-ну… Всё стукаешься головой об небо… Плохому танцору мешают ноги… Сколько можно бегать по одним и тем же граблям? Ну когда ты кончишь переливать эту сладкую водичку из пустого в порожнее? Или ты совсем не дружишь со своей головой? Подумал бы, сколько тебе лет… Чего ждёшь?
– Не чего… А кого. Подожду ещё трёх чеховских сестричек. Где они плутают? Помнишь, в конце пьесы сестрички хором стонали: «В Москву! В Москву!». Слышал даве по радио, в 1926 году пьесу «Три сестры» поставили в Лондоне. Англичане будто не слыхали слова Москва и не знали, куда просились сестрички, и сестринский призыв заменили на свой, родной: «В Лондон! В Лондон!» Так куда ушуршали сестрицы? В Москву? В Лондон?
– А может, в Нижнедевицк? Персонально к тебе? Три невесты! Выбирай, пан Григореску!
– И я о том же. За мною не прокиснет.
– Ну братуля-уля-люля! Да тебя ж женить всё равно что шелудивого порося стричь! Визгу много, а шерсть-то где?
27 августа 1992
Мамин платок
Мама лежит в кухоньке у печки на своей койке. Печка – божья ладонь. Даёт и тепло, и еду. Печь в доме Госпожа-а…
Я сижу на краю койки у мамы в ногах.
Перед нею на полном мешке с сухарями платок из козьего пуха.
– Ма! А что Вы с платком делаете?
– Да дуриком валяется себе… Мы с ним на пензии. Отдыхаемо напару… Шоб мне скушно нэ було… Он у нас тяжелоранетый. Увесь на дырках. Мыши попрогрызали.
– Он бы нам сгодился. Гринчику для прогулок.
– А шо? Завяжи маленького, положи в коляску и гуляй. Дырки нитками позаплутать… Я с Григорием побалакаю… Гри-иша! – крикнула она в комнату за жёлтыми шторами в дверном проёме, где вечерами Григорий смотрит телевизор и одновременно спит. В комплексе. Господин Универсалкин наш!
Григорий выглянул из-за шторки.
– Григорий свет Батькович! Цэй платок трэба аннулировать. Хай в нём малэнький Гриша гуляе по Москви!
– А большому Грише в Нижнедевицке уже и дышать не надо?! У меня ж радикулитище! Как закрутит спина, я натру спиртом и хоп в платок. Два дня поношу и зверюга боль отбывает на покой. Оставить большого Гришу без платка… Да Вы что?
– Ха! – щёлкнул я себя ногтем в ладошку. – Я тоже как-то выбился в радикулитики. Шерстяной платок таскал под поясом. Побежал к врачуну. А он: «Ты чего маешься дурью? У тебя свой кулак с собой? Не потерял?» – «Пока без потерь». – «Растирай и пройдёт». И помог я себе кулаком. А у тебя кулака нету?
– Нету! – рубнул Григорий.
– Так на мой! – в подсмехе мама подаёт свой сухонький кулачок, сине перевязанный жилками.
– Оставь себе, бабунюшка. В хозяйстве сгодится.
Сердитый Гриша уходит во двор.
А мама в шутку грозит ему в спину кулачком:
– Мы тоби, генерал, дамо прочуханки!
Мама трудно поднимается, тихонько идёт в Гришину комнату, к шкафу, и возвращается с клубком шерстяных ниток.
– Оюшки! Малюсенькому на носочки хватэ! Если б я не лежала, я б и… Пух есть. С козы Гальки… Есть из чего вязать. Я б сделала. Да здоровье мое бастуе. Голова совсем сама в отставку ушла… Даст Бог, подлечимся. Голову надо держать. Без головы не будешь работать.
Она подала мне клубок и тут же забрала:
– Дай я перекрестю.
Крестит и шепчет.
Всех слов я не разберу.
– … дай Бог ему счастья и здоровья на далёких дорогах его жизни, во всех его работах… Помоги и спаси нас, Господи, грешных… Постой, я встану, начну ходить. Шо-нэбудь придумаю…
Она долго молчит и роняет, ни к кому не обращаясь:
– А мне наша завалюшка наравится. Притерпелась…
– Как могут нравиться эти блошиные хоромы? Тесно. Всё гнилое… Вы ж не видели, как люди живут.
– Где ж я жила? Шо я бачила? Восемь десятков лет не то прожила, не то промучилась… Не то проплакала, не то пробедовала. Не знаю, где я и була восемьдесят лет…
– Как Вы рассказывали, сколько себя помните, столько и работаете каторжно…
– Да. Без труда не выхватишь и рыбку из пруда. А ловить трэба кажный божечкин день.
– Ма! У Вас полипы в желудке. Это с голода. Вы едите часто?
– Часто. Кажную неделю.
– Запоры бывают?
– Бувають.
– Простоквашку пейте по утрам.
Я подогрел ей стакан простокваши из холодильника.
Она выпила.
– А не простоквашу, так масло пейте растительное.
– А где возьмёшь то масло? Уже год его у нас в магайзине нэма… Ноги болять…
– А чего им не болеть? По цементу ходите в одних шерстяных носках. Далеко ли тут до простуды? А за диваном валяется целый бугор тапочек.
Второй день мама понемногу пьёт подогретое кислое молоко.
Начала вставать.
Выходит посидеть под окном на лавочке.
28 августа 1992
Большая стирка
Гриша стирает в корыте на табуретке.
С койки мама горько глядит, как он это делает.
Гриша заметил, что на него возложили глаз, и так расстарался перед мамушкой, так осатанело раскипелся-разбежался в усердии, что сам чёрт позавидовал и кинулся помогать ему по полной схеме.
Корыто не выдержало пламенного старательства двух горячих, чумовых гигантов и с гордым вызовом перевернулось.
Вода со змеиным жестоким шипом раскатилась по всей кухоньке.
– Э-э! Прачка! – шумнула мама. – Ты нас затопишь!
– Не бойтесь, Пелагия Михална! Я в запасе держу хорошие багры. Спасу! – смеётся Григорий, ловко схватывая тряпкой воду с полу.
Баптист
За обедом Гриша наливает мне и маме ситра.
А себе спирта.
– Я не хочу ситра, – отодвигает мама рюмочку. – Оно тэплэ.
– А холодненькое, – трясёт Григорий трёхлитровую бутыль со спиртом, – Вам ой нельзятушки. Горло застудите. Пейте тёплое ситро. Как я. Я разогреваю своё пойло до девяноста шести градусов. И доволен.
Мама ест простоквашу:
– Гриша! Намахай и Толеньке спирту.
– Толька не пьёт. Баптист!
30 августа 1992
И лопатой не накидаешь!
Лишь сегодня я заметил, что у козы Гальки занятные рога. Две костяные кокетливые кудельки лились по лицу, и один рог изгибом упирался под глаз.
Нарешил я эту загогульку срезать.
Как же!
Вон олень сбрасывает рога, сбросит и она.
Стал отпиливать ножовкой. Выбугрилась густая кровь.
Мне стало плохо. Я бросил эту хирургию.
Гриша замазал рог зелёнкой. Кровь перестала течь.
– Не получился из тебя Пирогов, – вздохнул Григорий. – Может, выйдет хоть рядовой трудяшка. Айдайки в поле на наш огород рвать фасольку.
По пути забрели в колхозную кукурузу.
Сдёрнули несколько кочанов.
– Колхозное брать можно спокойно и с достоинством, – разрешил Гриша. – Как своё родное. Всё равно бросят. Сгноят на корню. Но поймай здешняки вора на своей картошке, уроют на месте и на могилке выложат крестик из картофельных листьев.
– А если ночью?
– Не советую. Когда намылишься спионерить какой пустяк, рули на колхозное поле днём. Как в народе поют? «Всё вокруг колхозное. Всё вокруг моё!» Днём ты просто культурно берёшь. Почти своё. А ночью ты уже тать и надо тебе накидать по всей катушкиной строгости.
Я хотел рвать фасолюшку с корнем.
А Григорий против:
– В корнях удобрение. Да… На будущий год нам сунут огород в другом месте. Нечего беречь кому-то удобрение. Дерём с корнем!
Набрали два чувала.
Подвёз на мотоцикле весёлый наш соседец Алёша Баркалов.
Дома я сварил кукурузу.
Гриша отщипывает понемногу зернинки и подаёт маме. Она лежит на койке.
Мама улыбается:
– Толька, поглянь-ка… Гриша отпускае мне тилько по две зернятки.
– И то ладно! – вскинул руку Григорий. – Даю! А то вон… Сын и мать ругались. Мать укоряет: «Я ж тебя, чёртов жеребяка, с сосочки, с ложечки кормила!» А сын в ответ: «Так зато тебе и лопатой не накидаешь! Словно в печь: сколько ни вали, всё ничего нет!»
Мама гордо восклицает:
– Яа-ак хороше! Три сыночка – сразу три лопатищи! В Воронеже Гриша носил меня в больнице на руках аж на четвэрту этажуху!
Григорий не любит, когда его ухваливают, и тут же гасит похваленье нежданным сердитым попрёком:
– Ма! Как же не цвести Вашим полипам в желудке, если поститесь по четыре дня подряд? Во рту ж ни крошки!
30 августа 1992
К счастью – под конвоем!
Мама ест борщ и жалуется:
– Рука болит… Как жуёт. Лежу, як коровяка. Ничё не роблю. Ну целыми ж днями валяюсь с открытыми глазами и ловлю мух! Хиба цэ дило? Или я придумляю себе разные болячки?
Ладошкой она отгоняет муху от лица:
– Ото у нас мухи! Пока ложку борща от миски донесёшь до рота, всё из ложки выхлёбають! А я вот молодец. Гриша намахал повну мисяку борща, и я его напропал домолачиваю!
– А в мисяке полстакана, – уточняет Гриша.
Мама вздыхает:
– На дворе жара. Не продыхнуть. Травичка вся попривяла… Когда прошло оно, наше время? Днём или ночью? Не видали. А все стали вжэ старые та больные… «Как же долго нас вели к счастью под конвоем…»
30 августа 1992







