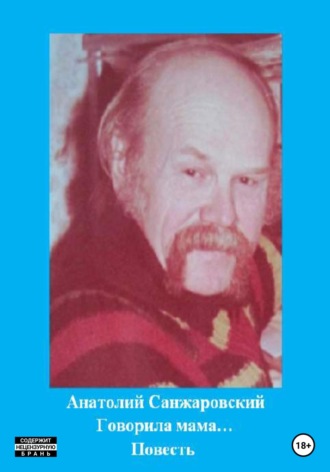
Анатолий Никифорович Санжаровский
Говорила мама…
Женюсь!
Когда сходишь с ума, главное – не споткнуться!
А. Гудков
Жизнь так сложна, что без смеха не разберёшься.
Г. Малкин
Жизнь промелькнула пред глазами:
Футбол, рыбалка, то да сё…
Прощаюсь мысленно с друзьями.
Марш Мендельсона… Кольца… Всё!..
В. Кузьмичёв
– Всякое дыхание любит пихание. Ты согласен?
– Ещё ка-ак согласен! А потому… Я твёрдо прибился к своему бережку… А потому к зиме женюсь стопудово![84] – мрачно пригрозил мне Григорий.
– Смельчуга-ан… Только в который раз обещаешь? И всё равно в твои годы надо поосторожней разбрасывать безответственные заявления.
– А какие мои годы? Ну какие?
– Через полгода шестьдесят. Не семнадцать.
– Вот именно! В семнадцать не грех и подумать. А в шестьдесят на раздумье – ноль!
– Да к чему такая спешка? Сорок лет колебался!
– А куда было в молодости торопиться? Всё ж впереди! Вон дедушка Серёжа Михалков женился в восемьдесят три… А Серёжу обставил питерский артист Ваня Краско. В 84 года Ваня женился на студенточке. Разница в возрасте ровно шестьдесят лет. О рекордишко! В Гиннесс его! В Гиннесс!
– Дедуньки Сергуня и Ванюня не твой ориентир… Ты не думал, чем могут кончаться секс-набеги озорных древних старичков на свежих розочек? Вспомни, вспомни хоть товарисча Чингисхана. Человек тысячелетия! Не какой там секунд-майор… Полководец! Полмира завоевал! А как кончил? Стыдобища! На бабе откинул адидасы! И сколько таких шаловливых супчиков-бульончиков!? Это и император Карл Великий, и философ Авиценна, и римский папунька Лев VII (сам Лев!), и вице-президент США Нельсон Рокфеллер, и премьер-министр Великобритании лорд Генри Пальмерстон… Лорд дубаря секанул… на бильярдном столе во время космической состыковки со сладкой чертовкой служаночкой…
– Мда-а… Есть над чем подумать на досуге… Явно не мой ориентир дедушки Сережа и Ваня ещё вот почему. Женился-то Михалков во второй забег… во второй разок… А Краско в четвёртый… Годы подпихивают. Надо мне погонять лошадушек. И сейчас моя компания мужички нераспакованные, кто и разу не забегал в брак ни с одной паранджой. И тут я выпередил всех. Холостым я уже пережил самых знаменитых женихов. Поэт Жуковский пал как жених в пятьдесят восемь. Что интересно, почти на два года я иду с опережением!
Он взял мамину палку под окном и, расклячив ноги, пошёл стариком. Вылитый какой-нибудь святой Зосима.
– Ну как? Дедулио без фальши? – вопрошает Григорий.
– Без.
– Тот-то. Срочно нужна тётка!
Так его пятидесятичетырёхлетний друган Валерка Котляров, который тоже всё никак не женится, называет свою будущую жену. Тётка и никак больше. Не жена, а именно вот тётка. Вроде нянечка. Не чужая. А своя. Родного замесу.
– Тётку срочно надо аж пищит!
– За сорок лет никак не мог решиться?
– А всё разбегался…
– Ну теперь разбежался?
– Разбежа-ался. Эти гады с квартирой в спину толканули. То тридцать лет прел с мамой в этом аварийном сарае-засыпушке, – тоскливо обвёл он взглядом комнатуху. – Со старой матерью в одной клетухе… Куда вести жену? Или… С милым рай и в шалаше, а в подвале – и вообще! Или мы звери какие? Тридцать лет мариновали с квартирой. Гноили. А тут нежданно и бухни. Новосельевские ключики перед носом зазвенели! То не было приличной хатёнки и ладно. А тут… Осталось вокняжиться в эти свои господские хоромы… Газ, вода, ванна!.. Полную ванну напустил… Нежишь-ся…
– На какую, милаша, впопыхах нарвёшься. А ну тётушка задурит?
– С такой у меня широких танцев не будет! Тогда, может, – хохотнул Гриша, – накурнать мне эту щеколду в водичку? Окунуть разика два в полную ваннушку и кончен балок?
– Закупалась! Сяма!
– Именно-с! Только сразу не буду окунать. Пускай спервони умного потомка мне подаст…
– На заказ, что ли?
– Конечно! Сахарница[85] у неё ого-го какая! Только умных и рожать! Хочу умных детей. А ум ребёнка в ногах и в ягодках матери.
– Гм… Что-то новенькое…
– Да нет. Старенькое.
Он подошёл к серванту, пошуршал в бумажках и подал мне газетную вырезку. Просвещайся!
«Чем шире бёдра матери, тем умнее её малыш
Чем больше, – читал я, – жировых запасов у беременных, считают эксперты, тем выше шанс на выживание ребёнка и на его высокий интеллект. Всё дело в том, что жир богат питательными веществами, которые играют роль в развитии детей. Со слов врачей, «жир в ногах и ягодицах матери – это своеобразное депо для строительства мозга ребенка. Нужно много жира для формирования нервной системы малыша, к тому же жиры в этих зонах обогащены докозагексаеновой кислотой, которая является особенно важным компонентом человеческого мозга». «Всегда было загадкой, – добавляют медики, – почему у женщин так много жира. Млекопитающие и приматы обычно имеют от пяти до десяти процентов жировых тканей, но у женщин Homo sapience жировые запасы в теле могут достигать 3 %. Всё выглядит так, как будто в процессе эволюции природа специально накапливала и сохраняла эти жиры у женщины до появления на свет ребёнка».
– Мда. Подумать есть над чем, – пощёлкал я пальцами.
– А мы и подумали заранее… Новую ж барскую хижину кому я оставлю? Коммунякам? Хренушки в кубе! А всё в квартире? Под Три Тополя, – глянул в окно в сторону кладбища под тополями – не понесут со мной. Как ни проси. Всю жизнь копил и?..
Действительно, дом похож на склад. Всюду продираешься боком. Вещей битком в углах, на столе, в шкафу… Нераспакованными стоят цветной большой телевизор, оверлок, пылесос, магнитофон…
– Ну кому всё это?! Только потомку! И брать буду, как Витяня Предурь. Холостовал этот кручёный долбонавт безбожно долго. У этого бармалея, гляди, есть чёрный пояс по любовным калякам-малякам. Не перекрой этому красному богатырю краник – полрайона обсеменит! Как-то раз на лужке пожаловался этот пехотинец с кулаками с махотку: «С большим риском для жизни я сделал доброе дело для человечества. Спас невинную девушку от неотвратимого изнасилования! А мне ни одна собака даже спасиба не сказала…» – «Как же ты спасал-то?» – «Да я просто не догнал ту длинноногую козу… А догнал бы… Я сперва накурнал бы её в снегу. Не бегай жутко, милая Машутка, от хорошего человека!» – «А риск в чём твой был?» – «Я слишком быстро бежал!.. А так… Она мне глянулась. Можь, я б на ней женился… Жаль, не догнал…». Один гусь и шепни ему: «И чего зря дорогие ножки гробить? Доколе будешь баклуши сбивать? В Першине кака-ая невеста-закром на корню сохнет-увядает!? Сама панночка Сажекрылова! О! Петрушечка кудрявая! Там приданое! Ух-ух! Чего стоит одна свиномамка на сто двадцать кило! Преполный погреб картошки! У самой повна пазуха цыцёк!!!» Витоша услыхал это и насмерть запал. Волчком закрутился. «Ну-ка, ну-ка, что за штука!?» – щёлкнул Витяй пальцами над головой и рысцой жиманул в Першино. Пешком по рельсам! Надеючись, жеребчик и в дровни лягает! Всё своими глазами увидел, оценил, женился. Теперь распевает:
«Мимо тёщиного дома
Я без шуток не хожу!»
Ахти-бабахти как быстро схрюкался Витюка с этой Сажекрыловой. Забрал Витёка симпатюлю свиномамку на все сто двадцать кило. Ни грамма не оставил! Забрал весь погреб. Ничего не оставил! Всё угрёб! Даже блох её. Ну, толкую ему, блохи уж и сверх всего. Так нет, говорит, у неё и блохи особенные. Прыгают, как балерины! Чего добру пропадать? Забираю! Заведу у себя в Гусёвке маленький филиал Большого театра. И пускай прыгают. Пускай изображают маленьких лебедей! Мы за большими не гонимся. Мы и на маленьких в полной согласности… Вот и я… Созрел в шестьдесят… Созрело яблочко наливчатое… Само упало. Как хороший бухач. Ведь… Надо полоть, а я в больнице. Спасибо, Валерка-Хлебороб хоть прополол. Хоть что-то ты убрал. В этом году у меня недород на картошку. Возьму такую тётушку, у которой уродило картошку. У меня недород – там перерод. За тётушкой доберу!
– Ох, брате, не разевай рот на чужой перерод, – со скептическим смешком похлопал я Григория по загривку. – А если уж замахиваться… На днях читал в газете… Гонконгский аллигатор[86] Сесиль Чао предлагает 65 миллионов долларов тому, кто сможет покорить сердце его дочурки Гиги. Она у него лесбиянка и в Париже уже состоит в браке с одной козлицей. «Исправишь» Сесильку эту, женишься на ней – 65 миллионов твои!
– Что я – Ваня Подгребалкин? Не нужна мне эта Сосиска. Я уж попроще как…
– И как?
– На мой век не хватит у нас своих тёток?.. Обязательно женюсь!
– Ты в гладиаторы[87] ещё не выбился? Гладиатор только и способен погладить девушку. А большего от него не жди. Потомка-киндерёнка будешь сам замешивать или кликнешь лихостного стахановца дядю соседа? Здоровье-то как?
Он кисло отмахнулся:
– А! Как у той кумы. То хлеб не ела, а то и воду перестала пить… Это я так. По утрам краснознамённый хохотунчик ещё ликующе вскакивает! Ты не смотри, что шестьдесят. А радостные простуды не отпускают. На зорьке циклоп одеялку шатром вскидывает, простуда с боков и налетает… Покуда буду простужаться, до той точки я и мужик. А перестану простужаться – нету мужика живого! Повелю тащить под Три Тополя.
– Ну-ну. Легче стало дедушке. Неслышно стал дышать.
– Тот-то и хорошо. Лёгкие отличные, значит. Про меня ещё долго не скажешь: то хлеб не ел, а то и воду перестал пить. Не воду! Водочку ещё попиваю! Да как!?
– Молодцом! – кивнул я.
– Молодец на конюшне стоит. А я за столом ем и пью! Ам и пью! Ам и пью!! Бедная печень рассыпается на атомы! Ах, подать бы сюда тётушку да потолще. Я б этой кракозябре показал, где раки ночью кукуют. Надо по глухим деревушкам заслать гонцов. Там и откопаешь тётку подурей. И чтоб погреб полный. У меня неурод – там перерод! А то нижнедевицкие о-очень вумные. Как замаячил на горизонте ордерок на новую юрту, шлепоток везде кругом побежал с уха на ухо. Шу-шу да шу-шу. Ну, мне от этого ни жары ни прохлади. На каждый роток не испечёшь блинок. А вон вчера одна знакомушка заводская… Этой хреньзантеме не идти – давно пора бежать замуж! Вот эта уже капитально потоптанная бабайка и подкати вчера коляски. Вроде сначатки как смехом я мумукаю этой фефёле про горячие полежалки, а она и ухни: «Не надоели ещё тебе эти от случая к случаю ночные плясандины? Чего б нам не сойтися? Можь, сбежимся характерами?.. И кушали б мороженое вместе… Америкон! Прихватизируй мяне у нову фатеру. Не разочарую!» – «В качестве?» – «Жёнки, навернушко…» – «Так кто, – спрашиваю, – тебе, бабетка, нужен? Я или новое дупло моё?» – «Кунешно, обоюшки. Всейный кон!» – «Я погляжу, так у тебя в головке прям богатейший склад ума. Только вот почему этот склад никто не охраняет? А?.. Ну, отдохни, отдохни, птичка-рыбка-киска Мурка моя Ненаглядкина. С расчёта, с кошелька разгон берёшь… Не тупи… Остынь, килька бесхвостая… Ты чего всё не выходишь замуж?» – «Тут с вами выйдешь… Все пробуют, хвалят, а не берут». – «И мне не больше всех надо. Посиди ещё». – «Я готова за тебя жизнь отдать! Но это бесполезно?» – «А ты ещё сомневаешься?» Ведь чую, нипочём я не нужон этой секс-мамбе…[88] Это ж сразу считывается. Да и она мне нужна как зайцу триппер… У этой крюкозябры уже климакс на носу… Любит тугрики трясти… И корабли у нас отправились в разные моря… Эх… Хороших парней загодя разобрали кого ещё в институте, кого в школе, а кого и в садике. А я всё не востребовался…
– Мда-а… Любвезадиристый товарисч Пушкин катался на каруселях со ста тринадцатью кадрицами. А тут… Пляшет на примете хоть одна кривенькая снегурка, да помоложе?
– Я сам кривенький. Зачем же мне ещё какую-то корявую таскать? А жениться пора. Пора давно перепорила… Потомка бы мне. И точку можно ставить. Жирнюху!
И замурлыкал себе под нос сергейкамышниковское романсьё:
– Я нежна, прекрасна, сексапильна.
Себя своим признаньем завожу.
Люблю себя любимую так сильно,
Что от себя, наверное, рожу.
2 сентября 1994. Тяпница. (Пятница.)
Мешок-спаситель
Утром я побежал на почту, телеграммой поздравил своего маленького Гришика с промежуточным днём рождения. Сегодня ему два года и четыре месяца.
Вернулся.
Переодеваюсь в братнины брезентовые штаны, куртку – пойду для своего маленького Гришика рвать шиповник, – Григорий большой и скомандуй:
– Стоп! Рубаху не снимай. Померяй.
И достаёт из своего гардероба приличный костюмчик. Новенький. Бирочка торжественно болтается.
– Дарю. За картошку… Убрал один… И эта твоя помощь мне как божий дар Небес. Хотя… Ты сам дар Небес.[89] Да что Небеса? Небеса ничего не кинули б нам вниз, не повкалывай ты сам вчерняк… Костюмишко можешь загнать. Тысяч шестьдесят без звука отстегнут. Или носи.
– Спасибо, братушка. Носить буду. Выходной костюм. А то у меня единственный выходной костюмчик уже старенький. Тридцать лет с гачком таскаю. А этот будет мне до похорон. Может, в нём и схоронят…
– Ну, о похоронах рано. Спервачку поноси.
После завтрака я на велик и дунул по улочке напротив наших окон. В сторону Гусёвки. Справа по руке печально желтели из-за бугра лишь чубы тополей с кладбища.
Еду тихонько себе, еду.
Заехал за газовую. Так тут называют газораздаточный пункт. Простор вокруг пункта всё ровненький, выложен огромными бетонными плитами.
Я уже хотел спрыгнуть со своего мозготряса и дальше, вниз, идти с ним рядышком, как вдруг что-то ширнуло меня в бок:
«Неужель струсил? Боишься съехать?»
А вот проверим!
И я, крутнув руль, на дурьих ветрах помчался вперёд.
От газовой это была уже не улочка, а одни овражные страхи. По ложу пересохшего дождевого ручья петляла уличка по бугру, почти отвесно падающему вниз.
Надо стать!
Так я подумал, как только меня понесло.
Но я не остановился.
А в следующий миг уже страшно было останавливаться на полном скаку. Земля была сухая, в чёрных комочках и на них велосипед не остановишь. Он будет скользить, как корова на льду.
И всё же я нажал на тормоза.
Щелчок!
И велосипед летит ещё звероватей!
Я снова на тормоза. И снова щелчок.
Гос-по-о-оди!..
Не знаю почему я панически заорал:
– Ма-а-а-а-а-а-а-а-а-а!..
Не знаю зачем я кричал, но я кричал.
Я видел по обеим сторонам за штакетинами вытянутые лица и летел, как смерть.
Изо всех сил я держал руль. Боялся выронить. Улица почти отвесная, в дождь по ней хлещут дикошарые ручьи, сбиваясь в один, жестокий и чумовой. Глубокие вымоины изрезали уличку, я боялся не удержать на них руль.
Была мысль умышленно упасть.
Ну чего падать раньше срока? Уж лучше пока подожду. Если само уронит, возражать не стану. Госпожа Судьба!
А судьба, как говорила мама, штука такая: покорно поклонишься и пойдёшь.
От поклона не переломиться.
Только после падения пойду ли я?
Может, врезаться в приближающийся сетчатый забор?
Железобетонные колья, которые держали забор, тут же погасили во мне это желание.
А скорость всё авральней…
До поворота метров сорок. Поворот крутой, на девяносто градусов. На дикой скорости я в такой поворот не впишусь.
Лететь мне всё равно по прямой!
А на прямой – солома!
Знали, где я упаду, и постелили загодя?
Но кто бы ещё опустил эту солому на землю? Огромная копна соломы торчит-нависает над землёй. На тракторной тележке. А мне надёжно светит лишь передний борт тележки и продвинутая навстречу мне железная забабаха, за которую тянет тележку трактор.
Выдвинутая железяка или борт!
Третьего не дано.
А я тем временем всё беспрерывно ору и думаю, что же мне делать. Наконец, я вспомнил, что у меня есть ноги, есть переднее велосипедное колесо. Я ткнул ногу между передним колесом и трубкой над ним.
Кажется, ход немного срезается.
Может, мне это только кажется?
Да нет. Не кажется!
Бес подо мной вдруг останавливается почти вкопанно, и я валюсь через руль на бугорок в скользких чёрных земляных горошинах.
Я быстро вскакиваю и оглядываюсь по сторонам.
Ёбщества вокруг набежало препорядочно. До сблёва.
Ждёт картинки смертельной. А у меня ни царапинки.
– Тормоза отказали, – винясь, пробормотал я ротозиням.
Их лица постнеют.
– Чёрт ли тебя нёс на дырявый мост? – выговорил мне один старик. – Ёлы-палы… Так лихоматом реветь и никаковского убивства!? Тогда на кой хренаж было здря весь мир сгонять на улицу?
– Ить… – возразила ему бабка. – Когда тонут, кто и соломинке не рад?.. Хоть дуром на нашем свежем воздушке чего не поорать?
Я так и не понял, почему же остановился велосипед.
Я так сильно жал ногой на колесо, что оно не посмело дальше вертеться?
Вряд ли…
Пожалуй, меня спас мешок, в который я собирался рвать шиповник для своего сына.
Мешок был у меня под слабой прищепкой на багажнике.
На рытвинах он выбился из-под прищепки и намотался между колесом и багажной трубкой так туго, что колесо больше не могло крутиться?
Я еле выдернул мешок и в близких слезах благодарно прижался к нему щекой.
Заныло в спине. У меня всегда начинает ныть спина, когда сильно понервничаешь.
Значит, рано ещё мне под Три Тополя.
Надо жить.
И носить браткин подарок.
4 сентября 1994. Воскресение.
Спокойной ночи, Гриша, или Свидания по утрам
Сквозь вишнёвую пыльную листву льётся в приоткрытое окно за тюлевой белой занавеской первый свет.
Утро.
Рука сама тянется за изголовье к верху телевизора, где лежит газетный конвертик с карточкой сына.
Уголок одеяла я собираю в гармошку. Приставляю к синему заборчику карточку.
Гриша стоит у меня на сердце и очень серьёзно всматривается в меня из ромашек. Точь-в-точь так, как тогда, когда я снимал его в августе за Косином.
Впервые я привёз его на велосипеде на бугор, где раньше рвал ромашку.
Я стоял перед ним на коленях и кричал:
– Гриша! Бомба!.. Бомба!!.. Ну бомба же!!!..
Обычно, когда я произносил это слово, он смеялся.
Между прочим, на этом слове мама учила меня грамоте в первом классе. Сама мама ходила в школу всего месяца три. Она твердила мне:
– Бонба. Правильно будет бонба!
Я упрямо гнул своё. Как было в книжке:
– Бомба!
То, бывало, тихонечко скажешь бомба, и сын грохотал взакатки.
А тут…
Строгие глаза внимательны.
Он наклоняется. Припадает лицом к объективу.
И я в лёгком шоке.
Почему темно? Ничего не видно.
Не сломался ли мой полароид?
Я аппарат в сторону.
Полароид мой и не думал ломаться. Просто Гриша закрыл объектив лицом. Старался увидеть меня в глазок.
Я смотрел на него в глазок с одной стороны, он на меня – с противоположной.
Я переступаю на коленях назад.
Он неотступно следует за мной.
– Гриша! Стой на месте и улыбайся. Бомба! Бомба!! Бомба!!!
Он всё равно не стоит на месте.
Я раком карачусь назад.
Он с удивлением тянется за мной и деловито наклоняется к фотоаппаратову глазку.
Что ж там разынтересного увидел папка!?
Наконец, в изнеможении я дёргаюсь верхом назад. Между нами сантиметров шестьдесят. В аппарате стих звоночек, не мигает красный свет.
Я нажимаю на кнопку. Будь что будет!
И выползает эта картинка в цвете. Крупное лицо. Срезан чуть сверху лоб… И цветы, цветы, цветы… Ромашки тесно обступили Гришу. Одна любопытная ромашишка даже выглядывала у него из-под мышки. Кажется, ромашки тоже тянутся к аппарату. Им тоже интересно заглянуть в глазок…
Глаза у Гриши живые, ясные, умные.
Он молча всматривается в меня, я в него.
И длятся смотрины, может, с час. Может, и больше. До той самой поры, покуда, тихонько откинув шторину на дверном проёме, не входит в гости мама.
– Ну шо, хлопцы, подъём? Спали весело́, встали – рассвело?
– Так точно! – готовно откликается Григорий. – Входите, ма. Большой гостьюшкой будете.
– Толенька, как на диване спалось?
– Без происшествий.
Увидела на карточке Гришу, степлела лицом:
– О! Якый сыняка-соколяка!
Всё. Свидание с сыном кончено.
Я кладу карточку в газетный конверт и на телевизор.
И так каждое утро.
А в прошлом году со мной приезжала сюда другая карточка. «Прогулка с папиным пальчиком». Чёрно-белая. В рост. Я вёл Гришика по берёзовому лесу. Меня на фото не видно. Лишь моя рука уцелела. Одна рука Гриши держится за мой указательный палец. На другой руке Гриша сжал пальчик крючочком. А почему за мой пальчик никто не держится?
За день ещё не раз присядешь на диван с карточкой…
А вечером…
Во всякий нижнедевицкий вечер я смотрю «Спокойной ночи, малыши».
Сегодня у этой передачи день рождения.
Ей тридцать лет.
У меня такое чувство, будто смотрю я эту передачу вместе с Гришей. Я чувствую его рядом. Будто мы сидим в Москве на нашем диване и смотрим по цветному телевизору «Сони». Стоит он у нас высоко на шкафу.
Смотрит Гриша цепко. Не дохнёт. А ближе к концу передачи глаза у него наливаются горючими слезами. Передача ещё не кончится, а он уже плачет навзрыд.
Мы с Галинкой сами чуть не ревём. Успокаиваем его.
А он плачет и плачет.
Жалко расставаться со Степашкой и Хрюшей?
Кто его знает…
И чтоб его не расстраивать, не стали мы больше включать эту передачу.
Подождём, как немного подвзрослеет.
Может, перестанет плакать?
Попрощались Степашка и Хрюша.
Спокойной ночи, Гришик. Спи, маленький, спи…
5 сентября 1994. Понедельник.







