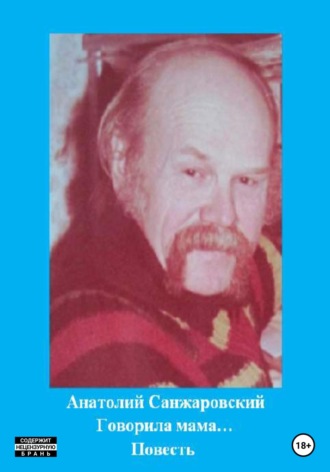
Анатолий Никифорович Санжаровский
Говорила мама…
Братья
Мама проговорила в грусти:
– Наш род пропадае…
– Да! – подхватывает Григорий. – Что ж мы делаем? Надо думать о будущем. Надо кидать кусок наперёдки. А кидать-то и нечего! Нас три брата. Три бегемота. Толик молчит о своих детках. Гриша засох на корню! А Митька… Копилку[38] откормил ого-го! А браконьер злостный. Мазила! Бракобес! Две девки и ни одного парубка! Фамилия пропадает… Да и кто вырастил тех девок? Вы, мам. А благодарность какая? К Вам, как к стенке, Лидка обращалась. За всю жизнь ни матерью, ни по имени – отчеству и разу не назвала.
Мама припечалилась:
– Чего восхотел… Эта девка с большими бзыками…
– Всю жизнь обиду таскает на Вас. Всё помнит, как Вы отговаривали Митяйку жениться на ней: «Митька! Сынок, иль ты не бачишь, шо у неи один глаз негожий? Соломой заткнутый». Оскорбили её… То не солома, мам… То бельмо было…
– А… Скажешь, сыно, правду – уронишь дружбу…
– Ма, – говорю я, – вот нас три братчика. Вы ко всем одинаково относитесь в душе?
– А невжель по-разности? Все из одной песочницы… Какой палец ни уколи, болит… Грише большь всех доставалось. Он и вырос выще ото всех вас.
Она помолчала и усмехнулась:
– Как-то Грише прибажилось… Загорелся подправить наши дела. Давай, сорочит, возьмём Алку! А она товста, як копна. А что с мужичьём шьётся… Четверых мужей ухоронила. По улице её дражнять: Алка-катафалка… Як-то хвалилась у винной лавки: «Да у меня этих женихов – раком всех не переставишь до самой до Москвы! Ещё и посадить в шпагат хватит на весь экватор!» Ну как такую распустёху вести под свою фамильность? Не-е… Не треба нам такого сору… С многоступенчатым[39] дитём она. У неё девочка-каличка… А там пье! Пьянь болотная… Старюча. Пять десятков, гляди, уже насбирала… В столовке возьме бутылку и меленькими стаканчиками содит с приговоркой: «После пятидесяти жизнь только начинается!» А там курэ!.. В своей хате своя правда. И правда та, шо пьянки да гулюшки – всё и занятие той Алки! Я и режу: «Гриша! Божий человече! Ну шо за чертевьё ты несёшь? Да куда ж мы её возьмём? Она ж, пустошонка, нас пропьёт!» И наш комиссар гордо примолк с женитьбой. А наискал бы путняшку… Чего б не жениться? Горе на двоих – полгоря. Радость на двоих – две радости!
30 июля 1982
Оправдание
Мама:
– Вот и август припостучал к нам… Август – податель дождя и вёдра, держатель гроз: дождь и грозы держит и низводит. Сёдни, на Илью, до обеда лето, а после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит… Вспомнила… Один у нас беда как изнущался над жинкой.
Раз по пьяни кричит ей:
«Становсь к стенке!»
Стала.
«Голову вниз!.. Голову выше!»
Саданул у щёку.
Она не будь дура и шимани его ножом в пузо. Крутанула! Як буравцом, вытащила сердце.
Под последок он только и прошептал ей:
– Ах ты, сучонка крашеная… Я ж так… Для развития руки… Что ж… ты… утворила…
На суде её спрашують: «Вы ужили со своим благовериком сорок лет. И потом укокали. Как же так получилось?» – Пожала плечишком: «Да вот, ваша честь, всё как-то откладывала, откладывала…»
Ей кинули восемь лет. Даже согнали в тюрьму.
А тюрьмы забиты винными и невинными.
Был ещё суд и ей поднесли оправдательность.
А сама она маненька. Человеченко там… За крупное дитё примешь. В детском саду нянечка.
2 августа 1982
Примета
– У нас в доме – вспоминает мама, – главным был дед Кузьма. Он решал, когда начинать сеять.
Дед первым ехал в поле. Брал в жменю землю. Рассыпается – надо начинать сев. Остаётся мячом – рано сеять.
3 августа 1982
Бич
– В Нижнедевицке судили одного за бродяжку. Я его видела. Молодой, здоровый бугаяка. Годам к тридцати подскребается. Он всё бичом[40] себя называл.
Ну, судили.
Отсидел.
Вернулся и всё равно мать его в работицу нипочём не воткнёт.
Когда его спрашивали, где работает, он отвечал:
– В гортопе. По городу ножками топ-топ.
И стал он просить у матери на выпивку.
А мать старенька.
Пензии всего-то сорок пять рубленцов.
Она и укоряет его:
– Что ж ты в работу не впрягаешься?
А он:
– Что я, псих? Пусть трактор работает. Он железный!
22 августа 1983
Осторожный Гриша
– Месяца три назад я как-то сказала Грише за тельвизором:
– Сынок! Вот мы покупили две красные мягкие стулки – он их креслами дражнит, – рядушком в культуре сидимо. Вдвох караулим[41] один тельвизор. А як бы ловко було, женись ты всё ж на какой путящой. Мы б тоди взяли третью стулку и уже утрёх караулили б один тельвизор. Надёжнишь було б… А то… Неважнуха из тебе караульщик. Тилько подсив к тельвизору – тут же засыпаешь!
– Оно и Вы не лучше караульщица. Едвашки пристроитесь покараулить – тут же отъезжаете в Сонино.
– Обое хороши… Бессовестно спимо перед тельвизором… Унесут и не побачим… Надо шо-то делать.
– Надо. Стулку б мы купили! Она б караулила! Да ты, что интересно, тогда где б сидела?
– Как и зараз. В красном углу.
– Да, в красном углу. Только снаружи! По ту сторону стенок. Во дворе!
23 августа 1983
Ужин после ужина
– Что ваши делают?
– Да повечеряли. Теперь хлеб жують.
– Ма! А Гриша часто пишет письма?
– Часто. Кажный год.
На конфеты
– Получила я пензию. Трохи оставила на магазин. А остальное отдала Грише.
– Пелагия Михална! – щурит он один глаз. – Чего не всю пенсию отдаём в общий котёл?
– Мне деньги нужны. На конфеты…
– Знаю Ваши конфеты. На магазинные путёвки!
Он все деньги отдаёт в семью.
Все знают, где лежат деньги. Надо – бери без докладу.
У нас всё открыто. Всё навыружку.
25 августа 1983
Столовка
– Леночка наша выходит в Воронеже замуж. Недели две назад Митька отвозил ей постелю. Хай сперва кусок в руки возьмёт. По разговорам, жених у моей внученьки схватчивый богатюшка. С ломтём… И я ездила с Митькой. Понасунуло туч. Холодняк. Морозяка прямушко в щёки. Зима не зима, а и летом не назовёшь. Завезли Ленушке постелю, и побежали мы с сынком в путёвку по магазинам. Отыскали мне кустюм. Покупили… А уже надвечер. В голоде бежим. Заскочили в столовку «Три карася». Набрал он полный стол. Как лопатой накидал! А я и не села. Хоть во весь день во рту нэ було ни росинки ни порошинки. Он говорит, ну выпейте хоть компоту, размочите желудок. Весь же день насухач! А я говорю, ты ешь, ешь. А я на улице пидожду. Вышла. Не стала йисты. Ну как ото его на людях йисты?.. Все смотрять… Ну, вот, Галенька… Всё я тебе обсказала… Батька гарно гуртом бить. Ты гладишь. Я цепляю подзоры. И дело у нас видней…
26 августа 1983
Вся жизнь на движениях!
Приехали мы с Галей в Нижнедевицк. В гости.
Только на порог – мама навстречу:
– Детки! Не обижайтесь. Я пойду. Мне в десять на антобус. Еду в церкву. Яблоки святить!.. Вы в дом. Я из дома… Вся живуха у нас на движениях!
Вернулась мама через день. Хвалится:
– Служба началась в семь. А покончилась в два. Оюшки ж и народу!
Гриша с подсмехом:
– Они б и сейчас служили, не разгони их… Эти все в рай рвутся попасть!.. Небостремительные… Ма! Вы ж не девчушечка. Совсем устарились. Не обязательно туда скакать молиться. Молиться можно и дома.
Мама засерчала:
– Молиться надо без смеха. Один дедушка говорил: и делай людям добро, чтоб в сутки два спасиба заработать. А когда злишься – сам себя грабишь. Делаешь людям зло и себе сделаешь зло.
– Верно… Не сердитесь. Лучше расскажите, как там всё было?
– Годовой праздник… Сначала молитву читали. А потомушко кругом церкви яблоки по траве все на полотенцах разложили… Несут три иконы… Певчие и батюшка… Дядько несёт воду. Батюшка макает кропило и брызгае по яблокам. И всё.
Григорий:
– И затем каждый хватает свои яблоки и убегает!
Мама укорно смотрит на него:
– И чего ж убегать со своим?.. Голодняком не сидели. За обед буханку хлеба разделали… Помидоряку разломишь – как сахарём посыпанный. Блестит!
– А добирались назад как?
– По-царски! Вышли из церкви – антобус с дымком к нам бежит. Старается! Стал возле нас. А большой! Служебный. Прямо под нас, под бабок, подогнали антобус! Сначала не хотел нас брать. Разбежался ехать в другой край. А мы… Денежки на карман… Куда хочешь заедешь! Никакой ревизёр не остановит! Нас пятьдесят душ. Кидаем по рублю и он…
Мама запнулась. Я подторопил её:
– А он что?
– Да ну тебя! Ты щэ в газету наляпаешь!
– Разве хоть раз я писал про Вас?
– И дядько сказав: залазьте, дорогие снегурушки! И наши шкабердюги полезли. Гарный дядько… Это под его распоряжением був антобус.
Гриша стукнул в ладоши:
– Во что интересно, как зарабатывают состояние! Автобус служебный! Вёз тех, кто был на службе. Идейно!
Мама просветлённо улыбнулась:
– А людей полно-вполно. Раньче жались по уголочкам. А тут… Как водой налито! И детей многие крестили.
– Ма! А я крещёный? – спросил я.
– Да.
– А кто мой крёстный отец?
– Да ну там… В Грузинии… Не пойдёшь искать. Я и не помню кто…
18 августа 1984
– Ур-ра! Наш папка задушился!
– Что это водку не прекратять продавать?! – гневится мама. – Или мир стоит на водке? Зинка Давыдова, соседка, ругала своего мужика. Этот Мишка по-страшнючему её отоваривал. Всем бита, и об печь бита, только печью не бита. С пьянюгою жить – синяки растить! Плечо ей разбандерил. Год болело! Однажды он пьяный упал, как петух, на порог. Как кто его положил. Голова хорошо лежит. Хорошо б её отрубить! Глянула слезокапая Зиночка – дочка Наташка делала уроки. Затряслась. «Жалко ребёнка. Калекою сделаю». И бросила топор… А через три дома мужик тоже издевался над жинкой. Раз лёг он пьяный спать. Подлетела к койке жена с топором на весу: «Закрывай глаза. Я тебе голову отрубаю!» – «Что ты! Что ты, божья моя радость! Я пить больше не буду! Не буду! Не буду!.. Только брось топор! Брось, роднушечка-золотушечка, топор!» Жена и отступись. Спал он, спутанный верёвками. Это она его упеленала, шоб среди ночи не кинулся умывать.[42] А утром входит к нему в комнатку – он мертвыш. Разрыв сердца! Четырёх лет хлопчишка ихний выскочил во двор и в полном счастье закричал:
«Ур-ра!.. Наш папка задушился!»
19 августа 1984
Любовь – королевский пожар
«Что наша жизнь? Да вечный бой
С лукавым полом слабым!»
– Поздно, хлопцы, сёдни я встала. Как та невестка: «Та шо оно, мамо, як я ни встану, увсегда рушник мокрый та мокрый?» – «Треба, доцё, вставать ранесенько, и рушник повсегдашно сухый будэ!» Так и я долежалась… Все уже поумывались…
Из кружки она набирает воды в рот.
Изо рта поливает на руки. Умывается над ведром.
– Ма! А куда отбыл дом напротив нас за посадкой? – спросил я. – Его ж в прошлом августе уже достраивали…
– Любовь спалила! И дня не жили люди. Тилько дорубывали… А чердак вжэ був готовый. И сын, жеребяка лет тридцати пяти, таскал на чердак одну хвиёну. Потом прилюбил другую. Стал водить эту. Первая ночью залезла… Думала, он там со второй, и облила чердак керосином. Зажгла и слезла. А вторая и он уже управились по-стахановски раньче. Раньче и слезли. Дом сгорел. Ну кто ж теперь будэ спорить, что любовь не пожар?
21 августа 1984
Посмотреть бы на новую Криушу
Едем с Галей из Воронежа в Нижнедевицк.
Посреди пути тормознула наш автобус кучка голосующих.
– Вы далече едете? – на подбеге шумят водителю.
– Мы-то далече. А вам кудашки надо?
– В Нижнядявицк!
– Так бы сразу и пели. Садитесь!
Вечером на петуха пришёл старший брат Дмитрий со своим выводком. С женой и двумя дочками.
Приняв на грудь, Дмитрий повеселел и зажаловался:
– Была премия… Всем дали. А мне, начальнику, – тюти… Шиш! Дяректор пока я на маслозаводе. А сам себе не выпишешь. Тот-то. Что запоют низы?.. Замудохался я с этим заводом… Жизнёха закрутилась – кругом разруха в головах и сортирах… Слыхали? На родине Горбатого-угря разметают дороги. Наводят марафет.
– Та хай наводять! – великодушно разрешает мама. – Чище будуть.
Дмитрий с ухмелкой махнул рукой:
– Пусть отъезжает та премия подальше… А мы…
Он угрюмо набурхал себе в стопку водки и как-то мстительно опрокинул её себе в рот.
– Ты что у нас единоличник? – говорю ему. – Оторвался от масс, в одиночку отоварваешься?
– В одиночку, Толик, в одиночку…Пока коллектив готовится к приему очередного градуса, я до срока… один… вне графика… На заводе мне достаётся и в хвост и в гриву. Значит, принимают меня за лошадь? Вот я и хлопнул один за то, чтоб нас везде принимали только за нас самих и ни за кого больше!
Он как-то враз повеселел:
– А теперь можно и о чукче… Чукчу спросили, что такое перестройка. Чукча ответил: «Перестройка – это лес. Вверху ветер, шум. А внизу тихо-тихо». Правильно ведь. А? Московские шишкари оборались о перестройке. А страна об этой перестройке и понятия не имеет. Или… Чукча разбежался в Москве мандыхнуть. – Дмитрий щёлкнул себя по горлу. – И стал в хвост очереди. На Красной площади. Очередь привела к Ленину. А чукча думал, очередь за вином. «Ну и как?» – спрашивают его. – «Да как… Пока очередь мой пришла, вино кончился и продавец умер».
Все смеются. А мама вздыхает:
– Умирать – никому не миновать. Живём одним секундом… Старушка шла в магазин. Грязь… Машина поплыла и бахнула старушку бортом. Помэрла старушка. Разве она за тем шла в астроном?.. Народ зараз настал не дай Бог какой. Одна в магазине кричала продавщице: «Я не пойму, ты советский продавец или к будке привязана? Ты пять лет училась, как торговать. И тебе ещё надо пять лет учиться, как обращаться с народом. Плюёшь в лицо и не отворачиваешься!» Митьке, начальнику, хуже. А Грише, простому работюхе, лучше. Тилько на часы поглядуе. А Митьку вон на днях в два ночи подняли в Вязноватовку. Там шо-то на молокопункте скрутилось…
Мама помолчала и продолжала:
– Зараз время – все в отпусках. Никого нэма на работах. Тилько Бога и застанешь на своём месте…
– Эк как высоко летаете Вы! – хмыкнул я.
Мама ничего не сказала на это и спросила меня:
– Вы с Галей на море поедете?
– Наше море пока – Ваши огороды, дрова, погреб…
– Бабка я стара, голова моя с дырой… А… Куда б мне поехать хоть одним глазком на море глянуть? Правду Гриша кажэ: «Ничего ты не видела. Коптишь небо». Сроду нигде не була. Ничё не бачила. Ничё не вкрала… Толюшка! Там у тэбэ нэма путёвки у Грузию? Вот бы подывытысь на Сербиниху, на Солёниху, на Скобличиху, на Гавриленчиху… До си ли на каторжном чаю пашуть? Рабыни подружушки мои… Как же мы мучились в том проклятом совхозе… Свезли туда одних бездольников… День мучились на чаю, в вечер бежали рыть окопы… Жили мы в прифронтовой близости. Тяжко было. Покончилась войнуха, но лекша не стало. Ещё не рассвело, а бригадир бигае по посёлку и палкой в окна лупит. А ну давай бэгом на работ! Вэсь дэнь на плантации с первого света до чёрной ночи. А шо получали? Дулю… В мае самый напор чая. Можно собрать в два-три раза больше чем в сентябре. Ты стараешься, и они не спят. В два-три раза завышають норму! И ты получаешь дулю с маком…Считай, беплатно ишачили… Ну Насакираля… Потом из Насакиралей на Ковду марахнуть бы… Скилько жизни там кинули мы тому проклятке северу… Як начнэшь на том лесозаводе доски грузить… Смертная запара… Не знаю, откуда туда наезжали со своей водой…
– То, наверно, американы приезжали за нашими досками. Но со своей водой. Боялись нашей отравиться.
– Земли в Ковде не видно. Одни доски-мостовые… Досточки-тротуарчики…
– Ма! – вжимает меня разговор в интерес. – А Вы помните, на какой там улице наш барак был?
– Буквы не знаю. А ты хочешь, улицу шоб знала?
– Ма! А почему у Вас нет ни одной карточки с севера?
– Хох! С этими карточками… Держали нас в горьком режиме… Ты хочешь снятысь с семьёй, а тебе в нагруку человек сбоку пихает сверху за спину какой-то дурий фанерный плакат с политикой. Без плаката не снимали. А мы с плакатом не всхотели сыматысь.
(Через много лет я разыскал этот плакат. Он справа.)
– Був щэ подурей плакат «Железной рукой загоним человечество к счастию». Жестокой дури було вышь ноздрей. Страшно и воспоминать…
Она долго в печали молчит. Вздыхает:
– В Собацкий… В Новую Криушу поехала б… Хоть вприжмурку глянуть на свою хатынку… Е ли хто живый?
Мама идёт к себе в комнатку в прихожей. Там за печкой её койка. Идёт спать:
– Поехали на отдых… На наш жаркий курорт за печкой…
23 августа 1986
Свидание
Мама собирается на низ. В магазин.
– Сбегаю на свиданку в астроном.
Гриша:
– Горючего ничего не берите. И капли!
– На водке прожил. А на спичках-каплях хоче сэкономить! – смеётся мама и обращается к Гале: – Почему сейчас детвора такая? Идуть – цыгарки крутять. Восьмёрки делають. Пьяные…
– Детей надо воспитывать в строгом формате. А родительцы балуют.
– Не нами началось. Не нами и кончится… Скилько твоей матери?
– Пятьдесят шесть.
– У-у! Ей щэ далэко жить. А тут семь десятков и шесть… Считать долго. А прожить… Много моих подруг уже лежат… Прижмурились… Отошли… Половина восьмого… Багацько…
– Какой половина восьмого? – вскидывает руку Григорий. – Уже семьдесят семь!
– Щэ хуже! Уже почти восемь! Да-а… Семьдесят семь не семнадцать… Край всё блище и блище… Помирать зараз безохотно… Семь десятков и семь… Неровный счёт годам… Уживу щэ три летушка… Для ровного счёта… Шоб було восемь десятков… Ровно шоб… А там можно и перестать брыкаться… Спокойно можно кончаться… Оюшки… Или я остарела? Или сдурела? Пока ходю – ходю. А сяду – хоть кипятком обливай. Вставать неохота… Галя уедет, жалкувать буду. За тобой, Галенька, я третий день на курорте. Ты у меня печной комендант.[43] Еда готовится. Ложки моются… А с Григорием мы… Кто дольше сидит, той и моет. Кто первый выскочил из-за стола, той и пан!
Мама показывает свою вышивку гладью и крестиком:
– В обед, вечером вышивала… Пряли ночами… Патишествия много було… Хлопцы! Ну шо мне делать? Подруги едуть у церкву. Отпустите?
Гриша морщится:
– Да что с Вами поделаешь…
– Молодёжи густо в церкви. Ходять крестяться. Как положено.
– Церковь хороша постами, – важно заметила Галина.
– Я, – говорит мама, – раньше мяса поем – круги передо мной, як райдуга. А постюсь – хороше… Самой надо держаться. А в наши годы из больницы здоровьица не натаскаешь. Ну… Я иду в город. В поход… Галя, на тебя вся надёжка. Корми тут мужиков. А я вся в походе. На ночёвку вернусь. Мне за своих сынов в аду кипеть. Упекут они меня в беду!
Гриша и бахни:
– А может, гордиться надо такими орлами? Что, мы кого-то убили? Где-то что-то украли? С такими сынами в рай попадёте! Большое спасибо Вам Боженька скажет за таких сыновцов. И поклонится.
– В рай попадём, когда будем носить кресты…
25 августа 1986
Болезни природы
Мама:
– Вот буря прошумела стороной. Вы с Галей убегали от неё. Откуда та буря? От Бога? А вот вулкан бил где-то…
– Всё это – бури, вулканы – болезни природы, – ответственно доложила моя Галюня. – Природа как человеческий организм. Здесь болит у человека почка. Там болит палец. А у неё… Тут бури… Там вулканы… Природа живёт и болеет…
Я с царским почтением смотрю на свою дражайшую жёнку. И очень даже весь до глубины пяток согласен с высказыванием полководца Наполеона, мечтавшего стать «господином мира»:
«Никто не герой перед своей женой!»
25 августа 1986
Почём место в раю, или У каждого свой Иерусалим
Вернулась мама из Ольшанки.
Из церкви.
Была с ночёвкой.
Отмечался Третий Спас.
– Драстуйте, ребята! – весело посветила улыбкой мама, входя в наше прелое палаццо.
Мы ей хором в ответ:
– Здравствуйте, девчата!
Мама хвалится:
– Антобус до церкви довёз!
– Вся Ваша боевая была дружина? – уточняет Григорий.
– В полном количестве!
– Усердно бабуси молятся. В рай край просятся. Пока допросятся… Мороки целая гора. Да ну не проще ли… Тугриков поболь собери и купи царское место в раю!
Мама шатает головой:
– Дело не в деньгах, сыно. Надо креститься. У каждого свой Ерусалим! Есть рука. Есть сердце. Крестись…
Григорий ворчит:
– Ма! Читать не можете. А так… Где Вы нахватались?
– Один многих убил. Идёт мимо церкви. Шла служба. Глянул и сказал: «Да будет мне!» Все посмотрели на него с осердием. Как такой вошёл в святой храм? Он вышел святым. Потому что сказал это с усердием.
– Мудрёно, ма, глаголете…
– У Нижнедевицку церкву порушили. Некому було застоять…
Постепенно разговор отстёгивается от церкви.
Мама в грусти уставилась в окно:
– На дворе прохладь… С Успенья солнце засыпает… Проводы лета… Отгуляло тепло… Гриша ругает меня: «Ты не умеешь мясо произвесть в дело!» Не отказуюсь. Не умею. Как котлеты сделать, шоб они путёвые были? Не умею… А и умей, Грише б лучше не было. И так раскис. Як баба.
И я поддакнул:
– Госпожа слониха вынашивает своего цесаревича двадцать два месяца. А Гриша баюкает неизвестно что уже два года.
Гриша ухмыльнулся:
– Ма! А Вы видели, как с чердака по столбу спускалась крыса на веранду, где я спал?
– То она смельчугу Гришу пугала, – пояснила мне мама шёпотом.
Гриша услышал и похвалился:
– Меня не испугают ни крыса, ни милиция.
29 августа 1986







