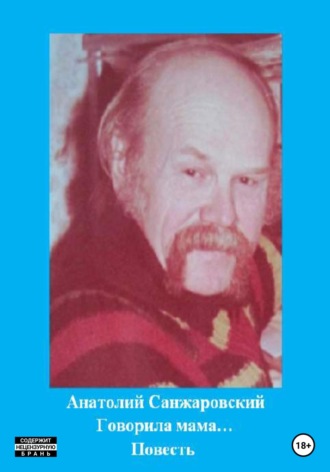
Анатолий Никифорович Санжаровский
Говорила мама…
Разные Гали
Галя, Гриша и я побрели по смирному солнышку в Кабаний лес.
Видели у одного за плетнём: огород сплошно усыпан тыквами. Даже не верится, что так много их может быть. И огромные. Как хорошие поросята. Земли не видно. Всплошку жёлто залито насыпными тыквами.
Набрали диких соковитых груш.
Возвращаемся. Передохнули в стогу сена.
Уже темнело, когда подскреблись к крайним нижнедевицким дворам и увидели маму.
– Хлопцы! – Голос у неё облит обидой. – Шо ж вы так довго? Вечер. Притёмки… А их нэма! Без малого не выскочила в милицию. Та передумала. Побигла встретить. А саму тревога щипае. А ну Гришу там кабан якый сердитый укусил? Шо ж тоди робыты?
– Ма! А почему кабан должен был укусить именно меня? – любопытничает Гриша. – Что, у него выбора нету? Нас же трое!
– Трое-то трое… Да кабаны ж не таки и бессовестни. Чего они будуть гостюшек кусать?.. Ну, слава Богу! Все в кучке. Целые… В хате крутишься, крутишься… Нипочём всю работицу не перекрутишь. Всю неделю, як в забое… Я вам первый раз приготовила рисовой каши с мясом.
– Это плов! – уточняет Галя.
– Да не знаю, – покаянно вздыхает мама. – Будете то ли вы йисты, то ли придётся отдать ласковой козушке Галюшке.
Гриша учудил. В прошлое лето купил пуховую чёрную козочку и назвал именем моей молодой жены. Намекает, что я женился на козе?
А плов всем понравился. Только слегка суховат. Мало было морковки.
– Галя! – говорит мама. – Как вы там, в той горевой Москви, окормляетесь?
– Роскошно, мам! – отвечаю я. – У нас царское трёхразовое питание. В понедельник, в среду, в пятницу.
– Ну вправде? – не отступает мама. – А как разбежаться по работам, вы завтрикаете или бежите натощака?
– По-разному, – уклончиво жмётся Галинка.
Мама показывает ей на меня:
– Ты ему не подчиняйся. А то раз подчинишься, он и вылезет на макушку…
Галинка выскочила в сенцы помыть ложки-тарелки, и Гриша ласково выговорил маме:
– Ну чему Вы её учите? Да где ж это видано, чтоб жена верховодила в доме? Или Вы не знаете, где жена круглошуточно верховодит, там муж по соседкам бродит?
Мама с усмешкой равнодушно отмахнулась:
– Да ну куда он денется? Побродит-побродит и вернётся.
Тут вошла Галя, и Гриша сменил пластинку.
– А вообще, – подал он постный голос, – есть помногу вредно. Одна молодуха у нас так раскормилась, что каравай репнул, как у лошади.
– Как у немецкой? – спросил я.
– Как у русской. И всё время хохочёт-ржёт. К кому ни придёт, сразу деревенская хата превращается в будёновскую конюшню.
30 августа 1986
Книга
Ещё прошлым летом я привёз нутряной замок. И Гриша всё никак не мог его вставить.
Я сегодня сам вставил.
Подаю маме ключ.
– Ма! Вот Вам ключ от тишины.
– Вот спасибы, сынку… Вотушко спасибы… А то Гриша уходит ли в ночь в смену иле приходит ночью со смены – я вскакивай. То закрываешь на крючок. То открываешь… А теперь сам откроет-закроет. Мне не надо вставать… Толька! Я всё забуваю спросить… Ты получил шо-нибудь за книгу?
Я уклончиво посмеиваюсь:
– Нет.
– Э-э-э… Сидел, сидел и ничего… Ты им большь не пиши. Свеклу вон полют за деньги. А ты книжки пишешь за так! Или тебе денюшки не нужны?.. В твои года… Ты ж четвёртый десяток таскаешь один-одиный выходной простюшкин кустюм! Цэ яка житуха?
– Советская… – грустно киваю я. – Зато я могу лишь смиренно повторить за святым апостолом Павлом: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть»… Да… Столько в одном костюмишке… Это ж в Книгу рекордов Гиннесса надо стучаться! Глядишь, занесут…
– Занесут не занесут… А за так ты им большь не пиши.
– Не могу остановиться, – отшучиваюсь я. – Разве рыбу отучишь плавать?.. Привык…
– Э-э-э, сынок… Привыкала собака к палке, сдохла, а не привыкла. Не пиши большь! Дали хоть бы ну полсотенки. А то ничё… Не пиши!
– Как же, мам, не пиши?.. Это моя жизнь… Мне уже сорок восемь. И половину из них я каждый день пишу. В стол наворочена приличная горка. Не печатают. Мол, не о том и не так поёшь.
– А ты, – огорчилась мама, – спроси у начальника, кто не печатае, как ему, чёртяке, треба писать?
– Не, мам… Тот издательский бугор мне не указ. У меня свой началюга… – Я положил руку на сердце. – Как мой нашальник говорит, я так и пишу. А вот издаваться… Неправда, когда-нибудь проблеснёт светлое времечко, и всё вырулит на так! Да и… Ну и сейчас не совсем же полный провал. С большими трудами первая серьёзная книга таки вышла в Москве, в солидном издательстве «Молодая гвардия»! Я в шутку-утку сказал, что за неё не заплатили. Почти пять тысяч отстегнули.
– Ну, так щэ можно писать…
– Долги раскидал. Остался в кулаке один пшик… А вбухал я в эту свою первую панночку-книжицу «От чистого сердца» лет пятнадцать!
– На такую книгу не жалко и двадцати, – отвесил Григорий. – Теперь я понимаю, почему Толстой шесть раз переписывал «Аню Каренину»… Ого сколько терпужил дяденька… А какому-нибудь Ваньке лодырю лень читать такой романище, и Ванькя ужал содержание – сделал короче названия книги. В восемь буковок ужал: «Аня, поезд!..» Трудный твой хлеб… Долгими годами сидишь корпишь над рукописью… Притащишь в издательство… И там какой-нибудь пайковый[44] хмырь, морщась, походя победно водрузит на ней крест, как знамя над рейхстагом… Ну, ничего… Начало заложено. Вышла первая книга. Хорошо! Пруд начинается с капли… Такое впечатление… Очень много ты работал над книгой. Иголкой копал колодец. И выкопал! Нельзя ни слова ни вставить, ни выбросить. Уже забываешь про содержание… Следишь не за содержанием, а за тем, можно ли ещё какое новое ловкое слово услышать от тебя. Писатель – слуга Слова. Ты добросовестный слуга… Хорошая книга! Разве Главсоколу до тебя взлететь?[45]
– Гм… Даже так? Конечно, явный перехлёст. Однако спасибо, брате, на добром слове, – пожал я ему руку выше локтя.
Работа
Мы с Галинкой нескоро поедем назад в Москву. Но мама загодя собирает нам «приданое». Кладёт в сумку мешочки с пшеном и в горечи роняет:
– Толька! Пшено у нас горьковатое. Хороше шиш-два привезут. Мы, остолопы, ездили в Воронеж. Муки сразу не взяли… И муки нету в нашем астрономе. Дожили… Надо Галеньке насыпать кабачковых семечек.
– Они столетние.
– О! Как ты боишься ста лет. Будет и тебе восемьдесят. Узнаешь, как оно работается чисто… грязно…
– Я до восьмидесяти не собираюсь волынку тянуть. В шестьдесят загнусь.
– Сынок… Люди тут в работу кислые. А драться… С двух слов кулаками перекидываются. Драчуки!.. Ты работу себе поденьгастей не наискал? Тебе хоть сто рубчонков в месяц обходится? Гриша получает восемьдесят. Работёнка у нашего дремуши!.. На жопе музли понабивал! Двадцать шесть лет к нему на завод ходю. Ни разушки не застала, шоб он хоть шо-нибудь путящее в руках держал. Хоть той же молоток! Или щипцы… Привсегда сидит-спит на лавочке. В открытую дверь уныло гудит якась машина. Спать мешае.
– Ну зато гудит! – защищаю я Гришу. – Машина работает. А он следит, чтоб работала. Компрессорщик же!
– Я там понимаю… У Митьки работёнка… Варють железо… Може, наглотался… Тилько отскакуе… Почки в камнях. Махнул в Воронеж. Шо ему скажуть?.. Погано живемо… И в Евдакове… Скрозь нам в сараях угловые комнаты… Ты б работёху налапал хоть бы на кислую сотнягу в месяц. Скилько получаешь?
– В восемьдесят пятом как получил за книгу и всё.
– Три годища ничё?!
– Ничего.
– О! Погано! Ты б искал, шоб в каждый месяцок подбегал прибыток… Начальником хуже быть. Начальник отчитуйся перед каждым. А то… Григорий пришёл, картуз кинул на крюк и отчитался.
21 июня 1988
Хирург и знахарка
Нет безнадёжных больных. Есть только безнадёжные врачи.
Авиценна
«Бесплатному врачу никогда не докажешь, что болен, а платному – что здоров».
Медицина так быстро ушла вперёд, что многие не успели вылечиться.
Михаил Мамчич
– Ну что, мам, к врачу завтра сбегаем?
– Оюшки, эти врачи… Как ловко сказал один умный дядько: «Порой не так страшна болезнь, как лечащий врач». Я пошла бы к бабке к одной на Гусёвку. Там була наша главная докторица. Як мне раз подмогла! Да большь не поможет. Примёрла… А к больничнику с чем идти? На лбу корка слезла. Крови нема. Як проситься в Воронеж? Будь врачица, выписала б какой мазилки. Оно б и счистилось… А то та Зиновьева и на врача не похожа. Мелкая, злая, як собака. Конопата… Свиней бы тилько пасти. Двум свиньям щей не разольёт. А она, бачь, врач!
– А болит-то как? Ноет или как?
– А собака его зна! Болит и всё!
– Давайте свожу к врачу. Районная поликлиника под носом. За нашим же огородчиком!
– Нашёл к кому идти! Эти врачи по три стулки позахвачувалы. А шо они понимають?
– Их же учили чему-то?
– Жабам глаза колоть их учили! У моей одной подруги дочка замужем за хирургом в Воронеже. Так он похвалялся, как стал хирургом. В детстве, рассказывал он, моя уже взрослая сестра прятала заначки в куклы, а я их резал-сшивал, резал-сшивал… О таки они хирурги!.. По дури выпишут какой-нибудь трыньтравин иль лошадин. А ты и охай… У каждого ж врачуна свое кладбище! Вон лет пять назад шла на низ. У себя на порожках подвернула правую ногу. Повёл меня Гриша к хирургу. К самому к Миките к Ванычу. Этого Фролова кто похвалит, а кто и матерком обточит… Для меня он плохый. Кунечно, всем не угодишь. На весь мир не испечёшь блин. До кого обратится хорошо – хороший. До кого плохо – плохый… Напухла нога. Стою. Смотрел, смотрел на ногу. Будто никогда и не видел. А нога пухлая. Как мешок! Даже к ноге не притронулся! Он сидит – я стою. Он говорит – я слухаю. Смилостивился, пальцем ткнул в ногу. Палец тонет в пухноте. Як в тесте. Шо-то пописал. Суёт листок: «Вот тебе таблетки. И парь, и парь, и парь!» Пью. Парю. А оно щэ хуже. Нога вся уже в пятнах. То жёлтые. То синие. То чёрные. Нога щэ толще. Застекленела. Хоть как в зеркало дывысь. А болючая! Нипочёмушки не усну. Хоть ну на стенку дерись. Через неделю повёл меня Гриша снова. Попали к другому хирургу. Этот послал на реген. С регеновой карточкой потом снова к Миките. Микита: «Вот тебе ещё таблетики. Но парить ни в коем случае!» Во! Бачь, он забыл свои слова. Перевернул кверх кармашками. Микита той, нога тая. А слова другие… Что ж ты, паразитяра, делаешь? То парь. То не парь! Или я тебе скотиняка? Я не знаю, куда со стыда деть глазоньки. В карман не положишь… Со стыда у меня глаза из лоба вылезают. Будто это я, а не он мне говорит. А спросить в лицо не смею… Не пиши… Ещё до него слух добежит. Бахнет куда надо!
– Вы чего так боитесь? Вы что говорите? Куда надо-то?
– Они тамочки знають! – И она испуганно прошептала: – Посадють! Та ты не пиши, Толька! Брось ото! Намекнёшь всем… Другая, смелая, спросила б, что ж он раз так, раз тако поёт. А я – ком страха…
Повернулась, заплакала я навозрыд и шкандыбаю назад.
А боль такая пекучая сочилась…
Навстречу бабка с Гусёвки. Знакомка.
– Ты чего, Михалиха, – кричит, – летом на лыжах ползёшь, в слезах купаючись?
А я и в сам деле, как на лыжах, шла. Ног от земли не оторву. Волоком то одну протащишь, то другую.
Я распела ей свою беду. Она в ответ:
– Ладно… Бывает и хуже. Только реже… Не ходи ты большенько к тем коновалюкам! У ниха в груди заместо сердца болтается дохлая зелёная жаба. Врачуны – это ж такая врагокосилка… Они тебя под Три Тополя быстренько со своими дипломатами[46] сопроводят… Да что толковать про нашу деревнюшку? Вон по самой Москве… Там у меня брат. Восемь уже десятков годов наскрёб… Ночью приезжала скоряшка. С воспалением лёгких хотела отвезти его в стационарий. Не поехал. Все бумажки передала скорая в братову полуклинику. Он и сам звонил в ту свою полуклинику. Звал в помочь. И что ж ты думаешь? Участковый врачок Максимка Зосимов не пришёл! С неделю он раньше приходил. У тебя орви, урадовал. Выписал таблетки. А для контрольности и разу носу не показал. Вот с «помощью» Зосимова братка и влетел в воспалёнку! Как теперь скрыть свою преступную расхлябку? И стал он ловчить. После скорой он пришёл по вызову. Звонить в дверь не стал. Зато сунул в дверь записку «Приходил врач, не открыли дверь». И зайцем умотал. По вызовам он ездит надушенный, на своей машине. А все вызовщики живут не даль триста метров от полуклиники. Братка не будь дурак, позвонил в окружную власть и Зосимова пригнали. Оправдывается: «Вы не открыли!»
– «Сам вызывал и не открыл? Так позвони по мобилке, торчала у носа из нагрудного кармана… Ваш диагноз?»
– «Не воспаление лёгких, а пневмония». А в карту лукавец ахнул: «Диагноз: прежний». Это что за хворь такая – прежняя? Новая? Заметает следы… Придти к больному с воспалением лёгких, постоять у входной двери и сбежать? Кто за такое по головке погладит? Ну не фашистюк этот Зосимов? А сколь их с дипломатами таких? Держись от них поодаль… Сделай так. Налей полный таз воды горячей и мыль, мыль, мыль, мыль, мыль ногу не тем мылом, что умываемся. А тем, каким стираем. Чтобушко пены по-царски высокуще было! И парь.
– Долго?
– А пока не уморишься.
Я попарила и тут же боль отрезало.
Я уснула. Всю ночь не прокидалась. Как молодая.
Утром смотрю… Нога опала. Оттухла. Кожа свисает гармошкой… С тех пор нога большь не болела. И разу не взялась болеть. Вот и думай, куда идти? Я б на радостях побегла к той хирургинюшке бабке. Да вжэ помэрла. А к врачам идти как? Так налечат, что без головы останусь! И подумать нечем будет.
И всё. Большь не пиши.
22 июня 1988
Мороз
– Купила в овощном капусту. Наверно, парниковая. А у нас на огороде у неё щэ и листа нэма.
– Это у Вас.
– А морозяки яки чесали! – находится мама.
– Где-то были. Где-то нет.
– И это правда. Два помидора в одной лунке. Один убитый. Свалился, як варёный. Сварился на морозе! А другой стоит!
23 июня 1988
Еда
У колонки, что на углу соседнего барака, набираю воду.
– Холоднячка попить бы! – на подходе поклонился прохожий мужик.
Я тихонько лью ему из ведра в ковшик из тяжёлых ладоней. Он с присвистом пьёт.
Дома мама с постуком режет капусту и спрашивает:
– Толька! Шо готовить?
– Мне ничего не надо. Холодной воды попил… Мало будет – попью на второе горячей.
Мама довольно:
– Яка туга капуста! Ты пойняв! Зимой така туга не бувае.
Сборы
– Толька! Ты куда сбираешься?
Я киваю в окно на сарай, из-за угла которого сиротливо выглядывал наш кривой скворечник:
– В туалет.
– Ну шо его так рано бежать? Вареники с сыром простынут. Подожди трошки. Поешь.
– Ма! Да ну куда я иду?!
– И куда?
– В туалет.
Мама смеётся:
– О! А мне отслышалось – в сельсовет.
24 июня 1988
На картошку
Бегу на огород окучивать картошку.
С милой подружкой тяпкой.
И с литром молока себе и с литровой банкой вареников Грише.
Он убежал раньше.
Спешит всю влагу укутать в картошку.
Я иду и напеваю своё:
Простудила Галя горло.
Заболела. Ой-хо-хо.
Денёк третий я рыдаю
Под окошком у неё.
Нобелевскую премию мне. Не проносите мимо!
24 июня 1988
Благодарность за проигрыш
Мы с Гришей смотрим футбол.
Идёт концовка.
– Ну, кто проиграл? – интересуется мама.
– Наши.
– Э-э! Докомандовались. Мы да мы! Дерутся тилько страшенно.
Комментатор Перетурин:
– Не хватило чуть-чуть удачи!
– Хороши чуть-чуть. Ноль – два!
Перетурин знай гонит пургу:[47]
– Спасибо нашим игрокам за хорошую игру! Сегодня голландцы были чуть лучше. Хорошо использовали наши ошибки. Поаплодируем голландцам! Поаплодируем и нашим ребятам!
– Шо вин молотэ? – удивляется мама. – За шо аплодировать? Ай и брехливый дядько! Нашим же два мячика закатили!
24 июня 1988
Бюрократ
Гриша лежит на диване. На полкомнаты задрал левую ногу на согнутую коленку правой ноги. Крутит в атмосфере голой ступнёй.
И важнюще философствует:
– Людаш, младшая Митина дочуня, близко выскочила замуж. Два локтя по карте!
Он смотрит, как мама заворачивает в газету заплесневелый кусок хлеба. Советует:
– Да выбросьте в ведро!
Мама серчает:
– Разве можно хлиб кидать в поганэ ведро? Отнесу положу в огородчике. Птички, може, склюють. Ты б, Топтыгин… Да зарубай ты курицу!
– Дай отдохнуть. У меня сегодня законный выходной.
Ну и Гриша…
В день моего приезда на мамин призыв отчаяния он кинул:
– Ещё успеем. Дай отдохну перед работой. Потом…
Если просьба звучала после смены, он менял пластинку:
– Я вкалывал! Дай хоть передохнуть!
Это длится уже неделю.
Не бюрократ ли мой милуша Гришатулечка?
26 июня 1988
Очередь
Я подаю Грише кипу бумаг:
– На пуле тащи этот бесценный груз на завод! Сегодня предместкома выкатилась из учебного отпуска. Хорошо, что я сходил в райисполком, взял у Кирюшиной все бумаги. Сказала: разнополых из одной комнаты ставим на учёт при любой жилплощади. Не валяй ты дурочку. Ещё двадцать шесть лет назад мог бы получить новую юрту! Ждёшь, когда братка дело подтолкнёт. Не телись. Дорога ложка к обеду. А после обеда хот выбрось. Бегом с бумагами в местком!
– Мне спешить некуда. У меня ещё тридцать лет впереди!
– А в заду сколько?
– Пятьдесят три.
Я нечаянно облился. Вытер колено полотенцем.
– Мы, – выговаривает Григорий, – полотенцем лицо вытираем. А он – шлюз!
– С каких это пор колено стало задницей?
– На дворе, как в печи, – печалится мама. – Така жара! Токо шо полымя не схвачуеться… Но со стороны святого источника «Неупиваемая Чаша» улыбаются нам маленькие тучки…
Неожиданно надбежал, наведался к нам дождь.
Я пошёл в огородчик за сараем окучивать под дождём помидоры.
27 июня 1988
Мамины заботы
По телевизору выступают ложкари.
– Ложки побьете! Чем борщ станете хлебать? – укорно допрашивает их мама.
Они не слушают её. Знай поют своё.
Один:
Укусила меня муха.
Не ходи по молодухам!
А второй:
Ускорение, перестройка –
Беспокойные слова.
Перед этим у кого-то
Заболела голова.
28 июня 1988
Церковь и свёкла
– Пятого, – объявляет мама, – еду в церкву.
Гриша чешет в затылке:
– На открытое партсобрание? Как бы Вас из церкви не укатали на прополку свёклы?
– Не увезут! Мы своё отпололи. Шо нам, по тридцать? Это молодь хай полет! А то уха золоти, штаны шёлковы… А мы в молодости ходили босяком… Пятки в кровь порепаются… Как сказано? Своё счастье не обойдёшь, не объедешь. А покорно поклонишься и пойдёшь.
29 июня 1988
Живуха
Мама нечаянно наступила Грише на ногу и улыбчато шепнула мне:
– Як собака я. На шкоде и живу… А молоко у нас сселось, як ремень!
Гриша ест мясо с хреном.
Мама:
– Кряхтишь, как Ванёк. А где он?
– В детдом отдали.
– В престарелый дом… Там говеть не дадут.
– Но и раздобреть не дадут.
– И помолиться не пустят. То не живуха… У каждого свой Ерусалим…
3 июля 1988
У Зиновьевой
Еле сводил сегодня маму к дерматологу Зиновьевой.
Мама не хотела идти:
– Ну с чем идти? Хирург сказал, если с этим посылать в Воронеж, нас всех разгонят!
– Второй же год на виске язвочка болит!
– Поболит и раздумает!
Медсестра берёт у неё кровь на анализ:
– Что, бабуль, не с кем жить? В престарелый дом коньки точишь?
– Что она там забыла? – зло бросил я. – Просто язвочка на виске. Врач послала на кровь.
Мама с ваткой пришла домой.
– Не мочите то место, где брали кровь, – напоминаю я. – Вам нельзя работать.
Мама великодушно соглашается:
– Ну, буду вэсь дэнь болеть!
Она разулась. Босиком стоит на ледяном полу.
– Ма! Ваши ноги не боятся холодного пола?
– Наши ноги не боятся ни холодного пола, ни милиции, ни тучи, ни грому.
4 июля 1988
Горбатая посылка
Мама зашивает посылку с яйцами нам в Москву.
– Какая-то она у Вас горбатая получилась, – заметил я.
– Та там чи цилувать кто её будэ? Пиши адрест аккуратно. Гляди, не напутляй там!
4 июля 1988
Бесплатная грязь
– Ма! Да не возите Вы эти яйца на продажу в Воронеж. Сколько мороки! В грязи…
– Грязь нам бесплатна. Свинья всю жизнь роскошно валяется в болотине, а по пять рубчонков за кило врасхват беруть!
4 июля 1988
Отъезд
Пошёл дождь.
Я уезжаю. Мама:
– Ну, как? У нас воздух не лучше?
– Лучше. Особенно когда пролетит машина.
– И это верно. Як даст газу, так с ног валишься.
– И пыль. Неба не видно… Ма, приезжайте к нам. А то только мы к Вам с Галей ездим.
– Да как его ехать? Годищи такие… Оха, сыночок, ну до чего ж это я такая жадовитая… И не заметила, как по жадности нахватала полный чувал годов… Одной не дотащить… И чем старее года, тем злей да поганее… Их восемь десятков!..
– Вам всего-то лишь двадцать!.. Осталось до ста…
– Их восемьдесят. А я одна. Доищись с ними ладу… Сама себя боишься. Як такой в дорогу кидаться?
Гриша отбывает в смену. Попутно несёт мне руку:
– Держи лапочку!
Мы обнимаемся. Целуемся.
Простукиваем друг дружку по спинам.
– Может, Толик, что и было не так… Забудь! Всего тебе хорошего.
– И тебе.
– Да что мне… Как велено? Не откидывай работу на субботу, а любовные скачки на старость. А я, дурак с придурью, отложил. Что поделаешь… Ну явный сдвиг по голове… Всё гордыбачился. «Не кидай на завтра то, что можно перекинуть на послезавтра»… Добросался… Ничего… Через два года выпаду на пенсию. Буду свободен, как Бог на небесах. Ух и загулляю!
– Да-а… За тобой угнаться, надо разуваться.
Мама даёт мне двадцать рублей:
– Купи Гале конфет и передай привет. Привет передай и свашеньке, низэсэнький та хороший.
5 июля 1988







