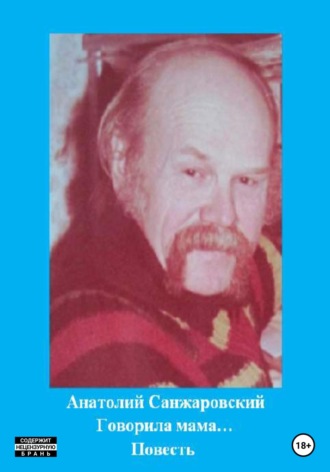
Анатолий Никифорович Санжаровский
Говорила мама…
С дороги
Выскочили мы с Галинкой в Нижнедевицке из автобуса, огляделись и увидели маму. Она стояла в сторонке и сиротливо смотрела из-за тоненькой берёзки на сыпавшийся из автобуса люд.
Мы незаметно, по-за чужими спинами, подошли и с поклоном поздоровались.
После объятий-поцелуев все втроём побрели к себе на Воронежскую, 22.
– Та Толенька! Сыновец! Та Галенька! Та откудушки ж вы? – в изумлении причитает мама. – Из дома иля с дороги?
Раньше я часто приезжал к нашим с командировкой. В редакции какой-нибудь газеты или журнала обговаривали тему и мне выписывали командировку. Суточные, проездные… Всё какие копейки набегают. А нищий и копеюшке рад.
Так за эту копеечку надо отрабатывать.
При встрече я говорил маме, что здесь я проездом из Москвы в какую-нибудь деревнюшку под Нижнедевицком. Это удручало её. Значит, отпуск я буду рвать и на встречи с теми, о ком собираюсь писать. А это время, отнятое у мамы. И она на мой ответ всегда вздыхала:
– Значится, с дороги… И мимо нас…
Я спешу её успокоить:
– На этот раз никуда из Нижнедевицка не придётся уезжать.
– Так-то оно сподручней… А я… Стыдно сознаться… Я ходю вас встречать круглый год. Знаю, не приедете… А иду за хлебом, на станции постою подожду воронежский антобус. Знаю, вас не будет. А всё одно… А то… Учора уехали. А я сёдни бегу к антобусу. А ну Толенька шо забув, возвернулся, я его и встрену. Во такая у меня вечная путёвка крутится. А сёдни, бачь, первый раз совстрела по нечайке. Дуже соскучилась, детки. Боженька и пошли вас ко мне…
28 августа 1991
Картошка
Мама просит Гришу сбегать на огород подкопать картошки.
– Туда все четыре километрища! – упирается Григорий. – Под Першином… Сегодня с ночи отдохну. А завтра накопаю.
До вечера он проспал на полу после ночной смены.
Ударил дождь.
Мама жалуется мне:
– Шо в дело – ладно. А то… Солнце светило. А он – завтра! Шо вин такый упрямый? Мозги у хлопца крепостно стоять на месте. Но часом наш парубоче такие отмачивает штуки… Как шо скаже – тилько шоб по его. Вин такый. Всё до схочу. А не схоче, упрётся, як той бык в нови ворота. Захочет – на стеклянну гору возбежит. А не захочет… Вот такое выскакивает. Всё ноет: не порть мне день, дай отдохнуть. Переработался! Тридцать лет на молоканке.[48] Когда ни приду, сидит на лавочке под компрессорной. Музли на сиделке во таки наработал! – Мама вскидывает вместе сложенные кулачки.
Наутро дождь разгулялся ещё злей.
В буйстве суетится под ветром.
Гриша расстроился.
Наклонился за тумбочку с телевизором.
За компанию глянул и я туда.
Маменька! Там с десяток чекушек «Русской»!
– Зачем тебе столько?
– Не мне. А трудовому ёбчеству. Табуретовка – стратегический продукт. А ванки[49] цены не держат. Выкопал картошку. Привезти – гони бутылку! Уголь со склада подкинуть – бутылку! Покойника под Три Тополя не сплавишь без бутылки!
– Во живуха… – печалится мама. – С утра распечатаешь?
– А зачем я наклонялся? Для голой гимнастики?
Он выловил одну тонкую бутылочку. Вилкой сковырнул белую нашлёпку. Набулькал в рюмочку и со смехом подаёт маме:
– Ма! Примите душу на грех. Одну грамульку!
Мама отмахивается обеими руками:
– Иди ты, топтыга!
Он подаёт мне. Не беру и я.
Гриша со смехом поднимает выше стаканчик:
– За ваше здоровье, достопочтенные господа трезвенники!
Всю рюмку тщательно слил в рот, потряс рюмку над раскрытым ртом, рачительно постучал указательным пальцем по заднюшке рюмки – не осталось ли чего? – и одним глотком степенно прогнал горючее по тракту вниз. И не забыл державно крякнуть.
– Хор-роша!.. Как крякнул, значит, выпил. Покрякаю, пока гостенька. Что интересно, месяц же не измерял градус![50] Совсем запустил важное дело.
– К чему такие бесплатные муки? – допытываюсь я.
– Да она сама почти бесплатно. Да при живом госте! Раз гостюшка на порог, как не разгерметизировать фунфырик? И чем дольше гостюня, тем масштабней разгуляй.[51] Люблю гостей!
Я со страхом жмурился: метелил он «Русскую» как воду.
Один убаюкал бутылочку. В ней 350 граммов.
– Теперь шо, – подгорюнилась мама, – лягать будешь писля ночной смены?
– Меня, ма, чтоб уложить, надо вломить семьсот генеральских грамм. А я принял только полнормы. Маловатушко оприходовал. Ни туда ни сюда.
Умял он полкурицы, поджаренной с лучком.
Налегает на борщ.
– Есть надо, когда хочется, а не по режиму, – рассуждает вельможный пан Григореску. – Вон ма восемьдесят лет нажила. Режим не держала. И не жаловалась.
– А по тому режиму и забудешь, як едять, – поддерживает мама.
– Курицу вдвоём утром умолотили и готов склероз. Забываешь, что обедать надо. Самое полезное куриное мясо. А самое тяжёлое – жирная свинина. Зато много калорий. Если хочешь когда лезть на гору, ешь свинину. Выползешь.
Он съел тарелку борща.
Подмигивает маме. Руку к виску:
– Товарищ командир! Докладываю! Рядовой Санжаровский стрельбу окончил!
– На здоровьячко! – мама в грусти смотрит на дождь за окном. – Луку натаскали. Помидоров натаскали. Наварила томату пятнадцать литров… Готовы к зимушке. Да… Уже… Сёгодни Хлебный Третий Спас, готовь рукавички на запас. Проводы лета… У Спаса всего полно в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье… Озимые досевают… Ежли вовремя не отсеяться, лишь цветочки уродятся на следующий год. По слухам, с севом уклались в срок… Хорошо. Господь дождю прислал…
– Кому хорошо. А кому и не очень… – Гриша тоскливо смотрит на окно в капельках, ложится на вчетверо сложенный ковёр на полу и поднимает глаза на телевизор. – Хоть ноги вытяну… А то всё спал в сенях на старом диване. Ног не вытянешь… Скрючишься, как ребёнок под сердцем у матери.
Скоро Гриша засыпает.
Мама воровато поглядывает на него и шепчет мне:
– Толька! Скажи, шоб наш комиссар побрился.
– Я сам небритый.
– Да зовсим шоб… Шоб бороду вчисте с царской должности снял!
– Какие строгости…Хотя бывали строгости и покруче. Есть на телевидении передача «Клуб весёлых и находчивых». Так КГБ, наша дорогая госбезопасность, «потребовала, чтоб участники КВН не носили бороды, усмотрев в этом насмешку над коммунистическим идеологом Карлом Марксом».
– Во! Во! А про Гришину бороду ничё нигде не написано? Ни над кем она не насмехается? Шоб счесать её разом?!
– Да вроде она никому на верхах не мешает… Только один Сяглов, генсек нижнедевицкий, тоже на Гришину бороду точит тупой зуб… Нашлась коту забота…
Сквозь сон Гриша трудно и экономно приоткрывает один глаз.
– Ма! Прекратите там чёрные пропагандистские подстрекательства…
– А на шо тоби борода? Шо, она тебя кормит?
– Согревает одинокую счастливую старость, – тускло усмехается он. – Что Вам далась моя борода? Хотите сказать, борода не делает козла священником? Так я не рвусь в святые батьки…
Мне жалко его. Был бы никчёмыш… Так нет. Стоумовый. Красивый… Парень куда надо! Подрежь волосы – ну совсем же юныш! А уже пенсионер в неполные пятьдесят шесть. Ведь компрессорщики маются с аммиаком. Соскакивают на пенсию в пятьдесят пять. Как женщины.
– Дуну-ка я Вам за картошечкой! – вдруг выпаливает Григорий.
– Та ты шо!? – в панике тычет мама на бегущие наразрыв по оконному стеклу струйки. – Там дождюра поливае як из рукава! Лучше щэ ляпни триста пятьдесят до сна и спи!
– Это уже взятка! А взяток я ни с кого не стряхивал. Вообще не беру! Иль что, – недовольно бурчит он, – я какой алик? Пью так… Для разогрева аппетита.
– Чем по такой сыри комкать четыре километра, лучше выпей и спи без задних гач дальше.
– Напугали! Я Вам говорил и повторю, где-то слышал. «Водка – враг народа, но мы, русские, врагов не боимся»!
– Смеля-як! Тогда ото выпей до ваньки-в-стельку да спи.
– Не гоните, бабунюшка, лошадок. Ещё не вечер.
Мама ставит бутылочку у изголовья.
Гриша доволен. Оправдывается передо мной:
– Будь я бухарик, разве б припухало на боевом дежурстве у меня под столом и в холодильнике десять бутылок? Заботливый!.. Ты знаешь, как определить, что мужик начинает беспокоиться о своём будущем? Это когда он вместо одной бутылки берёт, как я, целый ящик! Стратегический продукт в деревне! Мать вон даже взятку даёт водкой! «Истина в вине, а правда – в водке»! В деревне водка ка-ак выручает. Пробить что – только огнетушителем-пушкой и прошибёшь! И чем больше литро-градусов на рыло, тем надёжней!
Он одевается и направляется к двери.
Мама ловит его за рукав:
– Та куда тебя чёртяка понёс, не подмазавши колёс?! Иля ты без начальника в голове?
– Бабунюшка! Озороватушка! – похохатывает он. – Не приставай. Не напрягай меня… Отпусти. Тебе ж лучше. Сама просила картошечки накопать. Вот я и иду.
И он пропадает в распято хлюпающих сумерках.
29 августа 1991
Рядовая
Гриша вернулся с ночной смены в восемь утра.
– Мы тута досиделись до краю! – жалуется ему мама. – Нечего было и разу попить. Спасибо, наносил Толька воды. Пей до утопа!
– Это Вы пейте!
Мама со смехом подносит руку к виску:
– Слухаюсь, генерал Топтыгин! Хотела до вашего прихода открыть курей. Да проспала. Извинить, Григорий Никифорович!
– Извиняю!
– Разрешите идти открывать курячий кабинет? – смотрит она в окно на сарай.
– Идите, рядовая Санжаровская.
Мама снова на усмешке подносит руку к виску:
– Слухаюсь! – И уходит с ключом.
На ужин мама сварила борщ. Ну кто вкусней мамушки сварит?
Мама ест и посматривает на кастрюлю с молоком на плите:
– Надо смотреть, шоб не марахнуло.
Гриша по серьёзке закрывает входную дверь на крючок.
– Шо ты ото делаешь? – недоумевает она.
– Закрываю покрепче дверь. Чтоб молоко во двор от нас не удрапало.
30 августа 1991
Цвет денежку берёт
Мама принесла с базарчика красных яблок.
Я вывалил глаза:
– Да зачем Вы их взяли?! У Вас же в садочке свои яблоки валяются. Белые, рассыпчастые. Золотко! Ну на что ж Вы набрали этих красных камней?
– Свои не такие… А эти красивые. Я и укупи полный салофан.[52] Сыночка угостить…
– Мне свои больше нравятся.
– А эти красивше. Цвет денежку берёт…
Я замолчал.
Вскоре снова шатнулся попрекать её.
– Да тебе или денег жалко? – возразила мама. – Я ж не работаю. А пензия аккуратно бегает. Кажно третье число бесплатно приносять по сто двадцать семь… И на базаре два дурака… Иду. Незнакомка бабка киснет под дождём. Скрючилась. Мокрая. Никто её падалку не бэрэ. Я и укупи для почина на руб. Козе отдам, если ты не хочешь. Коза сжуёт и спасибо скажэ. Не то шо люди.
Я помыл красное яблочко. Откусил.
Ну не прожевать! Дерёт горло.
И нипочём не пропихнуть в себя.
– Ничего, ма… Как говорят, спелое яблочко вниз упадчиво. Есть можно…
– Ну видишь! А ты говорил…
И глаза её теплеют.
1 сентября 1991
Утренний трактат о здоровье
Мама кашлянула со своей койки из-за печки.
– О! Паразитство! Это я учора холодной воды нахлёбалась.
– Зачем же пили?
– Не знаешь? – Она стучит себя кулачком по виску. – Ума нету и пила. Эту холодную пьянку надо кончать. Здоровье – всё наше золото! Когда ты здоровый, ты самый богатый. И поесть, если е шо, поешь. А нету, воды холодной с хлебом-солью чекалдыкнешь и побежал дальшь. А нэма здоровьюшка – как обворовали. Без здоровья беда-а. Эту беду слезами не замоешь… Вон покойный Ягор, меньчий мой брат, сразу за мной родился… То ли печень болела, то ли ще шо унутри. Всё по курортам патишествовал. Раз приехал с курорта. Я и пытаю: «Ну, Ягорушка, теперь вже не болит?» Заплакал Ягор и стелет: «Полюшка! Я все курорты, все пляжи объехал. Ни на каких курортах, ни на каких пляжах здоровья не продают и так не дают. Ни на каких курортах здоровья не выпросишь. Не украдёшь. И крыхотку не ущипнёшь…»
Такой крутой дефицит запечалил её.
– Охо-хо-хо… Умирать всем не миновать. Страшное дело. Бывало, пронесут кого мимо наших окон. Увяжусь за людьми. Схожу на похоронку под Три Тополя. Боюсь… Як зачнуть землю на гроб кидать. Глудки бух-бух-бух. Гляди, гроб пробьют и человека убьют. Это как вытерпеть?
– Мёртвому всё уже по сараю.
– Ага! Через два двора, ближе к кладбищу, жил Жора. Перепил и застрелился.
– Холодной воды перепил?
– Если б воды, бегал бы и зараз… Перед смертью он во дворе цементировал. Осталась одна дорожка… И приснилось его дочке Тамаре… Вернулся батёка доцементировать дорожку. Цементирует. А дочка и цепляет вопросом: «Папка! Как ты к нам пришёл? Как ты там живёшь?» – «Как я живу… Я лежу в тёмном… А за стеной колокольчики играют. Цветы цветут. Я стучался и просился. А меня туда не пускают».
– А ты думаешь, – продолжала мама, – простучали комки земли по гробу и всё? Все мы будем в аду. Потому что не молимся Богу.
– Вы-то не молитесь?
– Разве то моленье? Спаситель как сказал? «Вы меня чтите языком. Но сердце ваше от меня далеко». Будем стучаться и проситься, где колокольчики звенят и цветы цветут. Только кто нас туда пустит?
– Тогда лучше и не начинать кашлять.
Мама не поняла, к чему я прошуршал про кашель, и деловито даёт совет:
– От кашля люди пьють на сон чай с малиной и натирають ноги спиртом или деколоном.
– Как же Жора перепутал глотку с пятками? Плесни водочку не в горло, а на пятки, до сих пор бегал бы, как ртутик.
1 сентября 1991
Куда уходят годы?
Вчера у мамы разболелась голова.
Гриша подаёт ей какую-то таблетку.
Мама не любит лечиться. Отмахивается.
– Берите и пейте! – настаивает Гриша. – А то голова будет ещё сердитей болеть.
Мама сдалась.
Выпила и запечалилась:
– Такая толстая твоя таблетка… Як кулак! Еле силяком проглотила. Будет теперь во мне год киснуть.
Сегодня я спросил её, как голова, раскислась ли таблетка.
– Та голова смирней стала. Лекша… Или таблетка боль обломала?.. Голову треба берегти. Голова, як торба. Шо найдёшь, то и спрячешь в ней… Надо головушку берегти…
– А над глазом краснота не вся сошла.
– Да бывает… То под глазом покраснеет, то на руке.
– Аллергия?
Мама морщится, машет рукой:
– Токо и осталось на твою лергию посматривать! Шо ты хочешь? Девятый десяток! Или вот щэ восемь десятков разбежаться отжить? Не… Не получится. Совестюшку надо иметь… Век сжить не шапку сшить… Когда эти восемь десятков промигнули? Не то днём, не то ночью? Кто и зна, когда они шли. Не бачила… Не то днём, не то ночью… Всё навроде хороше… Есть чего поесть-надеть. Одно погано – годков дуже багато…
2 сентября 1991
То разлука, то любовь
Любовь – это нервная болезнь: сначала в любимом человеке вас всё волнует, а потом всё раздражает.
К. Мелихан
Иду в Гусёвку.
Навстречу державно вышагивает знакомый мужичок.
Ваня-струкуток.[53]
Ване уже за пятьдесят. Пасмурный.
– Чего такой смурый? – смотрю я на свёрток у него под мышкой. – Или ты, аварийная душа без ветрил, с бой-развода дрейфуешь?
– С разво-ода… Удалой долго не думает. Допекла халала. Ну никакой же тебе уважухи! Сменные штаны, рубашку под руку и в святой путь к своим батьке с маткой. Хорошо батьке. Он женился на своей доброй матке. А я, башка с затылком,[54] ну чёрте же на ком!.. Однакушко хорошо и примаку. Есть куда сплыть отдышаться.
– И долго ты, половецкий плясун, будешь отдыхиваться?
– А это уже как укоськает. Через недельку так побегить ко мнешке напару с кислушкой[55] убазаривать.[56] А я, пан Громушкин, не сдамся как голенький. Я ещё наистрогие прынцыпы выдержу. С год и уманежу. Потом, глядишь-ко, из милости отступлюсь и возвернусь к своей ненаглядной Дидоне.[57]
– Сколько раз, пан Громушкин, уже уходил?
– Я тебе по чесноку[58] скажу, как… Тут у нас на базарчике торгует виноградом один закопчённый труженишка с Востока. Трясёт гронкой, созывает покупцов: «Я парень чесни, хоть и не местни. Мой винград лучша всеха! Подходи – вешаю бэз очередь сразу!» А я хоть и местный, но скажу честно… Никогда не стареющий неунывака ветер аккуратно носит меня по земле из края в край… Бережёт… Ухожу уже десятый раз. Ебилей! А вот вернусь ли? Кто за меня скажет?
– Я знаю, вернёшься. Ты не устал туда-сюда катать одно и то же колесо? Не надоел тебе этот китайский шахсей-вахсей-бахсей?
– А почему надоел? Это не надоедает. Даже в интерес в большой я въехал. То разлука, то любовь… Рома-антика… Как молодята… Знаешь же, разлука для любви, что ветер для костра. Сильней разжигает!
3 сентября 1991
По картошку
А Нижнедевицк будто вымер.
Ещё затемно вёдра, лопаты, вилы разбежались во все стороны.
На картошку!
Мы с Григорием рано встали.
Да свели на позднее.
Уже за семь настучало, когда мы пошли.
Ветрогон пыль на дороге крутит, по красному лету со стоном рыдает…
У рыбного магазина нас подхватил на мотоцикл наш милый соседушка синеглазый кудряш Алёшик Баркалов со странным прозвищем Адам:
– Я свою девку отвёз в школу за двойками. С утреца пораньше уже сделал одно благое дельце… Мне, жмотоциклисту, всё равно тут по своим делам му-му валять до девяти. Работун из меня… Раз по пальцам, два по яйцам… А вижу, вы шевелите помидорами.[59] Чем без дела гавов ловить, лучше, думаю, доброшу вас к огороду.
Алёша подал мне шлем:
– Надевай малахай!
– Зачем?
– При аварии чтоб вульгарно не окропил умными мозгами меня с отцом Григорием.
– Ты, вихревей, слишком грубо мне льстишь! – хохотнул я. – Ты всерьёз считаешь, что у меня есть что разбрызгивать?
– Без митинга надевай малахай! И будешь, как господин 420.
– А без малахая нельзя пробиться в господа?
– Без малахая можно прибиться к штрафному стольнику. Зачем нам такие барыши?
В Разброде мы раскланиваемся с Алёшей и по полю ещё долго бредём к своей делянке.
Люди уже давно выбирают.
Стыдно глядеть в глаза. Во сони ползут!
Ну ёханый бабай! Удружили нашим огородец аж за четыре километрища. Хорошо, что у наших за сараем жирует клочок земли. А не будь его, как у жильцов новых домов? За моркошкой, за луковым пером к обеду слетай за восемь кэмэ?
В поле жуткий ветер.
Я не знаю, как и быть. На мне фуфайка, трико под брюками, глубокие калоши, мои бумажные и мамины пуховые носки.
Как-то неохота, чтоб просквозило.
Парит.
Гриша подкапывает.
Я выбираю.
Я весь мокрый. Хотел подраздеться.
А Гриша:
– Не смей расчехляться! У меня спина всё время мокрая. Прохладно.
Гриша следит, чтоб я выбирал чисто.
По временам он перекапывает за мной. Нашёл раз картошину, в укоризне шатает головой, цокая языком:
– Это ж на целый суп!
– Лучше б посматривал, как тут сам вчера рвал фасольку. Сколько побросал!
За весь день мы присели лишь минут на десять. На мешках. Когда обедали.
Руки у него, копача, чистые. А у меня, как у чушки.
Перед едой он советует:
– Ты экономно помой два пальца. А на остальные воду не переводи.
У нас воды-то одна бутылка с наклейкой «Мартуни». Бутылка из-под азербайджанского вина.
За компанию вместе с двумя пальцами как-то нечаянно вымыл я ещё три. И вовсе не потому, что вода мешала, а потому, что и остальные пожелали за обедом быть чистёхами.
С непривычки я устал как бобик.
И больше всего я боялся сесть.
Иначе потом каким домкратом меня подымешь?
После обеда над нами без конца кружил, покачивая крыльями, кукурузник.
Пролетит чуть ли не на бреющем с финтифлюшками и скроется за бугор. Через полчаса опять несётся дебил. Лыбится во всю картинку. Совсем унаглел! Или он из шизиловки сбежал и ему не хрена делать? Так хоть керосин не порть!
И когда он в очередной раз с фигурами дребезжал над нами, я в распале погрозил ему кулаком с выставленной чёрной дулей.
И больше жужжало не проявлялось.
В полпятого пришла машина.
Грише это не понравилось:
– Васёк! Чего так рано прискакал? Мы ж договаривались на полшестого!
– Ну Ядрёна Родионовна – Пушкина мать! Я ж, Гришок, плохо переношу конкуренцию. Боюсь, а ну кто другой перехватя, я и останься, как дурёка, тверёзый? Хочу, чтоб во мне постоянно кипела непримиримая гражданская война белых с красными…[60] Жизнь-то тут как?
– Да бьёт по голове и всё буром.
С шофёром увязался ещё один момырь, любитель чужих стаканчиков. Витёк. Слесарь с маслозавода.
И Васёка, и Витёка как-то остервенело хватали огромные чувалы и, раскачав, картинно вбрасывали в кузов. Будто они были с пухом.
– Вишь, – шепчет мне Гриша, – как огнище заставляет вчерняк арабить? Что значит оплата натурой. Водяра правит деревенским миром!
Скоро все одиннадцать мешков покоились на машине.
Закрыли борта.
– Ты, – плутовато подмигнул мне приятка шофёра, – мешочка три прихватизируй в панскую Москву. Как гостинчик.
– Да где он будет её хранить? – возразил Гриша.
– А зачем хранить? Продаст! У нас, в Нижнедевицке, три рубляша за килограммидзе! Жи-ву-ха! Как у тебя жизнёнка? Красивая? Как в «Правде»? Ты сейчас где рисуешь? Не в этой ли «Правдуне»?
– Никогда я там и строчки не опубликовал! И не собираюсь!
– Так-то оно лучше. Как её Боря-бульдозер уделал? Не опомнилась – уже без девиза. Как без пролетарских трусиков. Голенькая кларка целкин. Не зовёт пролетарии в один шалаш. И Ильича посеяла с груди. Обновилась. Тазиком накрылась.
Я еле дополз до нашего чума, до койки. И рухнул.
Во мне болела каждая костонька.
Будто майданутый танк поплясал на мне лезгинку.
4 сентября 1991







