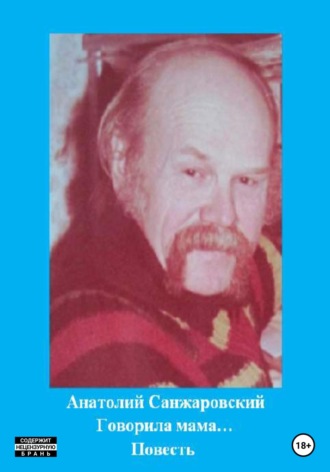
Анатолий Никифорович Санжаровский
Говорила мама…
Чёрная биография белой кошки
Гриша позвал меня в сени.
Я еле вышел и обомлел.
За ухо он деликатно держал перед собой мышь.
– Укусит же! – в панике крикнул я.
– Оенько! – успокаивает мама. – У Гриши пальцы закоцубели. Ни одна мыша не угрызёт! У нас этих мышей… Ходенём ходять!
– У какой норки ты её подсидел? – впал я в любопытство.
– Вот тут, – показал он глазами на чувал с пшеном для кур, накрытый старой настольной клеёнкой. – Вижу, тряпочка шевелится. Эгеюшки, думаю, мышки в еде разбежались. На месте преступления я её и накрой!
Он толкнул плечом дверь и, не давая ногой ей закрыться, позвал со двора кошку.
Из копёшки сена на пологой крыше погреба под яблоней не сразу показалась наша белая кошка с чёрным нарядным платочком на голове. Шла она вальяжно, вразвалочку. И совсем нехотя. Будто серчала, что осмелились снять её с уютной душистой постельки.
– Мадам Фуфу! Это что? – помахал перед нею Гриша мышью.
Кошка отмахнулась лапой и сонно потянулась.
– Ты чего из себя строишь дурочку? Тут и безо всякого строительства всё ясно. Ты на чьём довольствии королевствуешь? Ты что себе позволяешь? Мыши по нашей юрте под ручку парами фланируют! А тебе хоть бы хны? Ты знаешь, что чипсогрыз Павлов[61] повысил цены на продукты в три-шестнадцать раз!? Тебя это не колышет? Тебе всё до лампадки? Тебе что до Павлова дня наливали консервную банку молока, что сейчас… Когда ж ты соизволишь начать работать?
Гриша приткнул мышь к каштану у порога.
Мышь вцепилась в кору.
– Ну-с, мадам! Извольте пешком по рельсам! – приказал мышке.
И только он отпустил, серая на пуле дёрнула вверх по стволу.
Кошка только тоскливо глянула на неё.
Но погнаться и не подумала.
– Брысь, мымра, отсюда! – с притопом гаркнул Григорий на кошку, и та пометёхала снова к копёшке. – До чего дожила! Я штук тридцать поймал! Давал ей на обеды. Скольких зевнула!
– Может, – думаю я вслух, – надо было поджарить с лучком?
– Я поджарю её хворостиной! На крыше погреба среди яблок спит и спит эта дрыхоня. А ты день на огороде на лопате катаешься, ещё и мышей за неё гоняй! А она!.. Летом взяли два десятка цыплят. Двухнедельников. Посадил в решетчатую огородку до вечера. А сверху не прикрыл. С крыши погреба она с дочурой и прыгни туда. Шестерых слопали! Остальных передушили и сложили в две равные кучки. Это её, это дочуркина!
– Зачем же ты держишь этих бандиток?
– Тут и забурлишь решалкой,[62] – мнётся Гриша. – Что интересно, когда охотится, хороших крыс в сарае берёт. Смотришь – потащила. Положит перед своими ребятами-котятами и пошла обедня… А к мышам в доме не притрагивается. На верёвке в наш шалаш не затащишь.
– Может, мышками, этой мелочью, она гребует? Предпочитает работу по-крупному?
– Пожалуй. И вышла у нас полная специализация. Я гоняю мышей, она – крыс. А крыса не мышь. Трудней взять крысу. Кошка и берёт. А я пока не могу. Только поэтому я её и терплю.
5 сентября 1991
Трещина
«Ленин везде с нами!»
Эта меловая надпись на задней стенке звонилки[63] у автовокзальчика твёрдо подчёркнута толстой чертой, запряжённой в чёрную стрелку.
Стрелка показывала, где искать ленинские места в Нижнедевицке.
И я пошлёпал, куда посылала стрелка.
Я очутился на площади перед райкомом партии.
У Ленина.
Он стоял в излюбленной позе. С протянутой рукой.
В неё никто не подавал. Одни только голуби. И так много наподавали, что щедро осыпали своими подношениями и ладонь, и рукав, и голову, и бантик в петлице.
И экспроприированная троечка повыцвела, поистрепалась. По всему пальтецу на меридиане пупка белая полоса краски. Кто-то из любви ливанул.
И гордо стоит Ильич, не замечает брачка в своём виде.
Стоит и посылает перстом.
Куда?
По пустырю вниз, поверх плаката на развилке улиц
«Трудящиеся района! Внесём свой конкретный вклад в перестройку!» на голый, выгоревший лысый бугор. В тупик.
Мёртвый бугор – это горизонт, перспектива.
А по пути к пустому бугру-тупику двуэтажилась районная почта.
А почты вождь любил. Прям подозрительно обожал.
В семнадцатом он прежде всего что себе умкнул?
То-то ж.
Нижнедевицкую почту строители возводили многотрудно.
С коммунистическими боями.
Сдачу всё откладывали да откладывали.
И партия сказала:
– Скоро круглая дата Октября. Сдать к Октябрю! Это будет лучшим подарком Ильичу!
Строители, естественно, традиционно не укладывались.
Райком-рейхстаг, естественно, стандартно напирал.
И лучший двухэтажный подарок оказался инвалидом.
Репнул посерёдке.
Говорят, в целях безопасности приёмную комиссию не пустили в здание. Велено было принимать дорогой объект на почтительном отдалении. Опять же во избежание дорогих жертв в сплочённой команде комиссии.
Ну, отрапортовали.
Ну, даже открыли почту.
А она тут же возьми и лопни ещё больше.
Как раз у входа.
Трещина, будто молния, от самой крыши пронзила здание до самого низу, упрятывая свой тонкий хвост под фиолетовую, как синяк под глазом, вывеску
Нижнедевицкий районный узел связи
И тогда взяли почту в столбы.
Попарно поставили в четырёх окнах второго этажа. Скрепили столбы накрепко досками.
Дивится народ.
– Или война, – спрашивает меня мама, – что окна закиданы столбами-досками? Затянули трещину картиной… Мал дядько Ленин оказался. Даже трещину не хватило им закрыть. Война-а…
– И без войны лопнула почта…
– Тут, сыно, дело покруче. Почта уже лопнула потом. А попервах ляпонулась гнилуха властёха. Скилько жила она, стилько и воевала со своим народом… В голод вогнала… Ка-ак изнущалась? Ско-оль изничтожила путящего миру? Ответит она за это Богу? Ай нет?
И задумалась вседорогая власть.
И додумалась.
Все эти четыре окна, всю эту двухэтажную хрень закрыли с фасада новой гигантской картинкой Ленина. Не той, где он куда-то коллективно якобы несёт брёвнышко. (Мне иногда мерещится, не то несёт, не то сам на брёвнышке висит-катается…) А той, где он в кепочке и так лукаво машет ручкой:
«Правильной дорогой идёте, товарищи!»
Верх трещины не виден. А низ…
Похоже, трещина твёрдо взяла курс дойти до земли. Казалось, трещина выползала как бы из пятки вождя.
Так вот и скрепили узел связи безразмерной ленинской картиной-полотнищем.
Но грянул коммунистический путч.
И партия мужественно добилась своего, к чему решительно рвалась все семьдесят три года.
Райком-рейхстаг закрыли.
И в его белый особняк въехала райстатистика.
«Товарищей считать»?
Справа, над райсоветом, воспарил трёхцветный флаг.
И ленинскую картинищу скинули с почты.
Ляпнулся вождь яйцом в грязь.
Хватит верным нижнедевицким гражданам ленинцам свои ум, честь и совесть прикрывать вождём на полотне.
И всем теперь стало ясно видно, кто есть ху.
И днём, и ночью.
Даже самой тёмной.
Разброд
«Не бойся делать то, что еще не умеешь. Ковчег был построен любителем, «Титаник» строили профессионалы». С непривычки я так позавчера упахался на картошке, что не то что пальчиком – мыслью не мог шевельнуть.
Пластом вчера лежал. Отходил.
А Грише хоть бы хны.
Сбегал в компрессорную, отбухал свою смену.
Сегодня ему в ночь. День свободный. Значит, снова культпоход на картошку.
Мама поднялась в три ночи.
Торопко подвязывает юбку бечёвочкой.
– Хлопцы! Я с вами побегу на картоху! А то лежу, як коровяка!
А в коровяке всего-то килограммов сорок, не считая зубов в стакане с водой. И восемьдесят один год.
– Михална, отбой! – командует Гриша. – Не знала, где тот наш огород. Не сажала, не окучивала… Не будешь и копать. Спи. Ещё черти не бились на углу на кулачках. А она вскочила!
И выключил свет.
Мама постояла-постояла и на вздохе легла.
Гриша угнездился на полу, на толсто сложенных новых коврах. Поближе к себе пододвинул будильник.
То будильник синел на неработающем холодильнике в кухоньке-прихожей, и я его не слышал. А тут бух-бух-бух над ухом. Как молотом по башне.
Попробуй усни!
Григорий встал в полпятого и убежал с мешками на огород.
На дворе бешеный ветер.
А в поле что? Ураганище?
Не унесло б… Не выдуло б всё из головы…
С моим бронхитом только меня и не хватало на нашем картофельном бугре, расчехлённом всем ветрам.
Гриша не велел мне идти.
Да с какими глазами куковать дома?
Часов в одиннадцать чёрные тучи задёрнули небо.
Наверняка рванёт дождища!
Я не удержался. На попутном дмитриевском автобусе доскочил до Разброда. А там полем почесал к нашей делянке.
Ну…
Удружили ж нам огород у чёрта на куличках.
Рядом с лужком, где Макар пас телят.
Правда, сейчас ни Макара, ни телят не было на лужке. Испугала их непогода, и они не вышли из села.
Только я наклонился выбирать – ливанул дождяра.
У нас по полиэтиленовому плащу. Без рукавов.
Зато есть хоть по капюшону с тесёмочками.
Подвязались под подбородками и сидим на корточках. Чтоб ветер не так рвал.
Сидим на кукуе.[64]
Я вспомнил море, вечное южное солнце и грузын, вечно сидящих от безделья на корточках.
Изнывая от жары, син Капкаса может целыми днями преть на корточках.
Покурил. Поплевал. Вздремнул…
Вздремнул. Поплевал. Покурил…
Покурил. Поплевал. Вздремнул…
Обложил матом проходившую мимо русскую девушку, раз отказалась от его пылкого приглашения присесть на корточки рядом и покурить…
О! Уже вечер. Надо грести дремать уже дома.
В великих трудах и проходил грузинский день…
По приметам, сегодняшний дождь обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Да что нам будущий год? Убрать бы то, что этим летом выросло.
Я смотрю, как белыми ядрами дождина обстреливает беззащитные картошины, и мне становится не по себе.
– Гриша! Ну зачем ты сразу пол-огорода выбурхал? Теперь вся картошка наверху. Лежит купается бедная. В земле б она спала сухая…
– Кто ж знал, что так оно крутанётся?
– Я ж тебе и раньше не раз выпевал… Надо… Выкопал с комнату. Подбери. Подобрал – снова копай. А ты? Ты как тот перегретый на солнцежоге грузын. Только познакомился с крутишкой и тут же норовит спустить с себя свои тряпочки, пламенно уговаривая её срочно последовать его горячему примеру. Всё шиворот-набекрень!
Как только дождь чуть сбавлял обороты, мы в судороге втыкались в землю. Три мешка выбрали.
Мы уже не обращали внимания на дождь. Бросили придерживать плащи.
Автоматными очередями палили они на ветру у нас за спинами.
В низу бугра сидели на корточках копальщики, насунув на головы белые цинковые и красные, зелёные пластмассовые вёдра.
– Люди живут кучками, – с тоской глянул Гриша вниз. – А мы по-одному… По-одному. Или мы бирюки?
Брюки на мне мокры до самой развилки.
Ребром ладони я сталкиваю воду с колена.
– Это уже не картошка! – сожалеюще кривится Гриша. – Это уже могила. Давай дуй к мамке в чум!
– Да, может, ещё размечет ветер эту хлябь?
Я смотрю на мутно-светлый клок неба.
Божечко мой! Подай солнышка…
– С-солнце! – распрямившись, варяжно рявкнул Григорий в оружейных хлопках плаща.
Великанистый, могучий, в размётанной по груди былинной бороде, он и впрямь походил на богатыря.
– Страшно! Вся Гусёвка чёрная, – показал он на низ неба. – Все пакости от госпожи Гусёвки! Иди, пока ещё ходится. Я не понимаю, зачем ты прибежал!
Я тоже не понимал. Был ветер. Заходил дождь. Все основания для домашней отсидки.
Но я приплёлся.
Наработал!
Весь мокрый. Потряхивает озноб.
Гриша наступил ногой на куст, к которому я потянулся обирать.
– Командировка выписана. До-мой!
Я не стал противиться. Выписана так выписана.
– Извини, – бормотнул я повинно и побрёл к дороге.
Я шёл с бугра боком, боясь загреметь на осклизлой мокреди.
Глубокие калоши нацепляли пуды грязи, выворачивались, всё норовили сорваться с ног. И срывались.
Тогда я тыкался бумажным носком в сырь.
У большака две милые юницы в лёгких платьицах, мокрые, как вода, сушили на ветру газовые косынки, поднявши их над головами, и беззлобно препирались. Уходить или не уходить?
– Скажите, – обратились они ко мне. – Рассудите нас. Дождь будет?
– Нет! – вызывающе крикнул я.
– Тогда чего ж капитулировали со своего картофельного рубежа?
– Родина приказала!
– А-а, – уважительно покивала головой одна янгица. – А в том приказе не было наших фамилий?
Я сделал вид, что не слышал, и пошёл себе.
– Да айдаюшки и мы! Бу-удет дождь. Ещё какой! Чего?! Картошка не наша…
Я не вытерпел и съехидничал:
– Обязательно будет! Ну раз картошка-то не ваша!
И радостные девичьи ноги в шалости благодарно зашлёпали по грязи у меня за спиной.
Асфальт дороги залила жижа пальца на полтора, и всякая пробегающая машина норовила оплевать тебя с корени до вышки.
Дорога немного разогрела меня. Расхотелось одному плестись, я срезал шаг. Авось нагонят милые улыбашки.
Только я так подумал, как пеструшек окликнул старчик со встречной телеги. В кузовке он стоял на коленях с вожжами в руках. Ноги в кирзовых сапогах держали попиком жёлтое пластмассовое корыто. Казалось, ехал дед в жёлтой нише.
– Дедунюшка! – крикнула одна из девушек, грациозно всплывая на телегу. – Да что ж вы едете, как в стоячем гробу?!
– Ну, – равнодушно махнул рукой старик, – не до разбору. Стоячий там, лежачий… А сыпани дождина, я загодя уже в укрытии. Дождь ноне обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Добрый ноне дождь… Айдаеньки, королевишны, заберём, что вы там укопали.
И увёз моих хорошек.
6 сентября 1991
Розовая улыбка Ларисы
Дома я напился настоянного на смородиновом листу горячего чаю с малиновым вареньем, попарил ноги и шнырь под одеяло. Имею полное законное право! Как тяжёлый пострадалец на славном трудовом фронте.
За окном озверело буянил ливень. И до того разошёлся, что его тонкий пристанывающий рык стоит и в нашей курюшке: нитяные белые струи, не прерываясь, монотонно льются в ведро посреди комнаты.
Два тазика по углам.
Второе ведро торчит в сенях.
И эти четыре водолпада с тоскливой ненавистью бандитничают в нашем бурдее,[65] наглюще поют, когда хотят. Хоть день на дворе, хоть ночь. Они – хозяева!
Боже! Боже!
В какой дырявой пещере мы кукуем?
Эта маслозаводская сарайная засыпушка была рассчитана на тридцать лет. Срок ей давно вышел. А она стоит.
Обмазка на внешней стороне стен отстала. Сильно постучи ночью вернувшийся со смены Гриша, чтоб разбудить мать, – завалит наш «государев дом», дающий течь при первых дождевых каплях.
«Государев дом»…
Приделанные Гришей сенцы, кухонька и одна жилая комнатка. Двенадцать метров. На двоих.
Двое на двенадцати квадратах четвёртый десяток лет!
Мать и сын – в одной комнате.
В какой Африке так живут?
Законом нельзя взрослым разных полов жить в одной комнате. Законом нельзя. А – живут!
Мамина койка на кухне почти вприжим к плите.
Гришина койка в комнате.
А приехал гость – уже и положить негде.
Разве что на пол.
Пока я тут, великодушный Гриша сам всё время спит на полу, на двух вчетверо сложенных коврах. Ковры наши не расстилают, ждут, что раскинут в новой юрте. В один шкаф всё не воткнёшь. Горы тряпок горбятся на стульях по углам. Ждут новоселья.
Маме 81, Грише 56.
Куда ждать? Чего ждать? Новоселья на том свете?
Обо всей этой квартирной катавасии я писал президиуму первого съезда народных депутатов СССР.
Поставили в общую очередь. Наш номер очереди 178.
В прошлом году я добыл недостающие бумаги о погибшем на фронте отце – вжались третьими в первый льготный список.
Неужели за год не сдали три квартиры?
Надо сбегать спросить.
И тепло под одеялом, уютно.
Да каково слушать разбойничьи песни дождя над вёдрами-тазами-корытами в этих графских апартаментах?
В райисполкоме жилищную комиссию вела зампред Лопатина. На её двери нет уже таблички с её фамилией.
Проходила мимо женщина.
Я спросил, где искать Лопатину.
– В загсе теперь она женит-хоронит. А на её место… Я и не знаю, кого теперь греет её кресло… Весь же несчастный райисполком оккупировало парткомарьё. Ондатровые гвардюки!
– Какие страхи под вечер…
– Да… Гвардейцы эти сидели во-он в том белом фикваме, – показала в окно влево на бывший райком. – Они, пайковые гвардейцы, – славные строительцы коммунизма! Дом у них – белый. Вот этих неусыпных строителей светленького будущего у нас и звали кто белой гвардией, кто белогвардейцами. Себе и своим эти ондатры под горло понахапали до трёхтысячного года. Слава Богу, Ельцин расшурудил это осиное коммунистическое гнездо. Думаешь, похватали тяпки и побежали ухорашивать колхозную свёклу? Утаились! Ждут-с. Выхватывают последние сладкие кусочки. Даве царевал тут первым в райкоме-рейхстаге Шульженко. Мотанул в ёбласть. В Воронеж. Не то в агропроме, не то в облисполкоме прижух. Сам ксёндз[66] удрапал. А свою квартиру-дворец, думаешь, сдал? Там мозгодуй оставил своего резидента. Какого-то ветхого хренка. Не то тесть, не то ещё какой родич. Спрашивают Шульженку, что ж ты его не забираешь? Он же тебе люб и дорог? Молчит. Видать, даровая квартира дороже. Они ж подыхать будут, а не отдадут. Я слышала, какая-то гадость размножается делением. Так и эти гвардейцы. Учалил нельзяин[67] – остался старец. Как чеховский Фирс. И эта квартира теперь будет у Шульженки вроде как дача, что ли? Откинь лапоточки старчик – сунет эту юрту какой-нибудь своей жучке-сучке или кошке, или мышке. Зато людям – ни за что! Это ж ещё те комгвардюки!.. До Шульженки тут рулил в рейхстаге Сяглов Витюшок по батюшке Сёмка. Во-о ворюга! Из ворюг ворюга!!! Классман! Как говорит моя внучка. Полмешка бриллиантов нагрёб! Народ-ушляк и бахни в обком. Принципиальный обком этого дела так не оставил. Снял Витюшу с повышением! Из нашего района пересадил его в рейстаг другого района. Покрупней. Побогаче. Партия своих сыночков не топит!.. Так бы и купался Витюня в бриллиантах… Да, на беду, Ельцин ухватил власть. Витюня тут и пал. Повесился у себя в бунгале, как уверяют, на лампочке дорогого товарища Ильича… На проводке… Никто не помогал… Сам дотумкал… Мда-а… В каждом дурдоме свои сумасшедшие… Витяни уже нетушки, а он, – женщина кивнула в окно на памятник вождю, – всё торчит с гордо протянутой рукой, облитый краской. Чего выжидает? Падёт Союз… И кого винить? Дым без огня не живёт. И тянется этот дымок из огня двадцатых. Россия, Украина, Закавказье, Срединная Азия – везде в гражданской войне на штыках да на крови скидывали до кучи Союз. А что удержится на крови? Семьдесят три года проскрипели в муках… Рухнет такая держава… И кто первей всех виноват? Не он ли? – ткнула на Ленина пальцем. – Разве на крови да на штыках жизнь замешивается? А не он ли на крови подымал Союз? И смахнут все вождёвы памятники. А на оставшиеся из-под Ленина постаменты чего не нашлёпнуть памятники репрессированным? Репрессии – ленинский кнут. Разве репрессии проросли не из ленинской нереальной жестокости?
Я всё же раскопал одну янгицу из жилищной шарашки. Лариса Глебова. С розово-красными височками. Мода такая. Верх щёк красить. Вроде намёк: у нас и мысли все розовые, да и те не все дома. Вообще никого нет на фазенде!
Я спросил, почему за год очередь не продвинулась ни на одного человека.
– А мы ничего не сдали. Заложили фундамент на семнадцать квартир. Блочный. Может, к следующему августу поспеет…
– А я боюсь, к той поре и в нашем шале[68] может кто-нибудь поспеть. Восемьдесят один год не восемнадцать лет. Неужели новоселье только на том свете коммунисты гарантируют?
Лариса розово улыбнулась.
6 сентября 1991
Крик в ночи
В шесть я прискакал из райисполкома.
Гриши не было.
Как так?
Я на маслозавод. В компрессорную. К Максимычу, кого Гриша сменит по графику в восемь вечера. Сразу с вопросом:
– Вы не слышали, Васёк уехал к Грише за картошкой? Должен был в пять приехать!
– Эв-ва! С каким дерьмом связался отец Григорио! Да твой Васёка этот Ковалёв уже твёрдо наконвертировался!
– Чуть поясней…
– Сразу видать, несельский ты жилок… Водка в селе – конвертируемая валюта. За водку тебе что хошь сделают. Хоть картошку привезут, хоть голову срежут, хоть чужую приставют! Даве наконвертировался этот пиянист и враскачку еле уполз к себе в кривой соломенный недоскрёб.
– Не может быть! Он позавчера привозил нам картошку. Давайте посмотрим, тут ли его машина 21 – 87 ВВ.
Обрыскали весь заводской двор – нету.
Значит, всё-таки уехал!
В состоянии готовальни!!!
С неспокойным сердцем побежал я по Нижнедевицку.
Думал их встретить.
А нарвался на весёлую семейку Дмитрия, старшего брата. Он с женой Лидией, с дочкой Еленой и с её сынишкой в коляске возвращались из магазина.
Молча проскочить мимо неудобно. Скажут, бегает, как бес от грома. И я не стал их обегать, взял и покатил коляску.
Пока везла мамхен Ленушка, парень сидел на улыбках ровно.
А как я повёз, склонил головку.
– Леонид Юрьевич! – заглянул я парню в кисловатое лицо. – Что, стариковская усыпила езда?
Дома Ленка стала кипятить ему молоко.
Плеснула чуток в кастрюльку и на газ.
– Бог даёт! Бог даёт! – запричитала она, увидев, как сердито подымался в кастрюльке белый шатёр.
Глазами плясуля аврально искала тряпку и не находила.
А когда подлетела с тряпкой снять, шатёр выбило на плиту.
И Ленушка разогорчённо проронила:
– Боженька дал. Боженька и взял… Обнулил…
Пока тары-бары на три пары – уже девять.
Я на стреле домой.
Григория – нету!
Маточка моя! Это беда!
Я переоделся в фуфайку, в старые Гришины штаны.
Натягиваю мамины резиновые сапоги.
Мама причитает:
– Та Толька!.. Та сынок!.. Та куда ты ото у ночь побежишь?! Шо ты в том поле зараз знайдэшь?
– Он мне брат и Вам сын или слепой лишний щенок, которого Вы собираетесь утопить? – рявкнул я. – С пьянчугой усвистал! Сырые бугры… Может, навернулись! Валяются где в овраге. А Вы – ночь! Дождь! Оё!..
Не знаю, зачем я сунул в карман ножичек с палец и на завод. Сейчас как раз везут молоко с ферм. С какой попуткой и увеюсь.
И я умчался на молоковозе с першинским шофёром Мацневым.
Подъезжаем к Разброду.
Я сказал, как ехать к нашей делянке, и он поехал.
Я боялся, что мы не доедем.
На удивление, сырь нас нигде не усадила.
Одно дело день, другое дело ночь.
Как ты на убранном поле сыщешь свой клин?
Летели мы наугад и всё же не промахнулись.
Выскочил я из кабинки. Ладони рупором ко рту:
– Гри-иша!.. Гри-и-иша!!.. Гри-и-и-и-иша!!!..
Никакого ответа.
Только обломный чёрный ветер валил с ног.
Мол, кончай орать!
Рядом с нашим огородом кисла деляночка плохо скошенного овса. Осыпался овёс. Пророс.
Поднялся редкой белой полоской.
Овёс утвердил меня в мысли, что я на своём клину. И стал я вскидывать ботву… И нашёл. Вот пять мешков с картошкой! Мы с Гришей собирали!
Я и заплакал, и засмеялся.
Живой Гриша! Живой!! Живой!!!
Этот стакановец Васёка не приехал!
И развеликое спасибушко!
– Иван Николав! – подбежал я к шофёру. – Милушка! Роднулечка! Золотко! Тут всегошеньки-то пяток мешков! Ну давайте заберём и вся комедь!
– Да нет. Комедия отменяется. Ну молоковозка! Куда я суну мешки? Бортов нету. В цистерну насыпом?
– Ну в прошлом годе привозили точно на такой молоканке. Десять привозили! Ну! По бокам привязывали!
– Как вы там возили, я не видел…
Этому гофрированному вавуле[69] интересней му-му валять. Неохота отрывать свой худой банкомат от тёплого сиденья. Ну и хрен с тобой!
Главное, Гриша цел, невредим и готов к новым боям-баталиям!
Мы выскочили на асфальт и горшок об горшок.
Мацнев дунул к себе в Першино.
Я пожёг в противоположную сторону.
По пути забежал на завод.
Гриши не было.
Максимыч стоял за него вторую смену подряд.
– Так Григория вы видели?
– Да. Договорились. Я его ночь отстою. Он завтра погасит должок. Примерно часов в пять уехал на молоканке.
Я подхожу к нашему вигваму.
Два красных огня. Молоковозка. Поверху между цистерной и поручнями громоздятся горушками мешки.
Какой-то мужик с машины помогает Грише усадить мешок на горб.
– Здравствуйте, что ли! – в радости крикнул я.
– Здоровьица вам!
По голосу я узнал Алексея Даниловича Вострикова.
Душа человек!
Мы вечеряли в два ночи.
Гриша кипел гневом.
– Вот Востриков! До пенсии докувыркался! А с водярой незнаком! А Ковалёв, эта косопузая шаламань, как проснулся, одна сила выворачивает его наизнанку. Где кирнуть? Как рухнуть в запой? И шуршит[70] до первой бутылки. Как дорвался – песец! Трудовой день окончен! Пошла драка с унитазом, ригалетто…[71] Я ж с ним по-людски договаривался… Значит, перехватили. Кто-то раньше поднёс… Тупой, как веник… Не водись на свете водка, он бы и на работу не ходил. Этому мало по заднице настучать. Будь моя воля, я б дал шороху. Такие бухачи гнут всю Россию. Их надо выстраивать и отстреливать через одного. Потом выстроить, кто остался, и снова стрелять. Пока ни одного не останется. Иначе пьяная Русь сама падёт-сгинет.
6 сентября 1991







