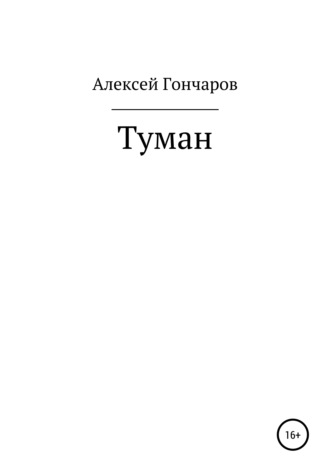
Алексей Александрович Гончаров
Туман
Хромая на обе ноги, он доволок себя до стены и прилип к ней спиной, как банный лист к мокрому телу, озираясь перед собой безумными глазами и дыша жадно, словно выбрался из бушующего моря.
– С вами всё в порядке? Моя помощь нужна? – с каким-то ненавистным для Жмыхова сочувствием прозвучал сбоку вроде бы знакомый мужской голос, но на фоне «произошедшего», этот голос чуть не ввёл Михаила Анатольевича в состояние обморока.
Валентин Егоров сидел на корточках метрах в пяти от него невозмутимый, как тибетский монах в состоянии медитации. Разумеется, в своей кошмарной агонии Жмыхов его вначале не заметил и в первые секунды не узнал. Весь усеянный красными царапинами, Михаил Анатольевич осторожно проковылял к нему и, пригнувшись, с минуту разглядывал Егорова излишне оценивающим затравленным взглядом, в котором всё же проявлялся некий здоровый интерес.
Валентин без труда догадался, что со Жмыховым произошла очередная «мистическая история», и сейчас оцарапанный, раздетый подполковник проверял его, как бы, на подлинность. Егоров с пониманием отнесся к этому процессу и, немного прищурившись, с сочувствием смотрел подполковнику прямо в глаза.
«Слава Богу, что живой и добрёл до дома, – думал Валентин, рассматривая обезумевшего Жмыхова, – но, что там с Максом…? Если уж этот явился «оттуда» в таком состоянии…, то, что же с моим другом? Нет, не верю, что что-то подобное…».
Пребывая в каком-то счастливом упоении, Михаил Анатольевич дрожащими пальцами коснулся волос сидящего у стены человека, что-то важное попытался сказать, но только, как рыба, вытащенная на берег, раскрывал рот, а потом, как-то одобрительно взвизгнул и обхватил себя руками, показывая, что замёрз. Он передёрнулся всем телом и, скукожившись, побрёл вдоль стены за угол к подъездной двери, поднялся в свою квартиру, заполз на своё ложе и завернулся как в кокон во всё, что было на кровати, включая и тонкий матрас.
Когда Жмыхов в нижнем белье исчез за углом, Валентин пытался вспомнить, о чём он думал до появления истерзанного соседа, вид которого ужасал и вызывал глубокое сочувствие, словно подполковника сбросили с высоты в огромный куст или наоборот, вытащили из-под обломков. Егоров без труда вспомнил, что были размышления о Максиме, когда заглохли моторы: Валентин переживал, как он там проходит своё «испытание». Потом появились какие-то приятные мысли о Миле, о себе, но после появления Жмыхова, Валентин, разумеется, уже не мог к ним возвратиться. Коротая напряжённое время, он задумался теперь над душевным состоянием соседа; насколько быстро оно сможет восстановиться, или наоборот, психика разрушена настолько, что без вмешательства медицины здесь не обойтись. Игривый, по-детски наивный взгляд подполковника, вызванный явным безумием, стоял сейчас у Валентина перед глазами. Вспомнилась так же агрессия Михаила Анатольевича с гречневой кашей, и эти два несовместимых состояния в одном человеке, поменявшиеся за короткий промежуток времени, очень волновали Егорова. Он наметил себе, когда вернётся Максим, обязательно подняться к Жмыхову, и желание проведать его уже не казалось Валентину дежурным или несколько показным, вроде как, для очистки совести. Как раз, именно совесть требовала такого вмешательства, которая никак не могла успокоиться по поводу гибели бедной Маргариты.
Егоров размышлял о, возможно, схожем помешательстве рассудка у Потёмкиной, и невольно проводил параллель между Жмыховым и ей по поводу того, что касалось их нелюдимости. Безусловно, эта нелюдимость имела различное происхождение, разными были и причины избегать нормального общения с соседями, но суть…, и тем более последствия казались Валентину Владимировичу какими-то схожими. Он припомнил короткий разговор на площадке, где он предлагал Маргарите Николаевне свои услуги и помощь, и как потом, спустя сутки, ходил с угнетенной душой по осиротевшей квартире ночью после похорон. Опять на него налетело угрызение совести, укоряющее в бездействии, зудящее о том, что Маргариту можно было спасти. Пускай грубо с напором, напролом, против её воли, …как ребёнка бросают в воду, когда учат плавать, но помочь в любом случае, надо было пробовать.
И Валентин размышлял уже конкретно: – «В конце концов, можно было завалиться к ней всем вместе после того ужасного «военного пожара» и тупо, как горящую беседку, которую мы с Максом потушили, …каким-то образом погасить и истерику в этой несчастной женщине. Но что-то не давало нам так поступить. Точнее, мне…, – заключил он. – Что-то мешало так действовать. Боязнь быть навязчивым? Или, вернее сказать, незыблемое вековое правило не лезть в чужую личную жизнь, а тем более в душу? Да, но так устроено, что мы без приглашения влетаем на помощь, только, когда пожар уже в разгаре. А как распознать в безобидном дыме зловещую гарь? Получается, что оправданий, чтобы ничего не делать гораздо больше, чем поводов для стремительных действий».
Валентин закрыл глаза, но никаких прозрений ему не представилось, а только свежая память внесла перед ним хрупкое мёртвое тело, лежащее в тёмном коридоре на полу, и убедительный довод витал рядом; что никто из живых не мог заранее представить себе таких последствий. И почему-то, на ум Валентину пришло наипротивнейшее выражение: «русский авось». А ведь этот «авось», если и считался чем-то спасительным, то всё равно, всегда оставался обыкновенным бездействием или, наброшенной на проблему для видимости, какой-нибудь ленивой глупостью, которой впоследствии незаслуженно придавали большое значение.
«Со Жмыховым обязательно надо в ближайшее время поговорить, чтобы прочувствовать его психическое состояние, – задумался Егоров. – Конечно, сложно себе представить, что подполковник решится на какие-нибудь пагубные действия в отношении себя, но… с Маргаритой даже меньше было поводов для беспокойства, а вон как вышло. Если сюда придёт ещё одна смерть, то, о каком примирении с собственной совестью может тогда идти речь, да и, вообще, можно ли будет уважать себя. Передо мной прошёл абсолютно больной человек, а я, получится, ничего не предпринял. Но, чёрт побери, почему у нас такое разделение?! Одни умеют между собой договариваться, а другие…, словно из другого мира пришли. Даже в навалившейся беде …или, пускай, назовём это опасной внештатной ситуацией, в которой оказались все, но эти трое (Валентин не забыл и про Петра Добротова) не пошли на логичный компромисс со своим норовом? Ведь, буквально, прояви ничтожное послабление, пойди на нормальный контакт с другими людьми и, мне кажется, можно было бы избежать всего этого…, по крайней мере, они смогли бы сберечься. А создаётся такое впечатление, что они, наоборот, выдавили из себя всё своё отчуждение, как будто это единственное оружие, которым можно защититься в данной ситуации. Да, я другой, – …покладистый, не принципиальный, и мне трудно представить, что неужели так сложно сдерживать своё раздражение на людях? Какое ужасное заблуждение, считать, что нервозность и неуравновешенность это сильная сторона характера, и непременно её нужно держать впереди себя, выставляя напоказ. Это же элементарные внутренние неполадки, …конфликт, а значит и слабость, которую, наоборот, необходимо прятать. А ведь такие люди, как Жмыхов, наверняка воспринимают в других правила хорошего тона за мягкотелость или лицемерие. Но вежливость не может быть наигранной, тогда она превращается в какой-то заметный сарказм. Она либо есть, вместе с уважением к собеседнику, либо её нет».
Валентин Егоров увлёкся своими думами и не сразу понял, что где-то в тумане прокричал Макс и попросил его сматывать шнур. Продолжая сидеть, прислонившись спиной к дому, он двумя руками начал подтягивать провод, укладывал его возле себя кругами и поблагодарил Бога за то, что, судя по голосу, с Максимом было всё в порядке.
Возможно, от этой радостной мысли в голове Валентина закрутилась невероятная и нелепая фантазия. Он представил себе что-то вроде интересной и забавной сценки: как будто в первый день «туманного карантина» они сидят у Зиновьевых на кухне все вместе за одним столом, включая Маргариту, Михаила Жмыхова, Пётра, и играют в подкидного дурака. С несравнимо разными характерами, различные по темпераменту они мирно, без всяких передряг и ругани, а даже с дружескими подковырками, ведут игру. Маргарита звонко смеётся и упрекает Валентина, что он раздал ей плохую карту. Михаил Анатольевич сосредоточен на «ходе» и пытается убедить Макса, что тому, с таким-то ловким мышлением, следует обязательно пойти работать в милицию. Пётр сетует на бабу Паню за неправильно «подброшенную» десятку…. В общем, вечер наполнен должным и идеальным добрососедским духом. Но именно на этом обобщённом моменте едкая истина, состоящая в том, что в «дурака» могут играть не больше, чем шесть человек, оборвала занятную фантазию Валентина. А если быть точным, то мысль о Миле, которой он не смог найти место в этом виртуальном вечере, скомкала его невероятную, но желаемую быть реальной «зарисовку».
Теперь Егоров задумался о том, что только неправдоподобный отъезд Петра на каком-то слабо-моторном средстве в места далёкие и неизвестные, сблизил его с Милой. Валентин чувствовал стыд, но стыдил он, прежде всего, себя перед ней, за то, что посмел обнять её только тогда, когда её муж исчез. Перед самим Петром, он чувствовал что-то вроде глубокого сожаления оттого, что не может теперь с ним объясниться по-человечески, и это обстоятельство его немного угнетало. Но Валентин и не пытался искать для себя какие-то утешительные доводы; он знал, что это угнетение скоро раствориться без остатка в его любви к Миле. И Валентин не исключал, что потом, спустя время, в редкую одинокую минуту он вспомнит о Петре, пожалеет его по-доброму и, возможно, легонько душой повинится перед ним за нахлынувшие чувства к теперь уже бывшей его женщине.
Сейчас лопатки Валентина прижимались к стене дома, и он, словно через позвоночник чувствовал, как за слоем штукатурки и прочего строительного материала дышит его новая любовь, погрузившись в полезный разговор с двумя пожилыми мудрыми женщинами.
– О, боже…, – вслух простонал Егоров, безуспешно пытаясь встать.
Ног под собой он не почувствовал, потому что они напрочь затекли и обескровились от долгого неподвижного сидения. От такой неожиданной беспомощности, Валентин Владимирович ещё раз застонал и в голос громко прохрипел:
– Макс…? Ты далеко там?
– Владимирович! Замёрз, что ли?! – игриво прозвучало впереди из тумана, и почти сразу же в белой дымке проявился высокий силуэт Максима и стал приближаться.
– Ух, тяжёлая, зараза, – подойдя вплотную, выдохнул Зиновьев, сбросил с себя груду верёвки с кабелем и, восстанавливая дыхание, сказал: – Надеюсь, в ближайшем будущем нам это не понадобиться. Завтра «Аладдин» нас покидает.
– Это он тебе сказал? – спросил обрадованный возвращением друга Валентин и, глядя на копьё, сдержано восхитился: – Изысканную вещицу ты с собой притащил.
– Спеши любоваться, – протянул Максим в руки Владимировича древнее оружие, – не удивлюсь, если не сегодня, так завтра оно растает или опять превратится в железку.
– Ну, что там было? – сгорая от любопытства, спросил Валентин, пытаясь сделать ещё одну попытку подняться, опираясь теперь о копьё, но тщетно; ноги не то чтобы не слушались, их просто не было по ощущениям.
Максим, не догадываясь о случившемся бытовом недуге со старшим товарищем, присел с ним рядом, положил свою длиннющую руку на плечи Валентина и, глядя вверх, словно разглядывая на белом фоне что-то обычное и знакомое, заговорил:
– Прости. Признаюсь, я маленько обижался, когда ты рассказывал о своём похождении в туман за Добротовым, и не стал мне тогда полностью передавать ваш разговор с этим… «всемогущим нашим». А теперь, я тебя прекрасно понимаю. Не многим я могу поделиться и с тобой, Владимирович, …по крайней мере, сейчас. Всё, что произошло, это действительно касается только меня. Я вроде как, ощущаю себя бумажником после зарплаты, увесистым таким, пухлым, а вот взаймы дать пока не могу. Нужно всё пересчитать. Ну, правда, не обижайся, …настолько всё личное…. Потом, когда всё сам переварю, мы с тобой обязательно об этом потолкуем. А скажу тебе пока только вот что: я там Жмыхову по морде всё-таки съездил, так что теперь у нас с ним счёт равный: один – один. Но, ты знешь, и было за что. Он меня чуть не задушил.
– Так это ты его так? – с сочувствием, но непонятно в чей адрес, поинтересовался Валентин.
– Как так? – не понял вопроса Макс.
– Совсем недавно он вышел оттуда, – и Валентин показал копьём в сторону, – весь ощипанный, в царапинах, будто плантацию терновника пересёк.
– Не, я только в область головы один разок ударил его и всё, – с недоумением оправдывался Зиновьев. – Он убежал потом, и я его больше не видел. Мне его, вообще, запретили трогать.
– Значит, опять какое-то неприятное свидание поимел наш подполковник, – сделал заключение Егоров и, потерев большим пальцем наконечник копья, предположил: – Макс, а, по-моему, это чистое золото.
– Да, хоть платина, – с усталым смешком отмахнулся свободной рукой Зиновьев. – Мы же не мошенники, чтобы продавать эту мистику.
Где-то в непроглядной белой вышине пронзительно прокричала какая-то птица. Максим с Валентином машинально задрали головы вверх, поводили глазами, а потом посмотрели друг на друга и рассмеялись над своим бестолковым любопытством.
– Не иначе, как журавль, – предположил Валентин.
– Я не орнитолог, но какие могут быть журавли в конце сентября, – возразил Максим.
– А чего мы гадаем в такой заурядной для нас обстановке? – иронично заметил Егоров и признался: – Знаешь, я уже не удивлюсь и тому, что, возможно, это прокричал розовый фламинго. У меня есть подозрение, что мы вообще теперь можем перестать удивляться необычным вещам. Наверное, такова будет плата за эти дни, проведённые в тумане.
Макс переложил свою широкую ладонь с плеча на голову Валентина Владимировича, потрепал его начинающие покрываться сединой волосы и сказал:
– И мне немного жаль. Я не то, чтобы начал привыкать к этой белой слепоте…, просто, чуть тоскливо всегда становится, когда что-то заканчивается. А ведь, согласись, что всё было как-то чинно…, без суеты, каждую минуту ожидаешь опасность, и в этом есть что-то первобытное. А наступит завтра, …потом послезавтра, ты поедешь на свою фабрику, я попрусь в типографию, если, конечно, нас оттуда ещё не выкинули за прогулы. Скукота какая-то ожидается. И даже расскажи кому, всё равно, никто не поверит в то, что мы тут пережили.
– Завтра суббота, – без всякого значения напомнил Валентин.
– Какая разница. Ну, потом, мы будем слоняться среди замороченных и деловых физиономий, и от этой серости, возникнет желание рассказать кому-нибудь о необычном тумане, который приоткрыл нам завесу в потусторонний мир. Ты рискнёшь? Например, я задушу в себе этот порыв, чтобы в здравом уме не оказаться в «психушке», – заявил Максим и поморщился, а потом глаза его заблестели хитрым вдохновением, и он размечтался: – Но представь, Владимирович, когда-нибудь над городом полетит стая розовых фламинго, а я встану рядом с тобой (при слове «встану» Егоров болезненно вспомнил про свои «отсутствующие» ноги), вот так обниму тебя, и с кислой мордой скажу в разинутые рядом рты: – «Ах, какая банальность. Мог бы, что-то и оригинальнее этих бразильских птичек придумать». Народ, разумеется, обратит на нас внимание. Появятся заинтересовавшиеся и какие-нибудь приставучие индивидуумы из этой толпы, но мы с тобой не станем изменять своему скучающему безразличию и только ужимками на лицах дадим им знать, что нам даже лень объяснять что-либо. Они всё равно ничего не поймут, потому что мы, пусть немного, но как-то причастные к этому, а они нет.
– Всё дурачишься, – отказался Егоров оценивать и обсуждать сценическое выступление Максима и, рассматривая в своих руках копьё, сказал: – А ведь от тебя исходит гордыня, молодой человек. Высокомерие. В общем, это грех. Но в одном ты прав; мне кажется, после всего этого, мы будем смотреть на наш прежний мир по-другому. Острые впечатления, конечно, сгладятся, порастут домысленной фантазией какие-то факты, – Валентин ткнул наконечником копья в землю и закончил очевидным заключением: – Да, мы, по большому счёту, уже изменились. Я-то уж точно.
Максим, вставая, потянул за предплечье Валентина вверх, и тот застонал, неимоверно зажмурившись от страдания:
– Что…?! – с испугом спросил Максим.
– Но-о-оги…, – не в силах больше ничего объяснить завыл Егоров.
С трудом приподнявшись, даже с помощью друга, Валентин постоял немного и с кряхтением сделал первый шаг, потом с болезненным уханьем второй.
– Владимирович, как бы всё это не закончилось, но последний вечер с «туманом-говоруном» мы должны отметить, – внёс предложение Максим, поддерживая под руку засидевшегося и мучающегося от этого старшего товарища. – Ты удивишься, но у меня есть в заначке бутылка хорошего кубинского рома.
– Кубинский ром не бывает плохим, – корчась от неприятных ощущений при каждом шаге, подчеркнул Егоров.
– К твоим бы мудрым словам, да, ещё бы закуски какой-нибудь вкусненькой добавить, – мечтательно отметил Макс.
– Да, где ж её взять? – жалел вместе с ним Валентин и, держась за плечо Зиновьева, мужественно переносил короткий путь к подъезду.
– Принимайте раненого бойца, – объявил Максим, заводя прихрамывающего Валентина на кухню.
– Что случилось?! – воскликнула встревоженная Мила и, вставая, нечаянно опрокинула на пол стул.
Секунду поколебавшись, она всё же бросилась к Валентину, и её выставленные вперёд ладони прижались к его куртке чуть пониже воротника.
– Макс, не пугай людей, – сурово предупредил немного смущённый Егоров и успокоил Милу, прихватив её за локоть: – Ничего страшного. Ноги просто затекли, пока ждал этого оболтуса.
– Надо растереть их и в тазик с горячей водой, – посоветовала баба Паня.
Валентина даже передёрнуло, когда он представил себе эту заботливую процедуру на всеобщем обозрении. А Мила продолжала всматриваться в его глаза с подозрением, словно не верила, что неприятности заключались только в затёкших ногах, и искала какую-то недосказанность.
– Ничего не надо. Кровь уже разбежалась по моим «костылям» и всё в порядке. Вот, чайку бы горячего, – обратился Валентин тихо и исключительно к Миле.
Она неохотно оторвала от него руки и направилась к плите, прихватив со стола чайник.
Максим снял с себя джинсовку, небрежно зацепил её воротником за ручку двери и прошёл к раковине, мыть руки. В эту минуту он чувствовал на себе пристальный и выжидающий взгляд матери. Кожей на шее и затылком, он так же ощущал её радость от благополучного его возвращения и сдерживаемое желание узнать, что же произошло с ним там, на развалинах.
Обтирая руки полотенцем, Максим повернулся к окну, на фоне которого сидела мать, как всегда невозмутимая, с привычной гордой осанкой, как и подобает королеве, которая со скрываемым нетерпением ждёт важного доклада. И вдруг, приятное судорожное волнение охватило Максима; оно легонько пробежало по его сознанию и нежно разбудило в нём недавние и не доведённые до окончательной ясности мысли. Он определил причину своего волнения: она заключалась в неком счастливом удовольствии за свою…, пусть не состоявшуюся ещё пока, но уже одобренную и утверждённую кем-то свыше, судьбу, которую он должен принять с благодарностью. Упоённый этим наваждением, Максим сосредоточился на строгом, но очень милом и родном лице своей матери, окунувшись в её беспокойные и умоляющие о чём-то сокровенном глаза, и как будто понимал, что могло скрываться за той гигантской волной, и о чём с угрозой его предупреждали. Знакомые с детства, но теперь казавшиеся освежёнными, свет и теплота материнской любви окутали его полностью, словно завернули в большое мягкое одеяло. Максим твёрдо знал, что от этой любви он никогда и никуда не сможет деться, ни при каких обстоятельствах. И это было даже не знание, и не какая-то убеждённость, а нечто большее, чего нельзя объяснить. Наверное, из подсознания выплеснулась какая-то подсказка, но он вдруг ясно понял, что именно эту страсть и чистоту он уже унаследовал и обязан нести её дальше уже без каких-либо дополнительных словесных объяснений и упрашиваний.
Максим почувствовал, как усталость от похождения в туман скатывалась с его плеч, густым потоком стекла по ногам и ушла куда-то в пол. Его не тревожили уже замысловатые высказывания, подаренные ему на этой безумной прогулке по развалинам, и теперь ему не казалось, что всё сказанное там, несло уж слишком какое-то глубокое значение. Так…, – полезная болтовня, и не более. Значимость и глубина были сейчас здесь, перед ним, в обстановке, которая его окружала. Максиму не хотелось прерывать это до слёз приятное наваждение, посетившее его, но, что поделаешь; вот-вот кто-то произнесёт слово, и эта нега оставит его. Он только ответной улыбкой своих ясных глаз безмолвно благодарил мать за всё.
– Вижу, вижу, что доволен своей вылазкой, – сказала она с ласковым упрёком. – Остынь, потом расскажешь, что ты там натворил. Поверь мне, что спустя время, разумнее воспринимаешь вроде бы обследованные уже вещи. Так что, отдышись и успокойся.
– Вот как раз понятие о времени, мам, во мне сегодня изуродовали до неузнаваемости, – с претензией пожаловался сын и прибавил убедительно: – Не успокоюсь, пока не проверю этот ребус.
– Ладно, проверишь, проверишь, – поддержала она его рвение и, чуть сдвинув брови, спросила хитренько: – А есть, что сказать нам всем, только по существу?
Максим пожал плечами, развёл руки в стороны и с простецкой иронией ответил:
– А наше туманное существо завтра уходит.
Валентин Егоров уже знал эту новость, а вот женщины заметно оживились лицами, но больше никаких вопросов не прозвучало. Каждая из них пыталась для себя определить, что это сообщение для неё означает: долгожданное освобождение из замкнутого пространства или прощание с тревожной, но всё-таки, сказкой? Ах, каким же порой бывает приятным этот редкий коктейль чувств, смешанный из радости и печали.
Валентин, двумя руками обхватив чашку, сидел за столом, маленькими глотками отхлёбывал горячий чай и, не отрывая глаз, смотрел на сахарницу, что стояла перед ним, и размышлял о чём-то своём. Мила, сложив на скатерти крестиком руки, сидела напротив и наслаждалась его голубыми глазами, застывшими в этом задумчивом полёте.
Баба Паня теребила пальцами снятый с головы сиреневый платок и перебирала в памяти свои запасы по тканям, которые у неё хранились в шкафу, но, не припомнив ничего подходящего, обратилась к Зиновьевой с привычной грубоватостью:
– Светка, а у тебя занавески в комнате висели, такие зелёные с ромашками. Куда дела?
– Когда это было. Лет десять назад уж, как утилизировала на тряпки, – разочаровала её Светлана Александровна, склонила голову набок и с сочувствующей улыбкой смотрела на соседку, явно подозревая, зачем той понадобились эти занавески.
Баба Паня расстроено опустила глаза, по-детски надула губы и глубоко вздыхая, зашумела носом. Всех растрогала эта умилительная досада старушки, а Зиновьева, сдерживая кулачком свой рот от добродушных смешков, произнесла:
– Да, будет тебе твоё зелёное платье в белый горошек, Пашенька. Теперь у нас всё будет. Тебе давно уже пора приодеться.
Баба Паня сначала помотала головой, как бы отрицая такое предположение, но потом неожиданно расцвела блаженной и застенчивой улыбкой, а глаза её были обращены в радостном недоумении на догадливую Зиновьеву.
– А я буду теперь откладывать на машину, – продолжая тему обновлений, объявил Макс. – Представляете, тёть Мил, на работу будем ездить, как белые люди. А в выходной день, чуть что понадобится, вжик, и через час всё доставлено. Хоть свежий торт к вечернему чаепитию. Что скажешь, Владимирович?
Валентин оторвался от чашки и поддержал:
– Своя машина – это хорошо, – и прибавил с сарказмом: – А то «служебные»…, – они уж больно сильно напрягают.
– Дамы! Вы слышали?! – заторопился развесёлый Максим. – Это надо занести в какой-нибудь протокол. У нашего рассудительного Владимировича появилось обалденное чувство юмора.
– Да, куплю я вам вашу машину. Вы мне только платье подгоните, как обещали, – неожиданно сообщила баба Паня, и после небольшого замешательства, вызванного таким заявлением, все дружно рассмеялись.
Светлана Александровна подвинула к Валентину принесённую бабой Паней плетёную тарелочку с ванильными сухарями, и заботливо упрекнула:
– Чего чай впустую гоняешь? Налегай хотя бы на мучное.
– А у нас тут тоже кое-чего произошло, пока вас не было, – интригующе призналась Мила Алексеевна, обращаясь к мужчинам.
– Да, в самом деле, случилась какая-то чепуха, которую не плохо бы выяснить, – подхватила, недовольно морщась, Светлана Александровна. – И это больше по твоей части, Валя, потому что у тебя с Жмыховым, хоть какой-то контакт есть. Около часа назад наверху грохот какой-то поднялся. Что-то там падало, билось, а потом стихло, но никто из квартиры не выходил. Я к чему это уточняю, – да, потому что пол часа назад полковник в неглиже проковылял под окном и вошёл в подъезд. Я дверь приоткрыла и видела, как он поднимался к себе. Видок у него был…, словно в боях без правил принял участие. Мы здесь сидели и гадали: из окна он, что ли, спрыгнул до этого? Но окна-то его сюда, во двор выходят, …всё равно было бы слышно, а из подъезда он точно не выходил. Ты бы, Валь, сходил опять к нему, узнал, что с ним.
Егоров и так собирался проведать Жмыхова, а тут и повод представился. Валентин молча поднялся, кивнул головой Миле, как бы благодаря её за чай, робко улыбнулся, и направился в коридор.
– Я, не умела в виду, что немедленно…, – пыталась остановить его Светлана Александровна, не ожидавшая от соседа такой покорности, но Валентин ответил уже с порога:
– Возможно, там всё серьёзнее, чем мы думаем.
Дверь в квартиру Михаила Анатольевича была приоткрыта, но на всякий случай, Валентин постучал в неё и, не дождавшись отзыва, осторожно вошёл. Он увидел топор на полу в прихожей, поднял его и приставил к обувной напольной полке. Заглянул на кухню и увидел обломки стула. Егоров прошёл в комнату и в глаза ему бросился раскуроченный телевизор, потом изуродованная дверца шкафа, но подполковника нигде не было. Наконец, он обратил внимание на непонятный кавардак на кровати и, к своему изумлению, заметил, что из скрученного вперемешку с одеялом матраса торчат две грязные ступни. Конечности были опухшие, и все в мелких багровых точках, которые походили на следы от уколов. Валентин присел на край кровати и ладонью постучал по «рулету» пастельных принадлежностей, из которого доносилось тяжёлое дыхание.
– Михаил Анатольевич, вы как себя чувствуете? – спросил Валентин и отметил, что его обращение получилось каким-то равнодушным.
В постельном лабиринте послышалось невнятное недовольное бурчание.
– Может быть, воды принести, или у вас покрепче что-нибудь осталось? – предложил Валентин, и свалка на кровати зашевелилась.
После недолгой возни «рулет» вскрылся, представив Егорову хозяина квартиры, который лежал на спине, чуть приподнялся на локтях, с трудом держал голову, в неагрессивном возмущении разглядывал пришельца и не спешил говорить, потому что пытался вспомнить, о чём его спрашивали.
Эта пауза дала Валентину возможность получше разглядеть несчастного Михаила Анатольевича. Вблизи, да ещё без верхней одежды, окроплённое царапинами тело нелюдимого соседа казалось Валентину чудовищно массивным и как будто излишне раздутым, словно это была резиновая оболочка, облаченная в порванные сбоку полосатые семейные трусы и запачканную землёй майку. Но не общий вид Жмыхова, не многочисленные царапины на теле и не красное лицо пьющего не первый день человека, в котором явственно отображалось повышенное кровяное давление, ввели Егорова в лёгкое смятение; его поразили глаза подполковника. С последней встречи они разительно изменились, как будто претерпели медицинскую обработку и теперь наполнились отчаянным осознанием чего-то губительного и неизбежного. Валентину почему-то представилось, что такие глаза имеет загнанный зверь, которого обложили со всех сторон и вот-вот должен прозвучать выстрел. Страх, ненависть, злоба, усталость и ещё что-то выразительное, но необъяснимое, принимал на себя Валентин в этом взгляде и не понимал, чего из всего перечисленного преобладает в повышенной степени. Он попытался за этой грозовой завесой отыскать в глазах Жмыхова просвет душевности, какую-нибудь внезапную жажду понимания. И, видимо, увлёкшись этими поисками, Валентин, как будто случайно, обнаружил в себе какое-то дополнительное внутреннее зрение, …немного настроился на него и… нашёл то, что искал; разглядел маленький лучик, когда сосредоточился именно на усталости в глазах подполковника. Валентину показалось, что именно там кроется что-то светлое и по-детски чистое, но придавленное всем остальным негативом. Он даже обрадовался этой находке, посчитав, что эта искорка очень важна для него, что она придала ему уверенность в намечающемся общении с Михаилом Жмыховым.
– Завтра туман уйдёт, и всё закончится. Это достоверный прогноз от самого источника. Осталось потерпеть ещё чуть-чуть, – заговорил Валентин спокойно, почти без интонации. – Если связь так и не восстановится, я доеду до города и первым делом вызову вам «скорую помощь».
На красном лице Михаила Анатольевича промелькнуло тяжёлое подобие недоверчивой усмешки. Не сводя с непрошенного гостя глаз, он с трудом приподнялся в кровати и с кряхтением сел.
– Почему каждый раз, после этой раскрашенной рожи, я вижу именно тебя? – задался занятным вопросом Жмыхов, и голос его захлёбывался в ужасной хрипоте, потому он тут же принялся откашливаться.
– Но, надеюсь, что я вас не раздражаю так, как она? – дипломатично осведомился Валентин, догадавшись, что под «раскрашенной рожей» подразумевалась супруга подполковника.
– Ты нет, – выдохнул Михаил Анатольевич, помассировал пальцами горло, крякнул разок для профилактики и пожаловался: – Опять забыл, как тебя звать.
– Валентином, – напомнил Егоров.
– Какое-то бабское имя, – утирая большим пальцем уголок рта, высказался Жмыхов.
Валентин завёл глаза к потолку, чтобы скрыть небольшую появившуюся обиду и объяснял:
– Я родился в феврале, в день святого Валентина. Тогда эту дату никак не отмечали; праздник-то католический и, значит, антисоветский, а мой отец был убеждённым коммунистом. Но каприз моей матери сломил все его возражения. Насколько я помню, вы даже здоровались с моими родителями, когда жили здесь. Они умерли чуть больше десяти лет назад.


