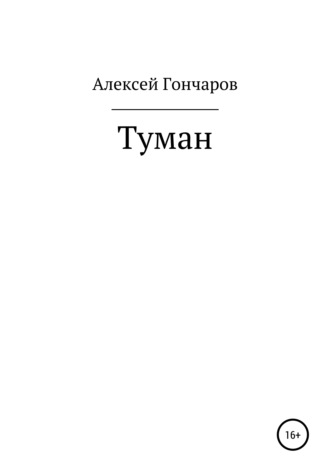
Алексей Александрович Гончаров
Туман
Глава 5. Тайные похороны.
Валентин Егоров проснулся внезапно, словно кто-то надавил ему на болевую точку. Ему казалось, что сон ещё оставался где-то рядом, в перьях подушки и в кромке упирающегося в шею одеяла, но он не мог его вспомнить и, тем более, вновь в него погрузиться. Какой-то беззвучный, но напористый зов, исходящий за пределами квартиры; толи за окном, толи за дверью, просил Валентина немедленно подняться. В его голове быстро промелькнули события вчерашнего дня с вечером и, с тревожным осадком на душе, Егоров сунул свои ноги в шлёпанцы.
В комнату сквозь широкую прорезь в занавесках пробивалось молчаливое утро, и все предметы уже были различимы в тусклом свете. Валентин с мимолётной надеждой взглянул на этот просвет в окне, но сразу же понял, что туман всё ещё властвует во дворе. С этой точки, когда он вставал с кровати, то всегда видел в окне ветку высокой осины, которая башней возвышалась за беседкой, а сейчас в окне был только белый фон.
Валентин даже не стал дальше проверять, а прошёл на кухню, включил газ и поставил на плиту чайник. Он нарочно пытался себя отвлечь от этого непонятного зова, который не нарастал, но и не успокаивался, а словно монотонно просил Валентина пойти неизвестно куда. Егоров догадывался, что этот невнятный «призыв» как-то связан с невероятным туманом, но, словно дразня его и, как бы вырабатывая в себе невозмутимую стойкость, Валентин крепился.
Открыв холодильник, он решил изучить свои продовольственные запасы, и обрадовался, когда нашёл остатки докторской колбасы и пять яиц; этого было достаточно для достойного завтрака, так что в других свёртках и пакетиках Валентин копаться даже не стал. В морозилке он обнаружил шмоток сала, кусок замороженного мяса и подумал, что завтра, если туман не уйдёт, придётся зайти к бабе Пане на поклон за крупой, чтобы сварить себе какую-нибудь похлёбку.
Два желтка накрыли кусочки колбасы и зашипели на сковороде, а Валентин жевал корку чёрного подсохшего хлеба и думал о Миле Добротовой: «Как там она? Проснулась или ещё спит? Успокоилась? Вернулся ли её Пётр домой или нет?». Он вспомнил последний перед сном короткий разговор с бабой Паней и согласился со старушкой: «А ведь Мила действительно очень похожа на мою бывшую супругу, и фигурой, и мягкостью характера, и даже голосом. По своей вине потерять женщину, а потом, через какое-то время, примерятся к другой… похожей на неё, – это какой-то вялый мазохизм. Или идиотизм? Это надо же быть таким чёрствым чурбаном (имел он ввиду, разумеется, себя) чтобы довести женщину до такого…, чтобы она смогла решиться! поменять одного мужчину на другого. Да…, Татьяна (так звали его бывшую супругу) намного сильнее, а главное, правдивее меня, …а я трус и безмолвный лжец», – осуждал Валентин себя по этой теме развода уже далеко не первый раз.
Прямо из сковородки он подцеплял на вилку куски безвкусной яичницы (потому что забыл её посолить) и продолжал размышлять, упорно игнорируя продолжающийся в его голове неведомый зов, призывающий не понятно к чему. «А ведь Мила сейчас в таком же положении, как и моя «бывшая» Татьяна. …Поздравляю тебя, Валентин Егоров, ты стал таким же, как и твой призрачный оппонент, которого так и не увидел за четыре года. Но сколько бы я не сравнивал себя с Петром, выбор всё равно остаётся за Милой…».
И тут сквозь отдалённый зов в его мозг ворвалось: «Выбор сделан».
Валентин встряхнул головой, отбросил в сторону вилку и даже немного разозлился.
– Пожрать не даёшь, – буркнул он неизвестно кому и пошёл в комнату одеваться.
«Из одного сна, который не запомнился, сразу же погружаться в другой, – иронично, но с тревогой размышлял он, стоя возле окна, смотрел на непроглядный туман и застёгивал рубашку. – «Ну, куда ты меня зовёшь? Сны, вроде как, предвестники будущего. Так какой ты мне дашь совет? такой же, как баба Паня? Дать Петру в морду, водрузить на себя Милу и притащить её сюда? Слишком варварский и неуважительный способ для нашего времени».
В этот момент острая боль прострелила его виски, и в голове прозвучал печальный голос: «Ты слишком долго раскачиваешься. Женщины уходят».
– Да, иду я, иду! – вскрикнул Валентин, хватаясь за виски, не понимая, про каких женщин шла речь. Боль мгновенно пропала и он, усердно жмурясь, проговорил: – Я и так собирался сделать дежурный обход. Причём, не исключая лежбище Жмыхова.
Слегка раздражённый он набросил на себя куртку, вышел на площадку и замер, разглядывая тёмную полоску между косяком и дверью квартиры номер тринадцать. Впервые за всё время Валентин видел эту дверь приоткрытой, и это обстоятельство не сулило ничего хорошего. Мрачный испуг подкрался к его сердцу.
– Маргарита Николаевна, – осторожно позвал он в проём, и в нос ему ударил резкий неприятный запах.
Егоров сразу распознал уксус, и волнение его начинало зашкаливать.
– Маргарита. Это я Валентин – ваш сосед. У вас все…? – приоткрывал он дальше дверь и осёкся, потому что дверь во что-то упёрлась.
Валентин побоялся сильнее надавливать, а просунул в проём голову….
Во рту Егорова мгновенно образовалась засуха, в горле застрял ком с привкусом яичницы, а сердце ударилось пару раз о рёбра и упало в живот.
Её хрупкое тело, облачённое в халатик, лежало прямо на полу в коридоре, лицом вниз, а руки были выброшены вперёд, словно она хотела уцепиться пальчиками за порог. В них-то и упиралась дверь.
Валентин проник в прихожую и понимал, что всё кончено. Ему не надо было наклоняться и щупать пульс; он видел безжизненные тела, и не только своих родителей. Не в силах смотреть на раздирающую душу картину, он закрыл глаза, прикрыл лицо руками и с болью прошептал:
– Ну, зачем?
Он почувствовал возле переносицы влагу, его обессиленные ватные руки скользнули вниз, а взгляд бессмысленно упёрся в потолок. Так он стоял какое-то время и безуспешно пытался разобраться с охватившей его душу агонией, с мыслями, которые комкались, превращались в однородную бесформенную массу и твердили только одно: «Случилась непоправимая страшная беда».
Найдя в себе кое-какие силы, Валентин всё же присел на корточки и положил руку на её шею, чтобы проверить, насколько она холодна. Не будучи специалистом, в этой области, он определил, что достаточно, чтобы считать, что Маргарита скончалась несколько часов назад. И только теперь, когда он наклонился над ней, он вспомнил про запах уксуса, к которому принюхался и который исходил от тела. Валентин осмотрелся, и не найдя ничего подозрительного прошёл на кухню.
Пустая маленькая бутылочка с ядовитой вонью валялась на полу у газовой плиты, на столе лохмотьями лежала фольга и бумага от лекарственных упаковок, а под ногами Валентина белели разбросанные кругляшки таблеток. Походив немного, осматривая помещение, он присел к столу спиной к окну, подпёр голову рукой и стал думать, как действовать дальше, со щемящей болью поглядывая на прозрачные женские ножки, зловеще белеющие в коридоре.
Светлана Александровна пекла оладьи, а Максим брился там же на кухне, выставив на подоконник маленькое зеркало и кружку с водой, в которой периодически ополаскивал бритву, когда Валентин Егоров постучал в стекло.
– Валя заходите. Будем пить кофе с оладьями, – обратилась Зиновьева громко к окну.
Максим подозрительно посмотрел на мать, потом на Владимировича в тумане за окном, провёл между ними мысленную черту, понял, что увидеть соседа она никак не могла, и решил подшутить:
– Это баба Паня.
– Пашенька, если и заходит, то через дверь и без стука с одним единственным приветствием: «Это я», – популярно объяснила она.
– А… прокажённая из тринадцатой квартиры? – не сдавался Максим.
– Хватит дурачиться, и зови друга на завтрак, – приказала мать. – Чего он там скребётся? А если бы там сейчас стояла Маргарита, ты бы подскочил до потолка, или проглотил бы бритву, – прибавила язвительно она.
– Владимирович, заходи! Тебя опознали! – крикнул Максим через стекло.
Валентин потому там за окном мялся, что хотел вначале вызвать одного Максима во двор, чтобы рассказать ему об ужасной новости и обсудить с ним, что делать дальше. Но весёлый настрой молодого друга, вызвал в Егорове здравое мышление. «Чего шушукаться. Не будем же мы скрывать смерть Маргариты от женщин, – посчитал он. – Надеюсь, что Милы там нет, а Светлана Александровна в таком деле, даже полезнее Макса будет».
– Хорошо, захожу, – глухо отозвался он снаружи.
Вздохнула дверь, и появился Валентин. Он не стал проходить, а остановился на пороге кухни, виновато поглядывая то на Макса, то на Светлану Александровну. Максим оторвался от процедуры бритья, посмотрел внимательно на соседа и по восковой бледности на его лице предположил, что тот не совсем здоров (о чём-либо другом Зиновьев думать боялся).
– Владимирович, на тебе лица нет, – по-дружески обеспокоился он, продолжая свой весёлый настрой, как некую форму защиты от дурных известий. – Ты что, так и не смог заснуть?
Виноватость в глазах Валентина сменилась глубоким огорчением и, глядя на окно, он произнёс:
– Маргарита покончила с собой.
Бритва с бульканьем и звоном опустилась в кружку, а сковорода со скрежетом переместилась по плите на свободную от огня конфорку.
Сложно описывать создавшуюся паузу, да и не стоит её тревожить какими-нибудь неуместными деталями. Даже бестактно с моей стороны отмечать, что смерть Маргариты вонзилась иглой в сердце Светланы Александровны и её сына и теперь проникалась дольше во внутрь, где сама решала, что делать с каждым из них. А Максим уже успел укорить себя за недавно произнесённое им понятие: «прокажённая».
Так устроено, что почти у любого получившего горестное извещение о гибели знакомого человека, тут же возникает живой образ покойного. Зачастую, многим он видится на светлом фоне с приветливым выражением на лице и движениями, как будто восхваляющими жизнь. К Маргарите Потёмкиной, конечно, тяжело подходил подобный солнечный фон, но каждый из троих, находившихся на кухне, всё же вспомнил сейчас её случайно выскользнувшую улыбку, когда Маргарита утром, торопясь на автобусную остановку, случайно сталкивалась с кем-нибудь из соседей. Пусть эта улыбка была натужная, не совсем приветственная и, безусловно, редкая на лице этой женщины, …но она была, и сейчас хранилась в памяти тех людей, которые всегда были безразличны Маргарите.
– Милу пока будить не надо, – сказала с заметной горечью в горле, но по-деловому спокойно Светлана Александровна. – Я ей вчера лошадиную дозу «успокоительного» дала.
– А муж её вернулся? – постарался переключить свои мысли Валентин.
– Не знаю. В подъезд, во всяком случае, никто не заходил, – ответила мрачная Светлана Александровна.
Максим всё же заставил себя добриться, убрал причиндалы с подоконника в навесной шкаф и, подсаживаясь к столу, спросил рассудительно, но чувствовалось, что его деловитость какая-то нарочно искусственная, словно пробивается через силу:
– А ты уверен, что она сама…?
– После вчерашнего вечера, …нет, – откровенно признался Валентин. – А в реальности всё выглядит, как умышленное отравление. Таблетки все вскрыты, пустая бутылка из-под уксуса на полу.
– Какой ужас, – передёрнулась в плечах Зиновьева, стоя у плиты и дожаривая оладья.
– Жутко и очень жалко. А главное, что совсем не вовремя, – продолжал Максим рассуждать в своей искусственной манере, будто подражал спокойствию своей матери. – Но обстановка, в которой мы оказались, сама просит нас послать к чёрту всякие законности. Предлагаю поступить по-человечески и похоронить её сегодня же возле нашего дома. Она была нашей соседкой и, насколько я знаю, кроме нас у неё никого нет.
– А когда туман уйдёт, представляешь, какая заваруха по этому поводу начнётся? – высказал разумное предостережение Егоров.
Максим навалился локтями над столом, руками придерживал голову и смотрел на скатерть, а потом сказал уверенно:
– Похороним, Владимирович. Наведём в квартире идеальный порядок, и скажем, что с позавчерашнего дня её не видели. Пусть для всех этих ментов она остаётся живой. Пусть числится…, как там у них…, пропавшей без вести. Ничего, подымут, наконец, свои задницы и начнут искать женщину, которая и при жизни была призраком. Хотя, если честно, я уверен, что у них и дела до неё не будет.
Максим по своему обыкновению начал заводиться, стукнул ладонью по столу (больше от переживания за смерть Маргариты) и говорил дальше:
– Я понимаю, Владимирович, твои переживания, и во многом ты прав, насчёт осторожности. Но в этом мире, поверь моему молодому опыту, нет никакого дела до мёртвых. Мертвецы для них, … для этих правителей жизни, это только повод, чтобы живым пупки накручивать. Ради этого занятия они и покойника готовы из могилы вытащить. Но мне уже плевать на них. Мне уже давно всё хочется делать наперекор их далеко не здравому смыслу. И не оставим же мы её, вот так…, лежать в доме, – уже более спокойно закончил он.
– Где хоронить будем? – спокойно спросил Валентин, дождавшись, когда Максим окончательно успокоится.
– Давай возле леса, за беседкой, – небрежно предложил он, – чего далеко ходить.
Светлана Александровна поставила на стол заварочный чайник и большую тарелку с оладьями.
– Валентин, ты долго будешь там стоять в дверях, как не родной? – пригласила она, таким образом, Егорова к столу.
– Спасибо, Светлана Александровна, но я уже завтракал, …а сейчас, ну, просто, не могу, – измученным голосом отказался он.
Она с искренним сочувствием посмотрела на него и предложила:
– Может быть, тогда водочки?
Валентин задумался над этим, как над серьёзной задачей, прищурил один глаз, процедил сквозь зубы воздух, словно успокаивал зубную боль и сказал:
– А вы знаете, наверное, это сейчас даже полезно. Но только, если Максим мне составит компанию.
– Наливай мать, – бодро отозвался тот. – Хоть я всегда и считал это пошлостью, но помянем несчастную Маргариту Николаевну.
Мила Алексеевна спала всю ночь крепко, но проснулась от острой головной боли и первым делом обошла квартиру в поисках мужа. Не найдя никаких признаков его ночного присутствия, она достала из шкафчика аптечку и трясущимися руками выковыряла из упаковки две таблетки цитрамона. Запила лекарство водой и подошла к окну, хотя смотреть в него не имело никакого удовольствия и смысла. Но пульсирующая боль начала потихоньку отпускать, когда она бессмысленно рассматривала «белую вату» за окном. Все вчерашние события вспомнились ей с необычайной ясностью, но почему-то сейчас в ней было только одно беспокойство: «Где её Пётр?».
Самое интересное, что если капнуть, так сказать, поглубже Милу Алексеевну, то можно увидеть, что переживания эти были ненатуральными, а выглядели какими-то въевшимися в самое мясо занозами ещё с давних времён. Сейчас эти переживания больше походили на её ответственность за мужа перед сыновьями и внуками. Чтобы скрыть в себе эту бестолковую истину, она без всякой конкретики на особый и сложный (как ей казалось) характер Петра, думала о муже просто, как о живом существе. Мила представила себе, что он не у соседа напротив, а, действительно, заблудился в этом тумане, как-то переночевал в нём, и сейчас сидит в нём на мокрой земле голодный, замёрзший, несчастный и проклинает всё на свете, возможно даже и её. Под это, доводящее её до слёз представление, ей вдруг вспомнилось вчерашнее высказывание: «Будем считать, что выбор сделан».
«Какой выбор? – залепетали её мысли, когда она массировала пальчиками виски. – Никакого выбора я не делала. Разве так выбирается? Что происходит? Как так можно? Человек – это не трусы, …он живой! Даже обычную тряпку нельзя просто так взять и выкинуть, всё равно она может в хозяйстве пригодиться, а сейчас меня заставляют не переживать за человека, с которым я прожила всю жизнь».
Опять же, эта последняя мысль напоминала больше оправдание, в котором не было искреннего мотива, и Мила душой это знала.
Вдруг ей вспомнились слова цыганки, с которой она встретилась позавчера на автовокзале. Та ведь ей обещала какую-то белую пустоту, ещё страх и отчаяние. А ведь всё как будто сбывается! Вспомнила описанный на словах рисунок мальчика Ромы, где она с Петей стоит возле розового дома и обещание цыганки, что всё будет хорошо.
– Всё будет хорошо. …Всё будет хорошо, – повторяла Мила, заходив по кухне от окна к раковине и обратно. – Пусть я буду доверчивой дурой и поверю в счастливый конец. Всё будет хорошо. Нельзя накручивать себя этим кошмаром.
Валентин шёл к себе в квартиру за лопатой и встретился в подъезде с бабой Паней. Он отметил для себя, что сегодня его соседка выглядит иначе и по-особенному. Меньше сутулится, вместо телогрейки надела чёрное межсезонное пальто, а на голове новый тёмно-синий платок с невзрачными бледными мелкими цветочками.
– Как спалось, баб Пань? – угрюмо спросил Валентин.
– Не очень, – также сурово буркнула она.
– Понимаю, – со вздохом произнёс он и хотел её обойти, но она придержала его за руку.
– Погоди. Что там с нашей принцессой? – задала она разящий вопрос.
Егоров отвёл взгляд в пол, стараясь скрыть в своих глазах заметавшееся беспокойство, и гадал, насколько баба Паня уже близка к этой трагедии.
– Вы у неё уже были? – спросил он напрямую, чтобы не мучиться пустым подозрением.
– Нет. Не была, – покачала она головой, пристально вглядываясь слезящимися глазками в Валентина, и он понимал, что она говорит правду.
– Она умерла, – произнёс он пресно, стараясь без эмоций, чтобы старушка понимала, что он уже не переживает по этому поводу.
– Я так и знала, – проговорила почти ему в такт баба Паня.
От неожиданности Валентин растерялся. Какой-то тонкий стон, требующий передышки, зародился у него в груди. Только что он по-деловому обсудил с Максимом детали похорон и настроился на рабочий лад, а тут опять какие-то загадки.
– Как вы могли знать, если не заходили к ней? – спросил он с чуть прорвавшимся этим стоном в голосе.
– Я почувствовала, Валечка, – успокаивающе отвечала она, – ещё ночью. Я вроде как заснула, о потом очнулась, и слышу, как будто ветер прошёлся по лестнице. …Ей было тесно здесь у нас в подъезде. Доски поскрипывали, и стены немного пошатнулись….
– Да, кому ей-то?! – обессиливший от непонимания вскрикнул Валентин.
– Смерти, Валечка, смерти, – также спокойно, словно успокаивая его, объясняла старушка. – Поверь мне старой, мы с ней давние подруги. Вначале я её ненавидела, а с годами мы с ней сблизились, и вот сейчас я ощущаю каждый её шорох. А сегодня ночью я почувствовала, что она основательно здесь побывала. Вначале подумала: она за мной пришла, а потом прислушалась, …не-е-е; подруга наверх поднялась.
– Фу-ты ну-ты, – выдохнул Егоров, но не сказать, чтобы с полным облегчением. – Хватит меня пугать, баб Пань, мне и так погано. Руки вон трясутся, – продемонстрировал он перед ней свои пальцы.
– А можно я с тобой поднимусь, посмотрю на неё? – капризно, как просят дети, спросила она.
– Вообще-то я к себе за лопатой шёл. Но пойдемте, раз вы уже всё знаете, – не раздумывая, согласился Валентин, взял её за предплечье и повёл наверх, добавив по пути: – Всё равно все вместе хоронить будем. Ваша помощь – необходима.
Егоров достал с антресоли в прихожей лопату, взял на всякий случай топор, чтобы рубить корни, если те попадутся, и с этим инструментом отправился в тринадцатую квартиру. Он растрогался до горького кома в горле, когда перед ним предстала неожиданная для него картина. Баба Паня уже перевернула тело Маргариты на спину, сложила ей руки на груди и, стоя над ней на коленях причитала:
– Бедная девочка, что ж ты наделала. Ну, разве ж так можно. Чего ж к людям не пошла, дурёха неразборчивая. Не все же кругом звери.
От такого разительного преображения ворчливой пожилой соседки, Валентина накрыла волнительная до слёз оторопь. Чтобы совсем не размякнуть, он прервал эти искренние страдания старушки:
– Вот, и у меня так же…, баб Пань. Перед бездыханным телом мы раскрываемся, а живого человека жалеть не умеем?
– С покойниками легче разговаривать, Валечка, – заявила баба Паня, поднимая на него жалобный взгляд, – они внезапно становятся мудрыми, слушают, что над ними шепчут, внимают и не огрызаются. Но это я говорю не о близких. …Там всё по-другому. Ты же помнишь смерть своих родителей.
– Да, тогда я жалел себя, – вспомнил Валентин и прибавил: – Но они ушли не так преждевременно.
– Ох, дурёха неразумная, – поглаживала баба Паня руки покойницы.
Валентин тяжело вздохнул и с грустью промолвил:
– А у меня по-особенному ноет за неё душа. Я ведь только вчера, в очередной раз, пытался наладить с ней соседские отношения и мне кажется, произошёл какой-то сдвиг. Во всяком случае, Маргарита разговорилась со мной, и не о каких-то пустяках, …мы даже с ней немного философствовали. Да, с ней не легко было общаться; она всё время вела себя как дикая кошка, но, видимо, мне следовало почаще к ней заходить. …Тем более свободного времени для этого было предостаточно, когда Татьяна от меня ушла. Глядишь, привыкла бы ко мне Маргарита, хотя бы тупо, как к говорящей мебели. Я хочу, чтобы вы знали, баб Пань, что я человек чёрствый по отношению к окружающим, потому что внутри очень мягонький, как свежий батон белого хлеба.
– А ты думаешь, остальные по-другому устроены? Все мы, Валечка из одного теста, только хрустящая корочка у всех разная, – поделилась своей мудростью старушка.
Валентин уважительно и с лёгким удивлением оценил её притчу и сказал:
– Но её «корочка» так и останется для нас не разгаданной. Я только догадываюсь, что ей крепко досталось от жизни и, скорее всего, на то были причины, чтобы носить такой панцирь.
Ассоциативно Егоров вспомнил про плед Маргариты, который они с Максимом вчера безалаберно забыли возле дома, но Валентин не мог вспомнить видел ли он его сегодня, проходя дважды мимо сложенной на земле верёвки.
– Какой же это панцирь, – возразила баба Паня, поднимаясь с колен. – Это, …как там, у магов…, мантия невидимки на ней была. Видишь, вот и сдуло её ветром вместе с душой.
– Мантия безразличия, в которой она же сама и задохнулась, – задумчиво проговорил Валентин, как будто сам себе.
– С тобой она хоть разговаривала, а со мной даже не здоровалась, – говорила баба Паня, не обращая внимания на его задумчивость. – Только хмыкала как-то вместо слов. Бывало, встречу её утром, кивну ей головой, а она в ответ свою хлипкую головушку склонит, фыркнет что-то себе под нос и идёт дальше. …А нет, вспомнила кое-что. Один раз она посмотрела на меня как-то так смешно, будто у меня лицо в саже измазалось, или ещё что-то. А у меня и на душе от этого как-то потеплело. Думаю: нет бы, да остановиться ей, заговорить со старухой….
– Очень хорошо представляю себе эту картинку, – поддержал её Валентин и, уходя в комнату, произнёс: – Но, чего теперь об этом говорить.
Он принёс чистую простыню, позволив себе покопаться в шкафу Маргариты, и они с бабой Паней аккуратно накрыли ею тело, бережно заправляя края под спину и ноги покойной.
Мила Алексеевна скоро устала и измучилась от своих мыслей и принялась искать себе занятие, чтобы отвлечься от них. Есть она не хотела, а для кого тогда готовить завтрак? В комнате она подошла к шкафу, открыла дверцу и долго смотрела на сложенную и рассортированную по стопочкам одежду сыновей и внуков, хранящуюся на случай их приезда. Она достала одну маленькую рубашечку, развернула её и заплакала, прижимая ткань с нарисованными корабликами к лицу. Но это уже были слёзы не отчаяния, а скорее, умиления и безудержного скучания по своим мальчикам. Ей захотелось перебрать заново всю одежду, чтобы получить те же чувства, что и вчера, когда она просматривала альбом с фотографиями. Она готова была провести за этими занятиями вечность; когда нет раздражительных моментов, когда в её голове только приятные воспоминания, а в душе и на сердце вынашивается светлое предчувствие будущего, которое почему-то никак не связано с Петром, а только с сыновьями и внуками.
Но Мила посчитала, что перебирать постиранные и подготовленные к носке вещи, это будет выглядеть несколько истерично и, сложив рубашечку квадратиком, она опять положила её в шкаф. Закрывая дверцу, она снова почувствовала в себе привычную безнадёжность, которая никак не была связана с туманом, а появилась давно, с тех пор как дети покинули этот дом.
Когда в жизни каждого из нас происходят неприятные перемены, мы, грубо говоря, делимся на три категории. Первые считают, что в этом виноват «кто-то», вторые предпочитают относить жизненный провал к чёрной полосе в судьбе, а третьи копаются в себе, в поисках причин. Мила была из третьей категории. Привычный быт её разрушился (неизменной оставалась только её работа), и Мила корила себя за то, что не смогла перестроиться, что вовремя не подготовилась к переменам и не смогла настроить себя на уединённую жизнь с мужем. Раньше она никогда не задавалась таким глобальным и грозным вопросом: «а правильно ли она живёт?», но теперь он её мучил постоянно. «А всё ли я делаю так, как надо?», – в очередной раз спросила она себя, и к горлу подкатывалась горькая жалость к себе. Зачастую, это одинокое обидное чувство приводило её в полное отчаяние, и тогда она «брала себя в руки» и спускалась вниз к Светлане Александровне, которая, по счастью, всегда находилась дома. Так сложилось, что за последние годы Мила могла зайти к соседке без особых причин, и это выглядело естественно и обычно, а в сложившейся ситуации, как сейчас, являлось простой необходимостью.
– Доброе утро, Максим, – поздоровалась она, входя в коридор квартиры на первом этаже.
– Не скажу, что оно доброе, тёть Мил, скорее наоборот, скорбное. Но здоровья вам желаю от всего сердца, и как никогда, – с суровой иронией ответил Макс, суетливо натягивая сапоги.
– А ты куда собираешься? – с тревогой спросила она, приложив руку к груди.
– Проходите, проходите, тёть Мил, – вежливо, но торопливо говорил Максим. – Мама вам всё расскажет, а я побегу. Владимировичу помочь надо.
Он вышел, прихватив с собой приготовленную лопату и небольшой ломик, а Мила Алексеевна в растерянности прошла на кухню и, оборачиваясь в недоумении на тёмный коридор, поинтересовалась у Светланы Александровны:
– Что это с ним?
– Проходи, Милочка, и сядь, – немного жёстко попросила Зиновьева и уже смягчённым тоном предложила: – Кофе будешь?
– Пол чашечки, – согласилась Мила, продолжая напряжённо удивляться и, присев на стул, решилась снова спросить: – А что случилось?
Светлана Александровна внимательно посмотрела на соседку, оценивая её состояние и, в свою очередь, тоже поинтересовалась:
– Как ты себя чувствуешь после вчерашнего?
– Нормально, – закивала одобрительно головой Добротова. – Когда встала, голова раскалывалась, а сейчас прошла. Правда, Петя так и не появился.
– Никуда не денется твой Петя. Поверь моему жизненному опыту. Появится ещё, как мухомор среди благородных грибов, – разливая дымящийся кофе, приговаривала Зиновьева и сказала, как бы невзначай: – У нас другая потеря случилась.
Понимая после этих слов, что произошло что-то страшное, Мила разразилась вопросами:
– А куда Максим пошёл? Зачем он взял лопату, …надел сапоги? Что с Валентином случилось?
Светлана Александровна, убрала со стола две пустые стопки, которые так же вызвали у Добротовой недоумение, и присела рядом с ней.
– С Валей всё в порядке, – тихо сказала она, ещё раз внимательно посмотрела на Милу и проговорила как можно спокойнее: – Сегодня ночью, Маргарита с собой покончила.
Мила вздрогнула всем телом, как будто её стукнули, и стул под ней скрипнул. Она прикрыла ладонями невольно раскрывшийся рот, и её широко раскрытые глаза в миг наполнились слезами. Дрожащим голосом она произнесла:
– Как это так? Да, как же…? Почему…? – не могла она построить правильный вопрос.
– Ну, не надо, не надо…, – поспешила Светлана Александровна успокоить её, обнимая за плечи. – «Успокоительного» у меня много, но тебе пока больше не дам. А то будешь, как сопля. Сердце не железное, …сама медик, – должна знать.
– Зачем она это сделала?! – недоумённо вскрикнула Мила.
Слёзы текли по её щекам и скапливались между пальцев, дрожащих на подбородке.
– Это мы вряд ли уже узнаем, – с сожалением ответила Зиновьева.
– Так нельзя! Это неправильно! Это всё туман проклятущий! – не в силах кричать, всхлипывала Мила, и в плечах её отдавалась мелкая дрожь.
– Может и туман, а может и всё сразу, – размеренным голосом говорила Светлана Александровна, словно рассказывала ребёнку на ночь сказку и крепче прижимала к себе чувственную соседку. – Бедная Маргарита так и не научилась жить. А ещё, мне кажется, что она попросту боялась её. Знаешь, как птичка в клетке, вроде бы и дверца открыта, а она сидит на дне, забившись в угол, и трясётся от каждого звука. Помню, проходит она под окнами, а у меня возникло такое желание, выйти и дать хорошенько ей палкой по тощей заднице, чтобы хоть как-то растормошить. Хотя бы злость у неё вызвать и завязать бранную разборку, после которой, может, и путный разговор бы вышел. Но я не решилась, а она…, видишь как, так и осталась испуганной птичкой, только выход себе нашла более простой, не вылетая из клетки.
– Ничего себе простой, – возразила, начиная потихоньку успокаиваться Мила, вытирая об кофту мокрые ладони. – Решиться на такое….
– Дорогая моя, – приподняла брови Зиновьева, и в глазах её присутствовало только превосходство наставницы, – порой решиться на что-то другое, гораздо сложнее и мучительнее.
– А как она умерла? – оставаясь в растерянности от таких слов и взгляда, спросила Мила.
– Отравилась, – коротко ответила Светлана Александровна, но, подумав, что ей вместе с Милой скоро надо идти и прибираться в квартире, пояснила: – Валентин говорит, что таблеток наглоталась и выпила уксус.
– Какой кошмар! – вскрикнула Мила и опять поднесла руки к губам. В её глазах вместе с сочувствием перемешался страх. Она напряглась, сжала пальцы в кулаки и судорожно, невпопад стала высказываться и задавать вопросы: – Это же… сжечь себя изнутри! Я представить не могу себе, что это за муки…. А Максим пошёл могилу копать? А разве так можно, без милиции? Может быть, хоть этого …Жмыхова позвать?
– Позови, позови, – с поддельной нежностью, якобы, разрешила Зиновьева и пригрозила спокойно: – Он у меня рядом с Маргаритой и ляжет.
– Так это он её заставил…? – в ужасе предположила Мила.
– Добротова! Ну-ка возьми себя в руки, – приказала Светлана Александровна. – Хватит свою душу терзать и начинай думать головой.
– А что будет? Ведь надо кого-то…, как-то оповестить. Разобраться в причине…, – попыталась она говорить разумные вещи, как и просили.


