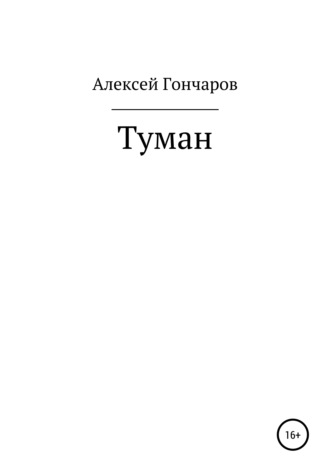
Алексей Александрович Гончаров
Туман
Сжав ладонь, и всё что в ней находилось, с колючим хрустом в кулак, Жмыхов как бы скомкал в себе эти сентиментальные воспоминания, бросил шелуху себе под ноги и брезгливо потёр руку о форменные брюки. Раздражение было мимолётным, поскольку меньше всего сейчас Михаила Анатольевича волновали какие-то ракушки. Придерживаясь руками за крыло автомобиля, он направился к водительской двери, но, добравшись до бокового стекла, к нему подступило разочарование; за рулём никого не было. Но зато он разглядел, что пассажирское сидение было кем-то занято. Подёргав за ручку, и не открыв дверь, подполковник принялся обходить машину, не отрывая глаз от лобового стекла, за которым находилось какое-то живое существо. От волнения Михаил Анатольевич не мог обратить внимания, что туман каким-то образом немного рассеялся, и сейчас кузов служебного автомобиля просматривался почти целиком, но вопреки этому просвету Жмыхов продолжал продвигаться, прижимаясь к капоту. Уже понимая, что там, в салоне машины находится человек, и чтобы лучше его разглядеть, он навалился к лобовому стеклу и приложил ладони к вискам. В полуметре от него сидела женщина, и она спала (во всяком случае, так он решил, потому что даже думать боялся, что она мертва). Её лицо было вымазано каким-то странным и, возможно, ритуальным макияжем, но, вглядевшись в него внимательнее, Михаил Анатольевич отметил что-то очень знакомое. Через секунду он в ужасе отпрянул от машины, потому что узнал в этой женщине свою жену.
«Что она здесь делает? Почему в таком виде? Где водитель, …хоть какой-нибудь?», – эти вопросы толи вонзались в Михаила Анатольевича, толи наоборот, пытались вырваться из его головы (было непонятно). Но он нашёл в себе мужество (а помогло ему в этом жёсткое напоминание о том, что он муж этой спящей особы) и попытался открыть дверцу. Но и она была закрыта. Тогда он постучал костяшкой пальца по стеклу и громко спросил:
– Ты чего здесь делаешь?
Фигура на сиденье даже не пошелохнулась. Насупившись, Жмыхов разглядывал новую причёску жены, которая формой напоминала ему пирожное безе, только чёрного несъедобного цвета. Вульгарная раскраска её лица что-то напоминала, но он никак не мог вспомнить, что именно. А помогла его памяти всё та же «нахлобучка» на голове супруги. Михаил Анатольевич из картинок в какой-то книге вспомнил, как выглядят японские гейши, да и халатик на жене был соответствующий, весь в ярких ядовитых цветах.
– Я спрашиваю тебя: зачем ты здесь? – повторил он свой вопрос, барабаня рукой по стеклу, и неожиданно услышал ответ:
– Тебя жду.
Жмыхов снова забеспокоился, потому что опять почувствовал, как к нему приближается холодный страх. Его напугало не то, что жена произнесла слова, не открывая свои алые веки, лишь едва шевельнув атласными губами, а сам голос, который донёсся не из закрытой машины, а прозвучал обычно, словно и не существовало никакого стекла между ним и супругой.
На всякий случай, Михаил Анатольевич пальчиком проверил наличие стекла, списал этот слуховой эффект на свою возбуждённость и приказал:
– Открывай дверь.
Но жена продолжала неподвижно сидеть с закрытыми глазами, а Жмыхова посетили довольно-таки спокойные и даже деловые мысли. «В таком тумане не только слуховые галлюцинации могут появиться, – подумал он о голосе, а дальше размышлял уже, как говорится, по делу: – Значит, она уговорила Серёжу привезти её сюда. По понятной причине они заблудились, и Сергей пошёл отыскивать дом. Хорошо бы, конечно, его дождаться, но если через пол часа водителя не будет, я сам как-нибудь поведу машину. Осторожненько. Авось куда-то, да, вырулю. Надеюсь, ключи он оставил в замке зажигания. Но чего эта мымра так вырядилась?! – возмущал его и не давал покоя вопрос, который немедленно хотелось выяснить.
– Дорогая, открой дверь. Там такая кнопочка есть, – попросил он, посчитав, что в самый раз сейчас проявить к жене вежливость.
– Сейчас, потерпи. Запомню сон, который мне приснился, и я к тебе выйду, – опять зашевелились только её губы, и так же внятно прозвучало это обещание.
– Да, на хрена мне надо, чтобы ты выходила! Ты на кнопку нажми и дрыхни себе дальше, – неожиданно вышел из себя Михаил Анатольевич, раздражённый такой вольностью и спокойствием супруги.
– Ну, как же, милый. Выйти мне надо обязательно, – продолжала она протяжно говорить с опущенными алыми веками, сидя в закрытой машине. – Настало время выяснить: нужна я тебе или не нужна? С кем ты дальше поплывёшь по волнам жизни: с путанами или со мной?
– С какими путанами?! Это тебе Серёжа наплёл?! За этим ты сюда приехала?! – орал на неё через стекло разгневанный супруг. – Тогда, выходи. Пойдём, сама проверишь…, под кроватью…, в шкафу пошаришь.
– Конечно, проверю. А ты такой смелый, потому что уверен, что за собой ничего не оставил. А ведь человеческая уверенность – это очень хрупкое и легко растворяющееся понятие, – невозмутимо рассуждала она с закрытыми глазами, вся такая непроницаемая, чем вводила Михаила Анатольевича в глубокое замешательство. – Я, например, точно помню, что перед отъёздом сюда, выключила утюг, и даже перед глазами стоит картинка, как я бросаю на ковёр вынутую из розетки вилку. А сейчас мой внутренний голос, словно издевается надо мной и утверждает, что я вижу только то, что намеривалась сделать. Так, может быть, и ты случайно запер кого-то в квартире, а сейчас думаешь, что она пуста?
– Чего ты мне голову морочишь?! – отстраняя тревогу в душе, терял всякое терпение Жмыхов. – Один я ночевал. Да, и всегда сюда один приезжаю. Твой Серёжа врёт, потому что…, – запнулся он от интересной догадки, прищурился, глядя на жену, и выложил эту догадку с призрением: – Потому что он неравнодушно дышит к тебе. Сознавайся. У вас с ним связь? Кстати, где он? Сейчас я проведу очную ставку, – с ехидным предвкушением пообещал самодовольный Михаил Анатольевич.
– О, как же сложно с тобой разговаривать. Но у меня есть ответы на весь твой бред. Я сейчас тебе всё расскажу, но прошу тебя взамен быть со мной откровенным, иначе я тебя сильно напугаю, – предупредила она супруга, как обычно матери обращаются к проштрафившемуся ребёнку. Михаилу Анатольевичу и хотелось её, как следует, приструнить за это высокомерное поведение, но заинтересованность, которая его накрыла, была выше. А жена сидела в машине так же неподвижно с опущенными яркими веками и говорила: – Мне, как женщине, у которой не было мужика уже два месяца, смешно, горько и противно оправдываться по поводу мифического любовника, …а, вернее, отнекиваться от несуществующего самца. Мифических мужчин, как раз, я научилась придумывать себе сама. И, знаешь, Мишенька, какие же они ласковые и разнообразные, в отличие от тебя. А водителя Сергея ты, вообще, напрасно упомянул. Он от тебя отказался. Неизвестно, чем закончится наша игра, но он больше ни разу никуда тебя не отвезёт. Я приехала сюда с другим человеком, – словно отвечая на немой, но выразительный вопрос в глазах Жмыхова, сказала она. – Это парень лет тридцати, такой высокий, красивый и, мне кажется, чуточку нагловатый. Но такая дерзость очень нравится женщинам; она заставляет настраиваться на что угодно, только не на скуку. С ним бы я окунулась в роман, но….
– Где он?! – перебил её Жмыхов, почти взревев, и готовый разбить стекло служебного автомобиля.
– Молодой человек покинул меня ещё утром, а я с тех пор дожидаюсь тебя, – с убийственным спокойствием ответила полусонная размалёванная супруга.
– Такой холёный, …с голубыми глазами, в джинсах и …длинными пальцами?! – сумбурно расспрашивал возбуждённый Михаил Анатольевич, понимая, о ком идёт речь, но, не понимал: каким образом такое! могло произойти. Ему бы взять паузу, сосредоточиться, и построить привычную в такой ситуации, логическую цепочку, но жена из машины продолжала вещать голосом, который свободно проникал сквозь стекло:
– Именно он. Молодой человек посоветовал мне переговорить с соседями, чтобы узнать у них обо всех твоих «подвигах». Сказал, что ты и вчера вечером что-то несуразное натворил. Будем выводить тебя, Мишенька, на чистую воду.
К Жмыхову опять подбиралось какое-то ужасное беспокойство, но, вспомнив про свой план: – добраться до города, он возрадовался очередной догадкой, посетившей его. «Это же – заговор против меня! Ну, как же! Мотивчик-то – налицо! Любовники пытаются избавиться от помехи. Ух, я – и голова!», – похвалил он себя и принялся подыгрывать жене:
– Значит, тебе необходимо выяснить о каких-то проститутках? Ну, что же, пойдём, разузнаем. Мне даже самому интересно послушать, какие байки вы там про меня сочинили. Вылезай, вылезай, – почти ласково попросил он.
Правая рука, лежащая на цветастом халате жены, слегка вздрогнула и потянулась к дверце. Раздался шуршащий щелчок, и дверь слегка отошла в сторону, создав тёмную щель между ней и крышей автомобиля. Михаил Анатольевич отступил, с противным хрустом давя под ногами ракушки, и трепетно, но всё же с определённым злорадством, ожидал появление супруги.
Над распахнутой дверцей автомобиля она поднялась в полный рост, и Жмыхову показалось, что эта японская гейша будет немного повыше его жены, но он сразу же сделал для себя поправку, что неизвестно ещё какая обувь скрывается под этим праздничным халатом, который спадал до самой земли. Михаил Анатольевич так и не обращал внимания, что туман немного рассеялся, будто бы специальный создав пятачок внутри себя, что бы встреча супругов проходила как можно реальнее, а не на ощупь.
Жмыхов, отступил ещё на пару шагов назад и уже начал мысленный отсчёт до трёх, чтобы рвануться вперёд, отпихнуть жену и ворваться в машину, но преображённая в японку супруга остановила его напевным голосом, заявив:
– А я передумала, Мишенька, идти и проверять твои пакости. Согласись, что это очень глупое занятие: – расспрашивать у посторонних людей о человеке, который стоит прямо перед тобой. Ты назвал такой процесс – очной ставкой, но мне кажется, что он слишком унизителен по отношению к тебе. К чему заморачиваться этим перекрёстным опросом, когда мы сами всё можем выяснить тет-а-тет. Давай вернёмся к обычной искренности, о которой я тебя попросила. Скажи: я тебе нравлюсь?
У Михаила Анатольевича почему-то прошёлся холодный озноб по спине от этого вопроса, но он совладал с собой и в сложившейся ситуации ответил витиевато:
– Я бы обрадовался такому разнообразию, но если бы этот маскарад был приготовлен для меня, а не для этого фраера, которого я засажу скоро вместе с тобой.
– Ну, опять ты о ком угодно готов говорить, только не о себе, – упрекнула его обиженная супруга и обратилась к нему с какой-то повышенной страстью: – Давай, оставим в покое твою ревность. Хотя нет, пусть она присутствует. Ты ведь, наверняка уже позабыл, что находится у меня под халатом? А я тебе сейчас напомню и покажу то, от чего ты отказываешься; что ты в ревности напрасно отдаёшь кому угодно, но только сам не желаешь этим пользоваться. Возьми меня по-новому, и ты узнаешь умопомрачительные тайны, которые ты променял на омерзительные упругие попки, которые способны лишь на миг притупить твой мозг дешёвой фантазией. Я же предлагаю тебе страсть, которая обласкает каждую клеточку твоего тела, разорвёт тебя на молекулы, а потом склеит обратно сладостным нектаром. Страсть, – которая затмит твой разум не на минуты, а навсегда. Страсть, – без которой ты не сможешь дальше жить, как без воздуха….
– Стой! – подгоняемый кошмарным умозаключением, прервал её Михаил Анатольевич. – Это же не ты! Это же не ты говоришь! Ты не умеешь так говорить. Ты же двух слов связать не можешь, а тут целого Шекспира разыгрываешь. Кто ты?! – вскричал он, сжимаясь всем телом, чтобы не впустить в себя нависший над ним страх.
– Я та, которая призывала тебя быть откровенным, но ты вместо этого впадаешь в какую-то забавную истерику, – говорила японская гейша, прикрыв дверцу машины, и всё так же скрывала свои глаза под алыми веками. – Я вижу, что ты даже ни на мгновение не задумался о страсти, но я всё-таки хочу тебе её предоставить. Страсть, – которая сильнее и острее разрывает разум и душу, чем банальное физическое блаженство. Возможно, дорогой, ты и сможешь достойно выстоять, но я, почему-то сомневаюсь. Хочу только тебе заметить, что блаженна та душа, которая искренне не желает столкнуться с кошмаром; и в итоге она с ним и расходится стороной. А как же мне приятно сейчас предоставить тебе то, чего ты до смерти боишься, но как жалкий обыватель жаждешь увидеть.
После этих слов её цветастый халат упал вниз…. Дух, который поддерживал сознание Михаила Анатольевича, покинул его. Под халатом ничего не было. Вообще ничего! В тумане висела только одна голова жены, раскрашенная под японскую гейшу. Но и это было ещё не всё. На размалёванном лице стали плавно подниматься веки, и тут вторая волна ужаса превратила Жмыхова в ледяную статую. Глаз не было, – они отсутствовали. Вместо них зияли пустые чёрные дыры, из которых через секунду потекла густая кровь. Двумя багровыми ручейками она устремилась вниз, и в разбитом разуме Михаила Жмыхова стояла только сюрреалистическая картина: на белом фоне возвышалась какая-то чудовищная театральная маска, посаженная на две тонкие красные пики.
Конечно же, чувство самосохранения, которое Бог вложил человеку, чтобы тот не слишком уж вольготно отличался от животного, заставило Жмыхова пуститься наутёк. Он бежал, не разбираясь, каким образом работают его ноги. Так же он не понимал: закрыты или открыты его глаза, и что он орал или не орал при этом сумасшедшем беге.
В импульсивном нервном состоянии заложены только спринтерские навыки, и поэтому Михаил Анатольевич слишком быстро выдохся и рухну в сухую траву. Он успел заметить, что возле него больше не было этих проклятых ракушек, а потом он закрыл глаза и судорожно оценивал: на месте ли его разум и, если на месте, то в каком состоянии этот разум находится.
Валентин Егоров покинул Зиновьевых, пошёл в свой подъезд, и мне бестактно хочется напомнить, что это случилось за полчаса до того, как похмелившийся беспечный подполковник Жмыхов вышел из дома, а чета Добротовых в эту минуту только начинала свой диалог на кухне. Но что поделаешь, когда подопечных героев много, и события с ними происходят пока индивидуальные. Вот, вставил я это пресловутое – «пока» и, вроде как, подтолкнул вас, мой дорогой читатель, на предварительные размышления. Но не спешите; мы вместе доберёмся до развязки, которая, как известно, объединяет все события.
И так, Валентин Владимирович зашёл в свой подъезд и постучал в дверь бабы Пани. Старушка открыла не сразу, и по её сонному лицу он с сожалением понял, что разбудил бабулю.
– Разбудил? – с извинительной интонацией спросил он.
– Нет, – отмахнулась она от его излишней почтительности, – всё равно вставать собиралась. Проходи.
Они прошли в комнату. Баба Паня присела на застеленную, но помятую кровать, а Валентин расположился на стуле у стола и сразу же поинтересовался:
– Как вы себя чувствуете, баб Пань? Такой туман неприятный сегодня.
Вопрос был, вроде бы простенький и ни к чему не обязывающий (из разряда вежливой заботы), но она поняла, что соседа интересует нечто большее.
– Нормально, Валь. С утра прогулялась вокруг дома, а теперь вот поспала немного после этой прогулки, – специально заинтриговала она Валентина.
– Как прогулялась?! – взволнованно клюнул на эту её провокацию испуганный Егоров. – Я как раз и зашёл сказать, чтобы вы во двор не выходили. Там очень странные вещи творятся. Я…, я просто запрещаю вам, без меня….
– Да, знаю я, что там творится, – перебила она его заботливую, но бесполезную трель. – Там аэрозоль блуждает, которая уничтожает все наши хорошие сны. Я пошла и получила эту дозу. Мне показалась, что мой Ванечка подошёл к окну, а я, как полоумная, побежала ему на встречу. Но там… никого. Потом я заснула, Валя, и ничегошеньки мне не приснилось. А знаешь, такие тёмные провалы без снов со мной редко случаются.
Валентин быстро сообразил, с кем старушка могла перепутать своего сына, и с сочувствием бросился пояснять:
– Это не Иван был, баб Пань! Это мы с Максимом блуждали в тумане и случайно вышли к вашим окнам.
– Ну, теперь-то я и сама знаю. Но, как же явственно, Валечька, мне казалось, что это он, – делилась она своим разочарованием: – Я же понимала, что не во сне гуляю, и я чувствовала…, чувствовала, что он где-то рядом. Ах, тебе не понять, – без сил махнула она рукой.
Валентин всегда с большим уважением и бережным сочувствием относился к этой несчастной женщине, а в эту минуту особенно. Он помнил её молодой и красивой, помнил, как она со смертью Ивана в один день постарела и превратилась в чёрную эмблему вечной скорби. Тогда Валентин впервые через неё прочувствовал, какая это нестерпимая боль – терять родного любимого человека. А когда у Егорова у самого родилась дочь, то подобное горе, – такую потерю! он даже на миг примерить на себя не мог; жуткий ужас охватывал его при малейшей попытке подумать об этом. Поэтому тётя Паня, издевательски несправедливо (поскольку не дождалась внуков) превратившаяся плавно в бабу Паню, была для него некой живой молитвой к небесам, взывающей о том, что родители не должны хоронить своего ребёнка. Так же Валентин преклонялся перед этой женщиной за то, что она вот уже больше тридцати лет пребывания с разбитым сердцем в одиночестве оставалась вполне добродушным и милым человеком. Пусть кто-то и считал её ворчливой, обиженной на весь белый свет старухой, но только не он. Как самый приближённый к ней из всех соседей, он, возможно, единственный знал о её скрытом душевном потенциале и никогда не обижался на неё, даже когда она в грубой форме высказалась однажды по поводу его развода, где хорошенько «прошлась» по нему и по его жене уже заочно.
«А что ждёт меня самого, через десять или двадцать лет, когда я, допустим, начну «подползать» к её возрасту? Смогу ли я в своём одиночестве сохранить какое-то добродушие и порядочность в разуме? А то ведь припрёт тоска, появится звериное раздражение, и разнесусь я на мелкие осколки, как встревоженное осиное гнездо, – с горечью размышлял Егоров и тогда, и сейчас, но опять приходил к одному и тому же выводу: – Надо всегда держать её одиночество за икону, тогда и моё не посмеет даже пискнуть. Здесь и сравнений никаких быть не может; у меня, слава богу, все живы и здоровы. Жены лишился – это по своей дури, но я же не вдовец; я же не оплакиваю её, а, наоборот, надеюсь, что она счастлива. А ради дочери и внучки, которые, пусть и далеко, я, вообще, не имею права «опускаться». Они же приедут к новогодним праздникам, …и потом будут постоянно приезжать ко мне. Как я могу…? И, разве, это не стимул…? О, Боже, ну какое тут может быть сравнение. О чём тут говорить, когда баба Паня сохраняет свою целостность и «несёт» себя Ивану, а я борюсь с малодушием ради живых людей».
– Как у вас с продуктами, баб Пань? – отвлекаясь от своих мыслей, машинально поинтересовался Валентин и, как будто самому себе пояснил свой же вопрос: – Боюсь, что этот туман и до завтра здесь пробудет, а ведь вы в город уже неделю, по-моему, не выезжали.
– Тебе гречки или риса отсыпать? – вставая с дивана, спросила баба Паня, выступая в роли благодетельницы, и собралась куда-то идти, но Валентин, опомнившись и поняв её действия, поспешил остановить бабулю:
– Нет-нет. Я… это…, наоборот, подумал, что вам нужна помочь в продовольствии.
– Да, иди ты… Тоже мне, помогальщик, – с наставнической усмешкой махнула на него рукой старушка, закопошилась в шкафу у стены за кроватью и говорила: – У самого то там, одна холостяцкая сухомятка, небось, и он мне ещё какую-то кулинарию предлагает. Ты лучше скажи, раз на работу не пошёл, какой тебе суп… или каши сварить? Да, и вон, Светке с Людкой забеги скажи, что крупы у меня разной много. Всегда могут перехватить.
По понятным причинам, Валентин не сразу сообразил: кто такие Светка с Людкой. Первая никак не ассоциировалась у него с девушкой, а вторая со вчерашнего вечера прочно обосновалась в его сознании, только как Мила. А когда он понял о ком идёт речь, то слегка поморщился и сказал:
– Баб Пань, никто вас объедать не будет. Я же беспокоюсь….
– А ты не беспокойся, – перебила она его и распахнула дверцу шкафа настежь, демонстрируя свои запасы. – У меня на всех хватит.
Все полки снизу доверху были забиты целлофановыми и бумажными пакетами, заставлены жестяными и стеклянными банками. В общем, комплект провизии поразил воображение Егорова, и он хотел что-то сказать восторженное по этому поводу, мол: «этого хватит на длительный поход небольшой армии», но не успел, потому что баба Паня его опередила:
– Там на кухне у меня почти столько же. А-а…, ещё в коридоре кое-чего есть, – похвасталась она, и не без удовольствия.
Валентин смотрел на закрома с приоткрытым ртом, представил, что ещё где-то есть в полтора раза больше, не удержался и пошутил:
– Вы когда…? Ночью вагоны грабите?
– Не-е, вагоны – это не по моей части. Я, Валечка, птичка маленькая, по зёрнышку в своё гнёздышко таскаю, – с хитринкой в выцветших маслянистых глазах ответила она. – С каждой поездкой в город по два пакетика и какую-нибудь баночку, да, приволоку. А много ль мне надо. Сварю чуток, поклюю, а остальное…, вон, видишь, так и остаётся.
– Так, зачем же лишний раз снова покупать? Здесь и так на две жизни запаса хватит, – удивлялся такому безрассудству и одновременно жалел её Егоров. – Не лучше ли, просто, деньгами откладывать.
– А ты не волнуйся, и гроши у меня отложены. Там и на похороны хватит, и много ещё на что. Я тебе про заначку позже скажу, когда почую, что помирать пора, – немного задорно и как-то заговорщицки сообщила она.
– Во-первых: – помирать вам никак не надо, – строго предупредил её Валентин и уже растерянно спросил, нахмурившись: – А во-вторых: – почему мне…?
– А кому же ещё? – почти возмутилась старушка. – У меня никого нет, кроме тебя. Кто ж меня хоронить будет? Даже не отнекивайся, а то прямо сейчас заставлю тебя расписку писать на то, что исполнишь мою последнюю волю. И пошлю этот документ куда надо, а копию к тебе на дверь прикреплю, да ещё к Светке Зиновьевой, чтобы тебе стыдно было. Ну, хватит дурака валять, – как бы упрашивая, смягчилась она. – Ты мужик порядочный, а кому мне довериться, как не тебе.
Такого разговора Валентин Егоров никак не ожидал и не был к нему готов. А, в общем-то, и не в готовности было дело, потому что к такому подготовиться было нельзя. Он почувствовал, как в нём закручивается какая-то конфронтация между душой и моральными устоями. Своих родителей Валентин похоронил больше десяти лет назад, и он никак не ожидал, что ему вновь придётся переживать и мало-мальски выполнять обязанности сына. А главное: – вправе ли он занимать, хотя бы краешком, место Ивана, который превратился для этой женщины в святого? Быть доброжелательным, отзывчивым соседом – это одно, а быть наследником – эта обречённая для него позиция, накладывает на душу определённые обязательства.
Баба Паня заметила хмурую задумчивость Валентина и поспешила продолжить этот давно заготовленный ею разговор:
– Да не волнуйся ты так, Валечка, мы вместе в город поедем; у меня там проверенный нотариус есть. Я, какие надо, бумаги на тебя оформлю, а заначка…, что на похороны, – это наличные, – они у меня здесь. У меня же книжка есть, а на ней больше …, – и баба Паня тихо озвучила очень неприличную для Егорова сумму.
– Сколько, сколько?! – не поверил ей ошеломлённый Валентин.
– Сколько слышал, – обижено ответила она, – все твои будут.
– Нет, нет и нет! Не губите меня. Как такое возможно?! – недоумевал и хватался за голову он. – Я всего лишь ваш сосед, … а тут целое состояние?!
Да, дорогой читатель, так устроены наши старушки; и не важно: были они рождены до Великой Отечественной войны, во время неё или после. Многие из вас знают, что это у них выработан такой своеобразный иммунитет: – делать при любой возможности запасы на «чёрный день». Этот иммунитет к невзгодам появился у них после далеко не сытного детства, укрепился от не сладкой юности, да и вообще, от не лёгкой жизни. А «чёрный день» у них измеряется не двадцатью четырьмя часами, а годами или, в лучшем случае, сезонами. И в этой заготовительной «религии» наши бабушки уникальны в своей душевности и где-то даже парадоксальны. Они убеждены, что невзгоды, когда понадобится их запас, обязательно придут, но «старая гвардия» верит, что несчастье уже не будет таким суровым, какое досталось им, и поэтому их заготовки превращаются в сумасшедшие излишки. Они это понимают, и защищаются от всяких нападок по этому поводу прописной мудростью: «запас – ношу не тянет». Но давайте задумаемся: для кого они тогда стараются, даже, если они одиноки и не имеют никого из родных, как баба Паня? Ответ очевиден, в котором есть место мнению и скептикам, и оптимистам. Старушки хотят, чтобы потом их помянули добрым словом, и оставляют свои благие накопления тем, кто этим словом их будет вспоминать.
У бабы Пани, действительно, были отложены приличные деньги на похороны – такие, что можно проводить её в загробную жизнь с генеральскими почестями, а также имелась совсем нескромная (для скромной пенсионерки) сумма на счёте. Но мы с вами избежим с вами бестактных подсчётов чужих денег, поскольку за нас это сделал Валентин Владимирович Егоров.
Благодаря своему компактному мышлению складского работника со стажем, он быстренько прикидывал в уме возможность такого богатства пожилой женщины:
«Продукты: крупа с запасом, мясо иногда, молоко, хлеб, …плюс мелочь всякая в виде печенья к чаю, – приблизительно подсчитал Валентин продуктовый месячный набор и округлил его в большую сторону, накинув к нему ещё конфеты, рыбу и всякие специи, и продолжал дальше: – Допустим, раз в месяц что-то из одежды, а то и реже. …У-гу. Плата за квартиру, …у неё субсидии всякие…, ну, наверняка, дешевле, чем у меня, в два раза. На всё на это… – минус пенсия (по случайности, её-то я знаю). …А-га. Разницу умножаем, хотя бы на двадцать лет, то есть…, двести сорок месяцев. Ого! А ведь вполне, возможно! – чуть не воскликнул он вслух, и его ещё больше осенило: – Погоди, погоди. А ведь она… до этого, приблизительно, лет десять ещё работала после смерти Ивана, …там деньги были побольше, чем пенсия, а жизнь была такой же. Вот, чёрт! А я…? Уже сколько холостятствую, а заначка всё та же: в двадцать – двадцать пять тысяч. …Ну, правильно, я же всё отправляю своим девочкам».
Проницательная баба Паня, словно подсмотрела этот подсчёт Валентина и сказала:
– А что мне государству дарить эти деньги? А что это такое – государство? Это те рожи, что заседали раньше на съездах, а теперь бьют друг другу морды в какой-то там думе? Это им достанутся мои деньги? Может, я чего-то и не понимаю, Валечка, но ты мне и не объясняй. Мне твоя рожа по душе (со сладким удовольствием произнесла она), чем эти буржуйские, которые являются лицом этого непонятного государства.
Здесь я позволю себе опять немного отступить, поскольку упоминание о государстве стало стратегически важным ходом со стороны разумной баба Пани. Валентин больше не хотел, как ошпаренный, отнекиваться от этих денег; и он понимал, насколько права в своих, пусть и примитивных, рассуждениях соседка. Валентин имел своё, но очень схожее с её, понятие о государстве; причём семя этого понятия было заложено в него ещё с далёкого детства, ярким событием, в котором он принял главное участие, которое и стало основой его отношения к государству.
Когда-то в детский сад, в который водили маленького Валю Егорова, приехала комиссия, оценивающая работу дошкольного заведения. За день до этого его любимая воспитательница была сама не своя и заметно нервничала. Она не проводила с детьми привычные игры, а заставляла их делать странные вещи: разбила на пары мальчика с девочкой и, как добрая дрессировщица, учила каждую пару, что им надлежало завтра делать. Кто-то возил большую деревянную машинку с куклой в кузове строго по кругу, который воспитательница отчертила мелом. Кто-то из детей сидел рядом с этим кругом на ковре и обводил цветными карандашами на дощечках контуры животных, которых она заранее еле заметно нарисовала простым карандашом. Другие дети бросали друг другу мячик и не должны были баловаться, а обязательно старались послать мяч строго в руки. В общем, шла трудоёмкая репетиция к приезду завтрашней комиссии, и только под вечер воспитательница вспомнила про своего любимца (как он считал) Валю Егорова, который был не задействован и скучал на стульчике возле большого окна. Раскрасневшаяся щеками, в панике она потащила его за руку к большому коробу, в котором были сложены большие деревянные кубики, дощечки, конусы и прочие атрибуты для построек. Валю всегда забирали одним из последних, и они успели отрепетировать строительство замка, который он должен будет, завтра возвести перед важными дядями и тётями.
И вот он перед ними, в буквальном смысле, потому что участок, где он строил свой замок, был возле расставленных в ряд стульев, на которых расположились суровые гости. Он с усердием бегал к коробу за кубиками и дощечками, возводил этаж за этажом, и всё посматривал на грозных взрослых, надеясь, что кто-нибудь из них подойдёт и спросит у него про замок, или посоветует какой конус куда переставить, или просто похвалит его за старания, погладив по голове. Но это были, так сказать, побочные желания, а больше всего Валя хотел, чтобы эти величественные дяди и тёти не ругались потом на его воспитательницу, которая ходила от ребёнка к ребёнку вся как будто праздничная, но очень напряжённая. И когда она подходила к нему, и показательно объясняла, куда он должен поставить очередной кубик, маленький Валя видел, как дрожали её пальцы. От этого он ещё стремительнее нёсся к коробу за новыми материалами; он строил этот замок не для строгой комиссии, не для себя, а ради неё, и его губки шептали: «Потерпите, я сейчас дострою этот дурацкий замок, только не ругайте мою Галину Владимировну. Подождите, уже чуть-чуть осталось, и радуйтесь. Радуйтесь, но только не ругайте её».
Но грубое указание всё-таки прозвучало, и не от людей из комиссии, а из уст его любимой воспитательницы. Когда отлаженные детские выступления закончились, и ребята выстраивались возле окна, одна очкастая тётя с омерзительной улыбочкой одними только глазами указала робкой Галине Владимировне на построенный Валей замок.
«Егоров, а убирать за тобой кто будет?!», – вскрикнула она, разгневанная на полном серьёзе, что даже закашлялась.


