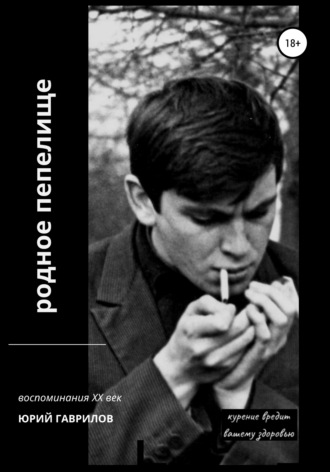
Юрий Львович Гаврилов
Родное пепелище
Он не нашел ничего лучше, как спросить: «Лев Александрович, зачем вы это сделали?» – такой вот инженер человеческих душ.
Накануне номер сдали точно по графику, что было большой редкостью.
Последняя полоса была подписана в печать, оставалось только врубить фонарик в подпись под большим клише, изображавшим дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова (отмечали какой-то юбилей не то хора, не то самого Александрова).
Отец поручил врубить фонарик Валентину М.
Фонарик или буквица – крупная литера, которая начинает строку, набранную меньшим шрифтом.
В наших «первых книжках» – была такая замечательная серия, большая красная буква (буквица) «Ж» (она же – «фонарик») начинала слова «Жили-были дед да баба».
Строка, в которую надо было врубить фонарик, начиналась: «…оет Краснознаменный хор Советской армии…»
Какую букву вы бы, читатель, подставили к строке текста про хор, которая начинается «…оет»?
То-то и оно!
Валентин М., объясняя совершенную им идеологическую диверсию, оправдывался: «Да я всё перебрал: «м» – моет, глупо; «р» – роет, тоже глупо; «н» – ноет, не может быть; «д» – доит, но они никого не доят».
Подпись в отпечатанном тираже, как легко догадаться, начиналась с буквы «В», как самой подходящей: «Воет Краснознаменный хор…».
Генерал-майор Александров, говорят, был возмущен и в праведном гневе нажаловался в Главпур (Главное политическое управление Советской Армии, настоящий заповедник дремучих идиотов), те донесли в ЦК, Чаковскому «указали».
Вот что может натворить одна буква, пришедшаяся не к месту.
Отец жил повседневными житейскими заботами.
Что он при этом думал, о чем он думал, я так и не смог понять.
Он из-под палки читал модные в то время романы какого-нибудь Арчибальда Кронина (это было до Ремарка и Хемингуэя), их ему всучивала мать.
По собственному желанию он почитывал только дореволюционного Горького: «Мои университеты» или «Городок Окуров», «Дело Артамонова» – чем объяснить подобный выбор, я не знаю.
Другим литературным пристрастием отца был В. А. Гиляровский, «Москва и москвичи».
В театр родители ходили, за редким исключением, на оперетту.
Как-то раз родители съездили вместе на Рижское взморье, то-то было рассказов – путешествие почти за границу.
Надо сказать, путевые заметки родителей меня сильно озадачили.
Из них выходило, что латыши не любили русских, своих освободителей.
Считали, что при капитализме жили лучше, чего, по моему мнению, просто не могло быть. Я от всей души пожалел братский латвийский народ за неизжитые родимые пятна буржуазных предрассудков, а неблагодарность прибалтов уязвила меня и осталась шрамом на сердце.
Мы, я и родители, умом и душой жили поврозь.
Родители не понимали моих интересов (мама поощряла лишь мое многочтение), отец, подобно бабушке Пелагее, верил в ремесло, гуманитарные занятия он считал никчемными и опасными.
Жизнь его была трудной: он много работал, дабы компенсировать тот материальный ущерб, который наносило семье его пьянство.
Среди московских полиграфистов он был как рыба в воде. Достать халтуру, сделать что-либо срочное в немыслимо короткий срок, договориться с заказчиком, обеспечить рабочее место, найти классного корректора – все это он делал надежно и качественно.
Служба в передвижной типографии дивизионной газеты на финской войне необычайно обогатила его профессиональный опыт: набрать, сверстать, отпечатать в условиях, когда литеры примерзали друг к другу, застывала краска, верстатка обжигала пальцы – это была суровая школа мастерства в запредельных условиях.
Правда, в особо суровые, сорокаградусные морозы, редактор газеты с оригинальным названием «За родину», частенько говорил:
– Ты, Лёва, того, отпечатай пяток экземпляров: в политотдел два, в нашу подшивку один и два – замполитам двух первых подразделений, где будем отовариваться… Остальным говорить, что весь тираж уже раздали.
Дело в том, что дивизионка4 имела право получать продовольственный и водочный паёк (наркомовские 100 грамм на человека) из неприкосновенного запаса любого полка и батальона, а также получать в частях горячую пищу.
– Таким маневром мы имели не меньше литра в сутки на жаждущего, – подытоживал отец.
Излишки продовольствия обменивались на папиросы (табачное довольствие выдавалось махоркой), трофейные финские шерстяные вещи, лезвия для бритья, финские ножи и другие соблазнительные вещицы.
Теплая компания сеяла разумное, доброе, вечное до февраля месяца 1940 года.
День Красной армии 23 февраля 1940 дивизионка отмечала с небывалым энтузиазмом во многих подразделениях, тоже охваченных праздничным восторгом, в результате чего ночью, недалеко от передовой, заблудившаяся полуторка с типографией (редакция следовала за полуторкой в эмке), въехала в борт бронемашине финской разведки и опрокинула его.
Финны ушли к своим, а подвиг – таран вражеского броневика, был воспет армейской печатью.
Отец отделался сломанной ключицей, был отправлен в тыловой госпиталь, где старшей медсестрой служила его тетка Тоня.
Так что из госпиталя он вышел, когда война с финнами давно закончилась, и был, как ограниченно годный, направлен в стройбат в Стрельну.
В компании виртуозов-наборщиков, с которыми отец делал свой полиграфический гешефт, умеренно пил только Борис Моисеевич Носиковский, мой известинский наставник, дока наборного дела.
Он за свою пеструю жизнь набирал книги, журналы, брошюры, буклеты, статистические справочники, железнодорожные расписания, учебники астрономии и органической химии (формулы набирались на руках – самый сложный вид набора), меню, листовки, которые для конспирации и экономии места при переправке за кордон печатали на папиросной бумаге, Большую румынскую энциклопедию, театральные афиши и билеты в Польше, альбомы по искусству в Лейпциге, бювары для председателя Президиума Верховного Совета Н. М. Шверника в Москве.
Все остальные виртуозы были, увы, как один – горькие пьяницы, постоянно искавшие дополнительного заработка, чтобы не обездоливать семьи.
Разговоры в компании за водочкой вертелись вокруг работы, товарищей по работе, заказчиков, начальства, всевозможных курьёзов наборного свойства – было что рассказать и послушать.
Одна история повторялась часто – про наборщика Алексея Конькова («Конька»), большого шутника и острослова, у которого бдительный дежурный по вытрезвителю извлек из карманов не вожделенные купюры, а какие-то напечатанные на картоне странного содержания не то таблицы, не то чертежи.
Видимо, дежурный был любителем шпионских романов, он решил, что непонятные находки – шифровальные блокноты.
Мильтон позвонил куда следует, оттуда немедленно приехали и забрали тело Конька, который тем временем впал в алкогольную кому, если таковая бывает. Дежурный вытрезвителя сказал, что под воздействием нашатырного спирта пациент, посмотрев на предъявленные ему схемы, произнес одно слово: «шифр…» и впал в беспамятство.
К делу были привлечены криптологи.
Но связать между собой греческие буквы, заключенные в разных размеров прямоугольники с таинственными знаками (они, впрочем, были опознаны, как астрономические) и какими-то геометрическими и непонятного назначения значками, например изображениями левой и правой человеческой кисти с вытянутым указательным пальцем, а в соседнем прямоугольнике – православный крестик, и тут же виньетки и загогулины, шифровальщики так и не сумели.
Все разнообразные попытки объединить все это в читаемую осмысленную систему ни к чему не привели.
Надо признать, что сотрудники органов очень мало читали, в глаза не видели ни книг, ни газет, набранных по старой орфографии, и в дореволюционной стилистике оформления не разбирались, иначе они бы догадались, что и таинственные кисти рук, и смертный крестик, и кубики, и треугольники – все это элементы полиграфического оформления.
Вытянутые указательные пальцы указывали, какому рекламному объявлению нужно уделить особое внимание, а крестик с датой означал год, месяц и день смерти, виньетки было принято ставить в конце текста, малограмотному читателю виньетка указывала, что повествование окончено.
Вернувшийся на короткое время в сознание в результате воздействия спецсредств Коньков успел гневно молвить:
– Кто вам позволил смотреть в совершенно секретные схемы? Теперь вы все пропали, – и опять отключился, повергнув чекистов в мучительные раздумья: тот ли человек Конёк, которого нужно немедленно расстрелять или он тот человек, который сам их всех расстреляет, как только окончательно протрезвеет.
Наконец, личность Конька была установлена, он пришел в себя и твердо и внятно объяснил, что секретные шифры – это схемы вспомогательных наборных касс – греческого алфавита, астрономических, физических и математических знаков и, наконец, кассы элементов полиграфического оформления или касса украшений.
Всеми этими кассами ручные наборщики пользовались редко, поэтому не помнили их ни наизусть, ни механически, то есть движением рук (левая рука, в которой лежала верстатка, должна была идти за правой для ускорения набора), поэтому держали при себе подобные памятки.
Для верстки газеты Министерства обороны «Красная Звезда», чем Конёк и занимался в рабочее время, все эти кассы совершенно излишни, а вот для халтуры: формульного набора, афиш, театральных программ – необходимы, но этого Коньков чекистам объяснять не стал.
Как договорились «Звездочка» и Лубянка неизвестно, но Коньку шить дело не стали.
Слишком уж очевидной была галоша, в которую сели чекисты.
Подобных историй, клонившихся к тому, что полиграфисты выше всех по уму, мастерству и умению изрядно пошутить и выпить, я в детстве выслушал множество.
Считалось, что отец работает в вечернюю смену. Чтобы газета вышла в свет утром, была доставлена подписчику и продавалась в киосках «Союзпечати» к тому времени, когда трудяги шли и ехали на работу, ее нужно было днем набрать, вечером сверстать, несколько раз вычитать и выправить, получить матрицы, отлить стереотипы и, поставив их на барабаны огромной печатной машины – газетной ротации, ночью начать печатать тираж.
Реально отец уходил на работу часа в два и возвращался под утро – халтура до работы и после нее была обычным делом.
До того, как маме удалось пристроить нас с Лидой в детский сад, мы по утрам пытались играть с отцом в волка и семерых козлят и были им очень недовольны, когда он засыпал на самом интересном месте.
В редкий выходной, когда он оставался дома, заходил Борис Моисеевич, пожимал отцовскую ступню и говорил:
– Лева, есть афиши, – и приятели уходили либо в «Известия», где работал Носик, если афиши были предназначены для кинотеатра Центральный, на углу Пушкинской площади и улицы Горького (Тверской), снесенного в ходе реконструкции «Известий» при А. И. Аджубее, зяте Хрущева.
При нем «Известия» пережили золотой век, а тираж газеты превысил тираж «Правды», что было признано идейно порочным сразу после свержения Хруща 14 октября 1964 года, названного острословами «малой октябрьской революцией».
Или же гешефтмахеры шли в «Индустрию» на Цветной бульвар, где отец работал до войны, и где у него все были прикормлены.
Возвращался отец после афиш (брошюр, программ скачек на приз Буденного или иной срочной макулатуры) обычно навеселе или сильно навеселе.
В этом не было ничего необычного.
В нашем дворе совсем не пили только Коля-Хлоп и сгинувший Иван Иванович Кулагин.
Не пил татарин Рустам и умер в 24 года.
Этот печальный факт Федор Яковлевич и Александр Иванович, напивавшиеся каждый день, так же ежедневно же и вспоминали, как оправдание своей слабости, в том смысле, что Рустам умер молодым именно оттого, что не пил.
– Вот брошу пить и сразу сдохну, как Рустам! – со слезой в голосе кричал Федор Яковлевич и резко сдвигал меха гармони.
– Шут подзаборный, – отзывалась на эту угрозу баба Маня.
Надо сказать, что под забором в Колокольниковом и ближайших окрестностях редко кто валялся, советский человек знал: во что бы то ни стало он должен добраться до дома (попасть в вытрезвитель значило обрести кучу неприятностей по службе), и брел на автопилоте, подчас вопреки всем законам физики и физиологии.
Нельзя сказать, чтобы я особенно стыдился отцовского пьянства (обыденное явление), но страдал я от него чрезвычайно.
Мама время от времени переставала разговаривать и с отцом, и с бабушкой, срывалась на мне, но была приторно ласковой с Лидой и кошкой, атмосфера в доме становилась невыносимой.
Отец никогда не буйствовал, не скандалил, и я был счастлив, если он приходил «на бровях» и сразу, или, съевши тарелку супа, ложился спать.
«Пьяный проспится, дурак – никогда», – говорила тетя Маня.
Но если отец не засыпал сразу, он начинал говорить и речь его, как пламенные выступления Фиделя Кастро в шестидесятые годы, могла продолжаться многие часы.
Даже в таком, сильно затуманенном состоянии рассудка, он никогда не вспоминал свою до-армейскую жизнь, и хотя иной раз всплывали кое-какие любопытные детали, в целом сюжеты были знакомые.
Мама иногда забирала Лиду и уходила к Чернышевым на чердак, а я становился именно тем главным слушателем из зала, к которому и обращается опытный оратор или актер.
Но я плохо подходил для этой роли, потому что мучительно хотел спать.
Монологи произносились ночью или, чаще, под утро, когда спать хочется невыносимо, и я засыпал даже стоя.
Однажды я схватил графин с водой и ударил отца по голове. Удар был такой силы, что горлышко графина раскололось, и я порезал руку. Струи моей светлой крови смешивались с водой и темной кровью отца.
Баба Маня словно окаменела, а отец бросился ко мне, смыл кровь с моей руки водой все из того же графина, порез оказался глубоким.
Отец не протрезвел, но действовал четко: была призвана Елена Михайловна, которая быстро и ловко обработала мне рану, наложила повязку и сказала, что к Склифосовскому (15 минут пешего хода) меня вести не надо, так как зашивать руку не обязательно.
Отец не ложился, но замолчал; происшествие напугало нас обоих; рука сильно болела, но заснул я мгновенно.
Маме мы дружно наврали про то, как я разбил графин и порезал руку, а отец наплел, как он разбил голову.
– Ложь во спасение, – подвела итог баба Маня.
После начала войны батальон, в котором служил отец, был направлен на Лужский рубеж строить укрепления, а через месяц воинскую часть отца погрузили в эшелон и повезли, но не на Запад, а на Восток.
В мае 1941 года в Красной армии происходила замена документов рядового и сержантского состава – старые личные удостоверения меняли на личные удостоверения нового образца (шило на мыло, так как ни в старом, ни в новом документе не было фотографии).
Получив в канцелярии роты новый документ, отец увидел, что графа «воинская специальность» заполнена неправильно, и он возведен в машинисты бронепоезда.
Липовый машинист потребовал исправить ошибку, но батальонный писарь отказал: мы, сказал он, столько бланков запороли, нас начальство загонит за Можай… В сентябре – дембель, походи три месяца машинистом, а в московском военкомате тебе напишут правильную учетную карточку.
Отец согласился, но в начале августа он вместо демобилизации вместе с товарищами сидел в эшелоне, пункт назначения которого был никому из солдат не известен.
Когда прошли Мгу, два «мессера» нагнали поезд, обстреляли его, и эшелон остановился в чистом поле.
Из состава никого не выпустили, а по вагонам с головы и хвоста двигались навстречу друг другу комендант эшелона и его помощник со стрелками комендантского взвода.
Они проверяли документы.
Ознакомившись с удостоверением моего отца, озабоченный комендант заметно повеселел и сказал солдатам, интересовавшимся причиной остановки:
– Сейчас поедем.
В тамбуре он сообщил отцу, что паровозная бригада убита и что отец, как машинист бронепоезда, поведет состав.
– А помощников, – пообещал комендант, – мы тебе сейчас найдем.
Папа не сразу понял, что никто его объяснений про то, как собственно он стал машинистом, да еще бронепоезда, слушать не станет.
Комендант был краток:
– Саботаж в военное время – расстрел на месте. Но тебе мы окажем честь и выведем на насыпь…
В это время помощник коменданта появился с настоящим машинистом, и отец решил, что он спасен.
Но человек полагает, а Господь – располагает…
Машинист, черный жилистый мужичонка, похожий на жука, клялся и божился, что в его документах допущена ошибка.
– Обоих придется расстреливать, – рассудил комендант.
– Какого черта! Ты сам говорил, что ты машинист! – горячился помощник коменданта.
– Да, я машинист, но…
– Вот канитель! Выводи их наружу, – комендант был настроен решительно.
Но и насыпь не образумила саботажников: похожий на жука, наконец, договорил фразу:
– Я машинист, но парового крана. А паровоз вести не могу…
Отец настаивал на том, будь он хоть трижды машинист бронепоезда, но без бригады с паровозом не справиться.
На что он надеялся, он и сам не знал.
– Товсь! – скомандовал комендант, но в это время помощник привел еще одного машиниста.
Его слова об ошибке в документах все, включая конвой, встретили нервным смехом.
– Я кочегар паровоза, а они меня в машинисты определили, эвон куды метнули. Я не самозванец какой…
– Ты знаешь, как сдвинуть паровоз с места? – быстро спросил отец, словно очнувшись от забытья и, получив утвердительный ответ, твердо сказал:
– Поехали.
Роли распределили так: кочегар – за машиниста, машинист парового крана – за кочегара, а отец, как машинист бронепоезда, захлопывал дверцы топки и смотрел в окно.
Когда доехали до первой станции, выяснилось, что останавливать паровоз бравый кочегар не умеет. Но комендантом была сброшена эстафета, в которой говорилось, что локомотив ведет кочегар. Поезда из-под кочегара успели убрать, а эшелон строительного батальона поймали только в Киришах с помощью паровозной спарки.
Но, видимо, звезды сошлись так, что паровоз стал на короткое время судьбой моего отца.
Когда, наконец, состав прибыл в Верхнюю Салду Свердловской области, батальон незамедлительно приступил к строительству нового корпуса авиационного завода. А бедный мой папа как машинист бронепоезда, к тому же вытащивший эшелон из-под налёта авиации противника, очень порадовал начальника отдела кадров.
– У нас тут военкоматские олухи забрили машиниста маневренного паровоза. Я тебе дам в помощь Васю, он в железнодорожном ФЗУ учился. Так что незамедлительно подавайте заготовки в цеха, реверс вам в руки…
Четырнадцатилетний Вася честно признался, что паровоз видел, но никогда внутри не был.
И пошли пастух с подпаском искать, где пасется их 55-тонная «Овечка», звезда русского дореволюционного паровозостроения, безответное дитя Коломенского паровозостроительного завода, до 90-х годов XX века она бегала по заводам; первую мировую вытянула, гражданскую, в великую войну, как умела, помогала – теперь такого не сделают.
Паровоз стоял на запасных путях, холодный, хмурый и чужим людям, их неумелым рукам подчиняться не хотел.
На четвертый день, строго предупрежденный начальством о неполном служебном несоответствии, отец все же въехал в цех.
Как гласила надпись на всех железнодорожных мостах паровозной эпохи:
Не сифонь, закрой поддувало!
Он тараном снес ворота, от удара бунт труб в роспуске разошелся, и стальной веер начал сносить станки первой линии. Паровоз уткнулся в стену и заголосил как по покойнику.
Факт диверсии был налицо.
Военным трибуналом отец был приговорен к расстрелу, а Вася ожидал своей участи в холодной.
Утвердить приговор должен был старший по званию в Верхней Салде, директор пострадавшего авиационного завода, генерал-лейтенант Лещенко5.
Он впервые отправлял человека к стенке и решил взглянуть на крестника.
На вопрос:
– Зачем ты это сделал? – отец безнадежно отвечал, что он наборщик, водить паровозы не умеет и умолял не сажать его ни на маневровый паровоз, ни на какой другой, тем более на бронепоезд.
Утверждение отца, что он наборщик, вызвало живейший интерес генерала:
– Я продукцию не могу отправить – у меня накладных совершенно нет ни одной, а тут наборщиков бросают на паровозы! Ты и накладные можешь напечатать? У меня всех типографщиков в армию призвали.
Отец пообещал, что если ему дадут в помощь Васю, который, якобы, учился в полиграфическом ФЗУ, он часа через три пришлет любые бухгалтерские бланки.
– Ну, если ты наборщик такой же, как машинист, я тебя лично пристрелю, – пообещал генерал-лейтенант.
Отца и Васю на директорской эмке отвезли в типографию, и у отставного машиниста бронепоезда отлегло от сердца – все было на месте: кассы, верстаки, рубилки, шпоны, реглеты, линейки, шпагат и шила. Отец опробовал печатный станок-американку и через три часа генерал-лейтенант Лещенко получил пачки накладных, пахнувших типографской краской.
Типография авиационного завода оказалась единственной работающей в городе.
И ее начальник, экс-машинист бронепоезда, вместе с верным помощником Васей и четырьмя обученными им девушками, набирал и печатал всё: городскую газету, заводские многотиражки (в городе было еще два завода – танковый и моторный), бухгалтерские бланки, в том числе для хлебозавода, масло- и молокозавода, афиши и билеты зрелищных мероприятий, школьные тетради, заводские пропуска и, конечно же, продуктовые карточки.
Барабанная дробь – смертельный номер без страховки: отец клялся и божился, что не напечатал ни одной левой карточки.
Я не уверен, что из нравственных соображений – просто ему это было совершенно не нужно.
Риск велик – все тот же расстрел, а он и без того был нарасхват: Лева, срочно, горю, как-нибудь, на обрезках, знаю, что нет бумаги, но ты поищи, я в долгу не останусь…
И не оставались.
Когда моя мама, блокадница, носила меня, у нее начался и диатез, и авитаминоз и прочее, ей было очень плохо.
И тогда генерал-лейтенант Лещенко послал свой самолет в Астрахань, и у нас в сенях стояла кадушка с черной икрой.
Черная икра и пенициллин, а вы говорите – водка.
А мама работала лаборанткой заводской лаборатории авиационного завода.
Однажды ее послали за бланками анализов в типографию.
– Что-то Лева не торопится, – сказал завлаб маме, – подгони его и гостинец отнеси, – и он дал ей трехлитровую бутыль с притертой пробкой.
Мать, которую ветром носило, положила бесценную бутыль со спиртом в заплечный мешок и поплелась в типографию.
Так они и познакомились.
Отец поставил бутыль в сейф, достал какой-то сверток из железного шкафа и, взяв связки бланков, пошел провожать маму в лабораторию. Когда мама развернула подаренный ей сверток, она нашла в нем три пачки шоколада «Золотой ярлык» и две пары роскошных шелковых чулок в иностранной упаковке.
Не думаю, что это было решающим моментом в отношении матери к отцу, но его неограниченные (в пределах Верхней Салды) возможности, конечно же, не учитывать она не могла.
Мама родилась в Петрограде в 1921 году и выросла там.
Еще в десятом классе она поступила в аэроклуб, после школы стала студенткой по специальности «авиационное приборостроение» и начала летать на «ПО-2».
Получив права учлета, мама написала письмо маршалу Ворошилову с жалобой, что ее не пускают учиться летать на боевом самолете.
Маршал ответил студентке, что её желание похвально, и отдал приказ командующему авиации Ленинградского военного округа зачислить ее на курсы ускоренной летной подготовки.
Так мама научилась летать на истребителе И-16, стрелять, бомбить и штурмовать – чтобы она опять не написала маршалу, ее учили по полной программе.
В 1940 году мама вышла замуж за однокурсника и в начале 41 года родила сына; муж-ополченец погиб на Лужском рубеже, который строил мой отец, а сын умер в блокаду.
Зимой 1941-42 года баба Лида наверняка умерла бы, если бы не мама, и они обе умерли бы, кабы не тетя Шура.
Тетя Шура, закадычная подруга бабы Лиды, была женщина маленькая, сухонькая, двужильная, суровая, немногословная, самоотверженная и мужественная – и это еще не все её замечательные качества.
– Мы – коренные ленинградцы, блокадники, – и это была в её устах исчерпывающая характеристика.
Тетя Шура сколотила похоронную бригаду: зажиточных покойников на санках свозили на кладбище, саперы за хлеб или золото взрывчаткой рвали замерзшую землю, твердую, как камень.
Люди, которые уже не могли выходить на улицу, но имели ценности, пригодные для обмена на хлеб, сахар, масло и сало (и это, как и хлеб, можно было выменять на черном рынке по бешеным ценам), доверяли тете Шуре эти сделки, ценой которых была жизнь.
Такова была ее безупречная репутация, и тетя Шура приспособила к меновой торговле нашу маму, которой верила, как себе.
Мама ходила и на картофельные поля, что располагались между Кировским заводом и немецкими позициями. Осенью 41 года там не успели убрать урожай (немцы замкнули кольцо блокады восьмого сентября). Гитлеровцы обстреливали сборщиков картофеля из минометов, так что картохи те были на крови. Мины взрывали грядки вместе с людьми, и в воронке можно было найти несколько выбитых из земли клубней.
Это был промысел людей молодых, сохранивших еще остаток сил, чтобы сделать рывок из-под смертельной минометной вилки: два выстрела-ориентира и третий – в цель.
Говорят, в воронку второй снаряд не попадает.
Так это снаряд, а мина – падает.
Русская рулетка ценой в три мерзлые картошки…
Потом надо было собрать немного валежника – в городе все, что горело, уже было сожжено; утерпеть, не сгрызть каменные клубни по дороге домой, сварить их на разведенном на ободранном полу (паркет давно спалили) костерке и есть горячую (!) несоленую, сладковатую, упоительную кашицу.
Мама делила 125-граммовую пайку на две части – утреннюю и вечернюю.
Ей приходилось выдерживать бешенный натиск бабы Лиды, которая требовала всю пайку сразу. Баба Лида канючила, плакала, ползала за мамой на коленях (откуда только силы брались), обвиняла маму в том, что она съела ее вечернюю порцию, отрезала от нее часть (как будто там было, что отрезать), но получала кусочек хлеба величиной в спичечный коробок ровно в 18.00.
Надо ли говорить, что в промежутках между мольбами и обвинениями баба Лида перерывала весь дом в поисках своей доли и того, что можно было съесть.
Дело в том, что прабабушка, истаявшая к новому 1942 году, перед смертью призналась, что свою пайку она не ела, а сохранила для дочери и внучки.
Пока завод авиаприборов выпускал продукцию, которую вывозили самолетами, баба Лида пешком за 12 километров, по неубранным улицам, обходя покойников, которых не успевала увозить специальная служба, добиралась до цеха и получала карточку ИТР (250 граммов хлеба очень низкого качества в сутки) – так как ее из диспетчеров перевели в отдел технического контроля.
Завод подвергался усиленным бомбежкам, что привело к гибели ряда производств, бабушка попала под сокращение штата и сидела безвылазно дома, что до предела осложнило жизнь мамы.
Мама могла уехать в эвакуацию со своим институтом, но она предпочла остаться в городе, разумеется, не представляя себе ужасов блокады, их тогда не ожидал никто. Если бы 9 декабря 1941 года 54-ая армия Ивана Ивановича Федюнинского не отбила бы Тихвин, Ленинград был бы обречен.
В январе 1942 года в город прорвались обозы с бесценной клюквой и другими припасами.
С начала февраля из хлеба почти исчезли примеси, прекратились задержки отпуска хлеба по карточкам, 16 февраля выдали по кусочку мяса, и мама поняла, что самое страшное позади.
11 февраля на иждивенческую карточку стали давать 300 граммов хлеба.
В марте мама была призвана в одну из похоронных команд, задачей которых была очистка города от трупов. Нечеловеческая работа оценивалась в 600 граммов, а бабушка в конце февраля стала получать 400 граммов, разумеется, мама делила хлеб поровну: на завтрак 300 и на ужин по 200 граммов хлеба на едока.
В конце апреля мама и бабушка были эвакуированы через Ладогу на пароходе.
Один из трех судов конвоя, транспорт с детьми, был потоплен финским мессером в самом конце перехода.
За Северную войну нам, русским, должно быть стыдно – и это справедливо, а вот за эти латанные-перелатанные посудины, едва державшиеся на плаву, до отказа набитые полуживыми детьми, похожими на тени, с кого спросить? Эти, с позволения сказать, пароходы были от бортов до крыши рубки измалеваны красными крестами, летчики с бреющего полёта прекрасно видели, какого противника они отправляют на дно ледяной Ладоги.
За эти, вздрагивающие, как живые на мелкой ряби панамки, кто извинился или покаялся?
Так что с ними-то делать? Списать и забыть?
Я этого сделать никогда не смогу.
В дороге блокадников неоднократно предупреждали, чтобы они были крайне осторожны с едой, не ели свежего хлеба, которого они в глаза не видели более полугода. Но всем прибывшим в Новую Ладогу полагалось аж по два килограмма хлеба, а хлеб только что испекли.
Помочь умирающим от заворота кишок медики ничем не могли.
Маму и бабушку направили в Купянский район Харьковской области.
В большом благополучном совхозе на берегах тихого Оскола ленинградцы оказались в немыслимом продуктовом изобилии: молоко, сметана, творог, яйца из-под курочки, сало и венец всего – пшеничная поляница, украинский белый формовой хлеб, который пахнет так, что у блокадников случались обмороки от счастья.
Маму «выбрали», то есть назначили секретарем комсомольской организации.
Райская жизнь длилась недолго.
Харьковско-Изюмская операция Красной армией была вчистую проиграна, 25 июля был сдан Купянск.
На Купянском железнодорожном узле не было свободных паровозов, так что состав с эвакуированными, в котором оказались мама с бабушкой, ушел со станции одновременно с приходом немцев.
Их бомбили по нескольку раз каждый день, бабе Лиде большой щепкой распороло ногу, она отказывалась выходить из вагона, и мама, которая весила 34 килограмма, таскала ее на себе.
Немецкие самолеты ходили по головам, в степи негде было спрятаться; летчики прекрасно видели, что в эшелоне не было военных – женщины, дети, старики.
Паровоз захлебывался воем, на предельной скорости проходя полустанок на запретный красный свет семафора, на перроне стоял немецкий танк и в упор расстреливал эшелон из пулемета.
В купе были убитые, все были ранены, на маме – ни царапины.
На гребне стремительного германского наступления и не менее стремительного бегства Красной Армии эшелон в конце августа оказался в районе Махачкалы.
25 августа части Клейста захватили Моздок. Возникла угроза потери Кавказского нефтяного района и большого количества нефтеналивных цистерн, которые и без того были на вес золота. Немцы перерезали доставку нефти в центр по Волге, речные танкеры стали совершать рейсы поперек Каспия, но их очевидно не хватало.



