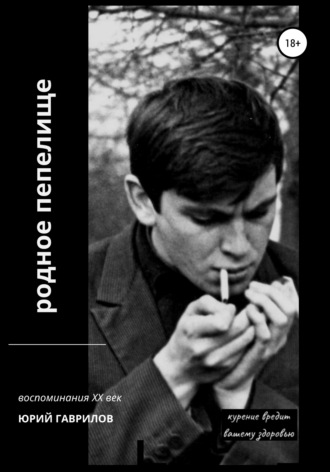
Юрий Львович Гаврилов
Родное пепелище
Тогда было приказано цистерны с нефтью сбрасывать с причалов в море, связывать цепями и буксировать любыми самоходными средствами в Красноводск (ныне Туркменбаши). Буксирам разрешалось брать людей, но они не могли вместить всех желающих уйти из-под немца.
Надежды на то, что Дагестан и Баку наши удержат, не было никакой.
Самым отчаянным моряки предлагали плыть на цистернах, у горловины которых есть рабочая площадка, маленькая и не приспособленная для плавания, а оно могло продлиться более двух суток.
Надо ли говорить, что среди добровольцев оказалась мама, а бабушку она уговорила плыть на буксире вместе с багажом – чемодан с вещами и мешок с украинской провизией.
В пути несколько цистерн оторвались от общей связки, и их стало сносить течением. Пассажиры необычного плота были обречены на мучительную смерть. Но на них чудом напоролся буксир, шедший из Красноводска, и оттащил потерявших надежду на спасение людей в порт назначения, где мама нашла бабушку в состоянии, близком к умопомешательству.
Конечным пунктом их одиссеи оказалась Верхняя Салда.
В семейном союзе родителей папа любил, а мама позволяла себя любить.
Отец был ревнив, но умел держать себя в руках и раскаленная, клокотавшая в нем лава ревности лишь изредка проливалась наружу, но тогда уж – неистовством и безумием.
Маме не удалось использовать свои летные навыки – на заводе, выпускавшем штурмовики «Ил-2» было небольшое подразделение летчиков, а главное, мама была слишком слаба после блокады, а ее летные документы остались в Ленинграде.
За самолетами приезжали пилоты из фронтовых частей и перегоняли боевые машины по установленным маршрутам. Так же перегоняли самолеты, полученные по ленд-лизу из США, через всю Сибирь и Урал в расположение фронтовых авиационных частей. Даже значительное количество потерь не привело к отмене подобной практики вплоть до конца войны – подвижного состава все равно не хватало на все остальные неотложные нужды.
Среди летчиков у мамы было много знакомых и, скорее всего, поклонников – она была хороша собой и такая миниатюрная, словно Дюймовочка, что часто вызывает в брутальных мужчинах желание носить избранницу на руках.
Первый грандиозный скандал между родителями, который я помню отрывками: в воскресенье, с утра, накануне моего дня рождения, за мамой заехали какие-то летчики в большой трофейной машине, она уехала с ними, а вернулась только за полночь.
Что говорили по этому поводу вернувшийся к вечеру из шалмана отец и баба Маня, я впитал как губка, но в результате дальнейших событий я оказался в Ленинграде на Лиговке, в коммуналке, в полуподвале, похожем на пещеру.
Со мной сидела целая бригада – баба Лида, которая с великими сложностями получала какие-то отгулы, тетя Шура, которая мне нравилась своей солдатской простотой и надежностью, ее племянница Нина, боготворившая тетку и бывшие богаделки из волковской похоронной команды.
Так что я частично обретался на Лиговке, а временами – в мрачном кирпичном доме рядом с Волковым кладбищем, где был непременным украшением ежедневных застолий жильцов в большой и дружной (случалось и такое!) коммунальной квартире тети Шуры.
Меня ставили на широченный подоконник, и я с выражением читал Михалкова, Маршака, Барто и рифмованную политическую сатиру, клонившуюся к той неопровержимой и доселе истине, что США – исчадие ада и империя зла.
Баба Лида окрестила меня в соборе Николы Морского, но из всего обряда я помню только поразивший меня размер храма, необычную торжественность обстановки и крепкий запах ладана.
С наступлением зимы я был водворен под отчий кров – родители помирились.
В дальнейшем этот эпизод с летчиками всплывал только в случае крайнего обострения внутрисемейных отношений, что случалось редко.
Ко мне и сестре мама относилась по разному: с Лидой она была ласкова, насколько умела; со мной сурова – я был мальчик, будущий защитник отечества.
И я считал, что известная твердость по отношению ко мне оправдана – я же не Гогочка и не маменькин сынок. Но иногда я хотел сочувствия, которого никогда не получал.
Мама воспитывала меня на примерах героев Великой Отечественной войны, которых я сам чтил безоговорочно.
Когда я жаловался, что мне холодно, мама напоминала, что Зоя Космодемьянская шла к виселице по снегу босая и не хныкала.
Я сильно обжег руку – мама тут же привела мне в пример Николая Гастелло, который весь объятый пламенем не бегал по комнате с воплями, а вел горящий самолет на колонну немецких танков.
Александр Матросов и Лиза Чайкина довершали дело – один лег на пулемет, вторая молчала под пытками.
Когда я робко пытался возразить, что героические девушки были схвачены гитлеровцами, от которых нелепо было ждать сочувствия, а Гастелло решительно негде было бегать в бомбардировщике, мама возражала:
– Ты отвлекаешься на мелочи, а главное в том, что они больше себя любили свою родину и стали героями, а ты мужчина, и должен научиться терпеть боль и всякие невзгоды.
Парировать было нечем, и когда я лезвием бритвы чуть не отхватил себе палец (шрам сохранился через шестьдесят лет), я только сопел от боли по дороге в больницу, а мама мне подробно рассказывала о муках Лизы Чайкиной.
Откуда только она брала эти душераздирающие подробности?
В послании к евреям святого апостола Павла (12.6) говориться: «Ибо Господь кого любит, того наказывает».
Видимо, моя мама, вовсе не знакомая с Новым Заветом, любила меня все же согласно этому принципу, в основном, посредством наказаний.
Наказания моральные были таковы: мама переставала со мной разговаривать, запрещала мне выходить на улицу или посещать кино; запреты были разнообразными и не всегда разумными.
До школы меня мама не секла, так, шлепала, иной раз и ремнем, но как только я пошел в первый класс, характер порки резко изменился. Отцовский ремень мама сменила на шкив от линотипа, тяжелый, пропитанный машинным маслом, четырехугольный, схваченный металлическими скобами, разрывавшими кожу. Рубцы от шкива вспухали, были очень болезненными и заживали медленно.
Экзекуции мама проводила в тамбуре, который служил чуланом, иногда из него приходилось выносить припасы, чтобы было, где разгуляться.
Перед казнью мама зачитывала приговор, а потом начинала хлестать меня, находившегося в положении стоя, так как положить тело было некуда. Во время экзекуции мама теряла голову и входила в раж, что часто бывает с неопытными палачами.
Я сопротивлялся, как мог – первоклассником я прокусил ей палец, в пятом классе я отнял у нее шкив и начал лупить ее по рукам, и только когда заклепка разорвала ей кожу около локтя и хлынула кровь, я бросил шкив, боднул маму головой в живот и выскочил из чулана.
Мама опустилась на пол и зарыдала.
Причиной истязаний чаще всего были сомнительного происхождения деньги, время от времени они различными путями попадали мне в руки, а у матери был дьявольский нюх на все, что я хотел от нее скрыть.
Позже я понял, что родители боялись криминальной трясины, обступавшей нас со всех сторон.
Пацан пяти-десяти лет годился и на то, чтобы на шухере постоять (подать знак опасности для воров), и стать профессиональным форточником – проникать в чужую квартиру через форточку, трюк опасный, цирковой ловкости.
Один мой одноклассник погиб осенью пятьдесят второго года – неожиданно вернулись домой хозяева богатой отдельной квартиры на Рождественском бульваре. Серёга полез, было, обратно и схватился за водосточную трубу, колено трубы осталось у него в руке, с ним он и сорвался с внешней стороны подоконника пятого этажа…
Еще одна роль малолетки, предлагавшаяся, в частности, мне, состояла в том, чтобы остановить фраера ушастого строго напротив определенного подъезда невинным вопросом – который час.
Фраером ушастым могла быть и дамочка в шубе «под котик», и хорошо одетый пожилой джентльмен. Жертва останавливалась, из подъезда выглядывал дюжий молодец и со словами «ты почто мальца обижаешь?», а то и вовсе молча затягивал жертву в подъезд. Там бригада гоп-стопа обычно из трех человек при помощи увещеваний и финского ножа мгновенно раздевала пострадавшего, так что он буквально через минуту выходил из подъезда в носках, подштанниках и нательной рубахе (дамы – в комбинации), невзирая на время года.
При обучении мастерству я сам был свидетелем подобной сцены; ограбленный в подъезде дома № 22 трусцой побежал через проходной двор в сторону 18-го отделения милиции, а через полминуты из подъезда вышли трое – один в пальто фраера ушастого, другой в его роскошной шапке, третий рассматривал часы на своем запястье. В руках обладателя новой шапки был небольшой чемоданчик, с которыми многие ходили в баню, там лежали пиджак, брюки, свитер, рубашка и кашне потерпевшего.
Они разошлись в разные стороны, тот, что пошел к Трубной, спросил меня на ходу: «Будешь с нами работать?» Получив отрицательный ответ, сказал только: «Ну и дурак!»
И навсегда исчез из моей жизни.
Это было то самое время, о котором Владимир Высоцкий написал:
Дети бывших старшин и майоров
До ледовых широт поднялись,
Потому что из тех коридоров
Им казалось сподручнее – вниз.
Воровская романтика, братство шпаны были притягательными, но то, что я увидел, было так гадко: трое на одного, с ножами на безоружного, для того, чтобы снять с него брюки…
Я к этому времени уже прочел рассказы Л. Пантелеева, «Судьбу барабанщика», «Что такое хорошо и что такое плохо», и у меня были убеждения (беда всей моей жизни), а мне предложили заманивать людей в подлую ловушку, и ничего романтичного в этой истории я не находил.
Кстати, мальчик, остановивший фраера ушастого точно против двери двадцать второго дома, ушел сразу же, он был не из нашего переулка, и сколько стоила его подлая услуга, я не знаю.
Второй причиной экзекуций были школьные оценки и школьные шалости.
Я не был злостным хулиганом, и мои уличные компании никогда не были стаями малолеток, опасных для окружающих.
Мы ничего не ломали, не поджигали, не мучили животных, но мы были не в меру подвижными детьми в очень тесных дворах и переулках.
Я был склонен к прогулам – с начальной школы и до девятого класса включительно.
Вот и почти все мои школьные грехи, прогулы мои объяснялись предпочтением катка (но какого катка!) и других, как правило – непредосудительных интересов и занятий учебе:
Собирались лодыри на урок,
А попали лодыри на каток…
Да еще и тем обстоятельством, что учеба давалась мне очень легко.
До восьмого класса я, получив новые учебники в конце августа, имел обыкновение их все прочитывать от корки до корки – и все, я мог не ходить в школу.
Мои «двойки», подбивавшие взять маму в руки шкив, объяснялись не незнанием предмета, а отсутствием письменных работ и невыполнением других домашних заданий.
Мама после войны так и не смогла доучиться: в мае 1946 года родилась моя сестра Лида, мама сидела с ней два года, потом ей пришлось пойти работать.
Отец был против того, чтобы мама пошла в институт, он считал высшее образование излишним, так как он своим ремеслом зарабатывал вдвое и больше против рядового инженера на производстве.
Может быть, он опасался неравенства в образовании.
Мама пошла в обучение на линотипистку в типографию, каковую отец всю жизнь называл «Индустрией», по названию газеты, которую набирали здесь до войны.
Эта типография располагалась на Цветном бульваре, в 15-ти минутах пешего хода от нашего дома, по тому же адресу, что и типография, и редакция «Литературной газеты», куда отец перебрался из «Красной Звезды» после смерти Сталина уже выпускающим (техническим редактором).
Наборным цехом в «Индустрии» заведовал вечный Иван Сергеевич, дореволюционный метранпаж, выпивавший без каких-либо заметных последствий пару бутылок белой головки.
Иван Сергеевич учил наборному делу еще моего отца, работал до революции у Ивана Дмитриевича Сытина в «Русском слове» за теми же талерами (наборными столами), что и я через пятьдесят лет после Ивана Сергеевича.
Линотиписткой (наборщицей на наборной машине) мама была от Бога – она почти не делала ошибок. Я работал с ней в типографии «Известия», верстал набранные ею гранки – их можно было сразу подписывать в печать, правка была минимальной. За всё время работы верстальщиком я знал только трех наборщиц, набиравших так чисто.
Иван Сергеевич ухитрялся распорядиться так, что мама работала только в первую смену, то есть с восьми утра до половины пятого, вечерняя смена заканчивалась в полночь, так что мужьям приходилось встречать жен.
Много позже я понял, что мама была совсем недовольна тем, как сложилась ее жизнь.
Поэтому моя судьба была ею предначертана: я должен был за нее получить высшее образование, закончить обязательно именно МГУ (что и произошло), стать ученым (что и случилось – я претендую на звание кота ученого), так далее и тому подобное.
Я в третьей четверти пятого класса принес первую «четверку», да еще по русскому языку!
Она готова была засечь меня до смерти, а я высек ее саму – было отчего рыдать, сидя на залитом рассолом и кровью полу.
Печальная и распространенная ошибка родителей – возлагать на детей осуществление своих мечтаний и неосуществившихся надежд.
Мама не могла ни понять, ни вместить, как унижают меня, воображавшего себя то героем «Школы» А. Гайдара, то доблестным рыцарем Айвенго, или же примерявшего на себя судьбу барабанщика, эти дикие экзекуции. Как унижает моё человеческое и мужское достоинство то обстоятельство, что меня бьет женщина, а я даже ответить толком не могу.
Я считал несправедливым и омерзительным столь жестокое наказание за четверку в четверти и посещение кинотеатра, несмотря на родительский запрет.
И папа, и баба Маня, и тетя Маня были против этих избиений, они неоднократно увещевали маму, но безо всякого успеха.
Чего она добилась: я ее боялся, не любил, не жалел, а временами – ненавидел.
Я стал лживым, скрытным и в нашем многолетнем поединке я постоянно переигрывал ее, придумывая все новые уловки. Это превратилось в весьма увлекательную игру – смогу ли я ее обмануть, направить по ложному следу. Конечно, провалы в моей конспирации были неизбежны, но я на них учился, а она – нет.
В октябре 1957 года, на новой квартире, когда мама взялась за шкив, я отступил в эркер комнаты, открыл боковую створку и сказал:
– Выброшусь.
Она заплакала, я взял у неё шкив и выкинул его в окно.
Вовсе не ее суровое воспитание отвадило меня от уголовной романтики, сделало невозможным участие в преступлении и насилии, а книги, которым я верил и которые я любил, они оказались несовместимыми ни с гоп-стопом, ни с воровством, ни с квартирными кражами.
Отчуждение между мной и матерью росло с каждым годом, но началось оно именно с того времени, когда я пошел в школу.
Сейчас, на склоне дней, я искренне жалею своих родителей: лихая им досталась доля, как они нас-то ухитрились родить…
Всё время в тесноте, в скученности, на глазах – мука мученическая, как говорила баба Маня.
И в иной час щемит сердце, когда наплывает: зимний вечер, натопленный жарко, метель и мороз лепят на стекле поразительные узоры; я читаю книгу Героя Советского Союза М. В. Водопьянова «Полярный летчик».
Лида под столом играет в дочки-матери и приглашает меня принять участие (такое, честно говоря, случалось), баба Маня следит, чтобы не убежала каша, Мурка лежит рядом со мной на диване и слегка цапает меня – требует, чтобы я чесал ей брюхо.
А мама с папой собираются в театр – ритуал!
Папа после парикмахерской стрижки и бритья.
Обычно он брился сам, а я любил наблюдать за священнодействием: пластмассовый стаканчик с горячей водой; круглый, дубового картона, пенал «Нева» с мыльными стружками для взбивания помазком мыльной пены в предназначенной для этого мисочке; лезвия безопасной бритвы – шведский «Матадор», только по блату (советские лезвия – маленькие орудия для изощренной пытки) и, наконец, сам станок – финский, трофейный, но тоже из шведской стали.
Отец в шелковой сорочке, галстуке в крупную косую полоску и солидном двубортном костюме, серого в едва заметную красную полоску, аглицкого шевиота, парадных (они же театральные) штиблетах.
И мама, молодая, красивая, миниатюрная в новом синем открытом выходном платье с белым кружевным воротником; лаковая театральная сумочка, перчатки в сеточку по локоть, чулки со швом и туфли на высоком каблуке, которые, впрочем, она снимет и снова наденет только в театре, а сейчас она проверяет – не жмут ли.
Пахнет щипцами для завивки, углями утюга, пудрой – конечно же «Театральной», духами – конечно же «Красной Москвой» и чем-то неуловимым, необъяснимо театральным.
Мы с Лидой уже бывали в театре, но театр для взрослых мне представлялся чем-то необычным и недоступным, вроде высшего разряда «Сандунов».
Они проверяют, не забыли ли билеты.
Мама перед зеркалом убирает излишки пудры кружевным платочком…
А баба Маня умоляет их взять паспорта: а вдруг облава.
Солнечный зайчик праздника в скудной монотонной жизни.
И жаль их обоих до изнеможения.
Но шкив забыть не могу…
Казенный дом
В сентябре 1950 года мама пришла домой сияющая, она победительно потрясала двумя невзрачными бумажками с жирными печатями.
Наконец, я понял, что это путевки в детский сад – моя и Лиды.
Сколько мама их добивалась, сколько порогов пооббивала, насиделась в очередях в РОНО и исполкоме, и вот она добилась мест для нас.
Ну, как тут не признать: лишь при советской власти такое может быть.
Я не боялся идти в детский сад, но то, что мной будут распоряжаться чужие люди – смущало.
Детский сад находился неподалеку от дома, на углу Колокольникова и Сретенки, в пяти минутах ходьбы.
Учреждение начинало работу в половине восьмого, так что встать надо было в семь утра, что для меня оказалось решительно невозможным – я засыпал стоя, пока мама одевала меня: чулки, лифчик, к которому чулки крепились – ненавистная мне женская одежда.
Но по утрам мне было все равно, хоть платье надевай – я хотел спать.
Маму это раздражало чрезвычайно, однако природу побороть невозможно, я сам неоднократно пытался это сделать и в юности, и позже, и каждый раз терпел жестокие унизительные поражения.
Надо ли говорить, что я засыпал и по дороге в детский сад.
Мама успевала сдать нас воспитательнице и к восьми явиться на работу в типографию на Цветном бульваре.
Нас кормили завтраком, еда мало отличалась от домашней, разве что на завтрак давали селедку – мой детский кошмар: молочная каша, бутерброд с сыром или яйцо вкрутую, ячменный кофе, чай, изредка какао с двумя кусочками сахара.
Нормально для страны, которая еще не оправилась от военного разорения.
Потом мы играли в игровой комнате на полу, как и дома, гуляли в общем дворе домов №№ 24-26.
Во дворе был длинный вытянутый аппендикс вдоль Печатникова переулка, он и сейчас сохранился, – это была запретная для нас зона, туда направлялись парочки из ближайшей пивной, где они и устраивались на юру, всеобщем обозрении и безо всяких удобств.
Но двор вдоль Колокольникова являл собой большую угольную яму, ее выбрали местом для игр мальчики, что нисколько не смущало воспитательниц, сопровождавших нас на прогулки.
Девочки играли в классы и прыгалки в той части двора, что шла вдоль Сретенки.
Всюду было не прибрано, грязно, бедно, и мы, дети – представители привилегированного класса и будущее страны, строили крепости из угля, а после весь персонал с соответствующими присловьями помогал нам отмывать наши чумазые физиономии и негритянские кисти рук.
Обед: два ненавистных супа – картофельный мясной с одинокой фрикаделькой или – еще хуже и противней – молочный с вермишелью; на второе: серые макароны трехлинейного диаметра (говорили, что это как-то связано с калибром винтовки Мосина: макароны, папиросы, карандаши – все 7,62 мм).
Вот эти винтовочные макароны, посыпанные отвратительным вонючим зеленым сыром или котлета (биточки, тефтели, которые, впрочем, ничем друг от друга не отличались), и я находил котлеты вполне съедобными.
Признаюсь, я мясоед, таковым был с рождения, таковым и умру.
Макароны с зеленым сыром я оставлял нетронутыми, что приветствовалось няньками, иные из которых проживали в пригороде, они забирали пищевые отходы для откорма поросят.
На третье был кисель из брикета или компот из сухофруктов – сильно пожиже, чем дома.
Мертвый час, полдник – стакан кефира или ацидофилина, или кипяченого молока с пленкой, кусочек творожной запеканки или калорийная булочка, в глянцевой коричневой пленке с несколькими орешками арахиса на макушке, или три печенья.
Все предпочитали калорийную булочку.
И гулять или играть – в зависимости от погоды, в шесть вечера нас забирала домой мама.
В первую же неделю я пожаловался дома, что в игровой, в стеклянных шкафах стоят большие игрушки – грузовик, паровоз, но нам не дают ими играть.
В детском саду маму обхамила заведующая, но наша стальная родительница пошла в РОНО и стеклянные шкафы были отомкнуты…
Когда мама пришла за нами вечером, ей молча показали обломки игрушек, сложенные в углу.
Грузовик доехал именно я – я попытался кататься на нем верхом, сначала отлетели красные колеса, затем не выдержал нагрузки зеленый кузов, и отломилась дверца кабины.
Игрушки починили и снова замкнули в стеклянных шкафах, и я признал, что это – правильно.
Через некоторое время заведующая хватилась, что я должен посещать старшую группу, в филиале, в Последнем переулке, и нас с Лидой разлучили.
Но она устроила такой скандал (школа бабы Лиды), что ей разрешили ходить со мной в старшую группу.
Филиал располагался наискосок от 18-го отделения милиции, нам хорошо было видно, что происходило во дворе мусорни, где располагался гараж с оперативными легковушками и черными воронками.
Со своими клиентами мусора не церемонились, но никаких ужасов – избиений и какого-то вопиющего насилия мы не видели: так, навешают оплеух или пенделей ногами по заднице.
Но, видимо, под влиянием постоянных сюжетов: привезли шпану или карманника от кинотеатра «Уран», а вот зареванная и побитая молодуха выводит из парадного подъезда своего всклокоченного мужа, в рваной рубахе, он держит штаны руками и орет, что лягавые слямзили его ремень с серебряными накладками…
Сама же, дура, сдала мужа, сама же и еле упросила отпустить из КПЗ – мы прекрасно изучили нравы постоянных клиентов восемнадцатого.
Подобное соседство постепенно возбудило в нас жгучий интерес к блатной жизни и блатному фольклору.
Образовался стихийный кружок любителей запрещенной песни, и в детский сад стало интересно ходить.
Дворик, в котором мы гуляли, был крошечным, к тому же он был перегорожен подпорной стеной – как раз здесь начинался довольно крутой уклон.
Нам было категорически запрещено подходить к стене, а тем более прыгать с нее в нижний двор.
Рядом с подпорной стеной была пристройка, в ней помещалась слесарная мастерская местного домоуправления.
Во дворе стояли длинные верстаки, на которых мастера пилили трубы ¾ дюйма и нарезали на них резьбу – латали давно сгнившую сантехническую систему наших домов, вот уже полвека не знавших ремонта.
Бригадиром водопроводчиков был замечательный златоуст по прозвищу Сизарь.
От злостного пьянства лицо и руки у него действительно были сизые; тиски он называл мамой, трубу папой, а все манипуляции с трубой и тисками представлялись ему половым актом с любовной прелюдией.
– Не лезет папа в маму, – сокрушался он, – а почему? Потому что мама давно не подмывалась… Говорил я тебе, залупа зеленая неотесанная, чтобы ты не дрочил по углам, а произвел здесь приборку.
Неотесанная залупа лет шестнадцати и явно деревенского производства исчезала в глубине мастерской и, после некоторого грохота и матюков, извлекала ведро и стальную щетку.
Трубе делали обрезание, потом навинчивали резьбу.
– Что мы имеем? – спрашивал себя с удовлетворением Сизарь и с удовольствием объяснял:
– Хрен с винтом на хитрую жопу.
Мы почтительно вслушивались в его витиеватые речи, впитывали мудреные обороты и новые слова: букса, штуцер, манжета, шаровый, вентиль.
Трубы резали не каждый день, и мы собирались в стайку под верстаками, как воробьи под застрехой.
– Вот есть еще одна песня. За нее сразу 10 лет дают…
Будущие сидельцы, мы в свои шесть годков не признавали сроков меньше десяти лет – гулять, так гулять.
Не все могли воспроизвести точно мотив очередной запрещенной песни – главное было запомнить слова.
Конечно, в большинстве случаев запрещенные песни, а мы все верили, что за песню могут расстрелять, оказывались городскими романсами:
– У ней такая маленькая грудь, – выводил альтом Сашка Усиенко, у которого был и слух, и голос.
– Мама, я летчика люблю…
Затем шли песни про войну:
– Двадцать второго июня ровно в четыре часа…
Далее следовал матерный вариант, что, признаюсь, оскорбляло мои чувства: война – дело серьёзное, а тут опять про это.
Сильно косой молчаливый мальчик Костя, безотцовщина, как говорили няньки, его мама-парикмахерша частенько приходила за ним выпивши, приносил настоящие уркаганские песни: «Прощай, жиган, нам не гулять по бану, нам не встречать весенний праздник май…», «Чередой за вагоном вагон с мерным стуком по рельсовой стали…», «Пойдут на север составы новые, кого не спросишь – у всех Указ…»
Но мне больше других нравилась простая песенка:
А ну-ка, парень, подними повыше ворот,
Подними повыше ворот и держись.
Черный ворон, черный ворон, черный ворон
Переехал мою маленькую жизнь.
Я представлял себе «черный ворон» в виде реального автомобиля, которых в 18-м отделении было несколько, и только много позже я догадался, что «черный ворон» – это родное пролетарское государство.
Это увлечение запретной песней продержалось до конца моего детсадовского срока.
Летом мы двумя группами поехали на дачу в Сходню.
Это была большая, но обычная дача, отобранная у какого-то жулика в порядке конфискации имущества (нынче с легкой руки Е. Т. Гайдара конфискация наворованного считается нарушением прав человека).
Нас водили в лес, и это было замечательно: жучки, паучки, стрекозы, муравейники. Игра в тюрьму для мух была забыта.
В муравейник засовывали веточку, очищенную от коры и слизывали кислоту, оставленную на инородном теле крупными черно-рыжими муравьями. Мы останавливались на опушке, вглубь леса нам заходить не разрешалось, как и снимать панамки, нелепый головной убор, который я искренне ненавидел.
Словом, обычный подконвойный режим детсадовского бытования не изменился: к воде нас не подпускали, мы все время должны были находиться на глазах у воспитательниц, и это было разумно, но скучно.
В конце лета мы все пережили страшное происшествие: прямо над нами прошел смерч.
Мы только улеглись – мертвый час, как вдруг очень быстро и резко потемнело, наступила зловещая абсолютная тишина, потом раздался гулкий удар, зазвенели стекла.
Наша медсестра, фронтовичка, взяла командование на себя: она загнала нас под кровати, велела укрыть головы подушками, прозвучал второй могучий удар, раздался истошный женский вопль, на втором этаже что-то начало падать, но я уже ничего не видел, я вжался в пол, было очень страшно.
Потом послышался громкий зловещий треск, мощные удары по крыше. Дом качался и скрипел, как заведенная визжала заведующая, и вдруг разом все кончилось.
На самом деле всё произошло быстро, через несколько минут нам разрешили встать.
Некоторые кровати были отброшены, перевернуты, а две поставлены на попа у стенки, рамы были частично выбиты, вся терраса была усеяна осколками стекла, разорванной столярки, мелким переплетом.
Из детей никто не пострадал, у нескольких женщин были порезы, но обошлось без серьезных ран.
Нас увели во внутреннее помещение столовой, и взрослые стали убирать разгромленные террасы.
В тот же день мы узнали от нашей поварихи, что в соседнем детском саду погибла почти целиком старшая группа: два мальчика ушли в лес и заблудились. Группа дожидалась их и попала под смерч, воспитательница собрала детей под большим дубом, нам хорошо известным.
Смерч срезал дуб, воспитательница и почти все дети погибли, а мальчики, заблудившиеся в лесу, уцелели без единой царапины.
Это был первый в моей жизни случай встречи со стихией во всём её всевластии, когда я разминулся со смертью. Прошла она впритык, и я ощутил ее веяние.
Если бы заведующая настояла на том, чтобы вывести нас на участок, многие из нас погибли бы, потому что сад был снесен начисто и превращен в бурелом, часть деревьев упала на крышу, сосны проломили её, но дом устоял.
За свою жизнь я несколько раз чувствовал прикосновение смерти, но она каждый раз отпускала меня: случай – я слез с машины, а все, кто сидел в кузове самосвала, погибли через два километра; помощь другого человека – в армии незнакомый капитан вытащил меня из-под падающей вагонетки с бетоном; собственное хладнокровие – я так картинно тонул в страшный шторм в Головинке на глазах многочисленных зрителей, и никто уже не мог мне помочь, но я понял, что погибаю, успокоился и спасся. На следующий день я, заходя в штормовое море, наступил на мальчика, лежащего на дне, вытащил пацана, и его удалось откачать.
Поэтому лермонтовский «Фаталист» до сих пор восхищает меня, он убеждает, что нет ответа на вопрос, почему смерть каждый раз отпускала меня, а благополучный Женя Р., человек большого жизненного успеха, никогда по своему благоразумию не тонувший и не падавший с эскалатора метро, сгорел от рака в тридцать два года.
На следующий день мама забрала нас с Лидой домой.
У железнодорожной платформы была аккуратно, ровненько, на высоте сантиметров восьмидесяти срезана березовая роща.
Когда мы уже были в двух шагах от дома, отворились ворота пожарного депо в Ащеуловом переулке и оттуда с ревом сирен вылетели два пожарных автомобиля.
Я неожиданно рванул вперед – под всё такой же истошный женский вопль, как на даче, перебежал тротуар, проскочил впритирку под радиаторами машин и остался цел благодаря какому-то чуду.
Но, видимо, случаю и этого показалось мало.
Мама, побелевшая и подурневшая – кричала не она, а две тетки, которые шли нам навстречу; я едва не сбил их с ног, влетевши головой в живот одной из них уже в падении, – ничего мне не сказала, а некоторое время стояла в оцепенении. Потом она зачем-то взяла меня за руку, и мы начали переходить Сретенку. И в это время я увидел на мостовой купюру в десять рублей и кинулся за ней. Этот прыжок не оставил мне уже никаких шансов, я должен был погибнуть, но бежевая «Победа» лишь легким скользящим ударом развернула меня по оси. На тротуаре, куда-таки, невероятным образом сумел вывернуть водитель, никого не было, так что я никого не убил, и сам остался цел с десяткой, намертво зажатой в кулаке.
Мама ничего мне не сказала, до самого дома у нее дрожали губы, а деньги она у меня отобрала.



