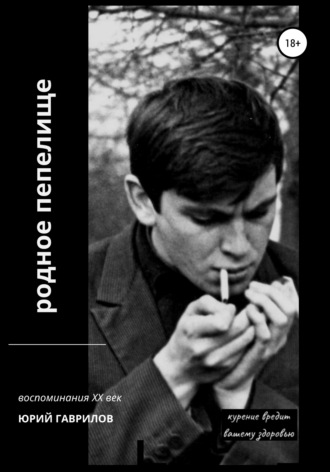
Юрий Львович Гаврилов
Родное пепелище
– Вы просите фото, их есть у меня!
Петя-«Лейка», прозванный так, потому что описание всех превратностей своей жизни он неизменно начинал словами: «Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец подарил мне трофейную «Лейку»…», был хороший фотограф, но человек сомнительный, втируша и стукач.
Работал он в конторе «добрых услуг», дело было хлебное. Снимал «Лейка» (строго по прейскуранту) выпускные классы, группы детских садов, семейные торжества. Начальство ему благоволило и пускало попастись на сочных заливных лугах свадеб и похорон.
Непосредственно перед тем, как оказаться в нашей компании, Петя снимал свадьбу, которую играли уж как-то необыкновенно широко.
Когда свадьба вовсю пела и плясала, «Лейку» усадили за отдельный столик и предложили выпить и закусить. Видимо, хозяева оказались чрезмерно хлебосольными…
Вернувшись к прерванной съемке, Петя неожиданно выхватил микрофон у тамады.
Едва он произнес обязательную фразу про подаренный трофейный фотоаппарат, свадьба замолкла и остановилась, почуяв приближение дежурного скандала.
– Вообще-то я больше люблю снимать похороны, – мастер делился сокровенным и дал волю воображению, – как-то больше забирает. Представьте себе, что наш молодой жених лежит в гробу, а юная невеста льет по нему безутешные слезы… Драматургия! Шекспир! Панорама!…
Драку заказывали?
Петю била почитай вся свадьба, пока одна из подружек невесты, измученная завистью к роскошному белому платью и фате новобрачной до такой степени, что в ней проснулось сострадание к человеку, омрачившему торжество, не завопила истошно:
– Вы убьете его!..
И свадьба пожалела «Лейку».
Его голову шаферы долго держали под холодной водой, а потом гости стали лечить подобное подобным.
Водки различных сортов, коньяки с разным количеством звездочек, кубинский ром и английский джин, грузинскую чачу и медицинский спирт, не упоминая уж о ликерах, портвейнах, настойках, наливках и даже «Ркацители» – вот что пришлось испить безропотному от побоев Пете…
В больницу его доставили по скорой, с острым алкогольным психозом. И он неделю лежал зафиксированный и, судя по его сбивчивым речам, воображал себя владельцем фотоателье. Он часто повторял: «Мне бы свое дело, я бы завязал…».
Может быть, может быть…
Он принес фотографии лечебного процесса и Михалыча в собственном соку.
– Очень хорошо! Очень остро и правильно со всех точек зрения!– оценил наш труд завотделением. – Вот здесь сатира уместна, здесь уместна карикатура и шарж! Вы все трое взялись за ум и стали положительно влиять на контингент.
А Михалыч не умер.
Больше всего огорчался он тем, что ему теперь непременно начертят неприличное «хр».
Только теперь я понял смысл загадочных слов Аллы Вениаминовны: «Напишут то, что нужно».
Почему Михалыч безропотно чинил потрепанные больничные «Ундервуды», Олег Кривушин, «золотые ножницы», стриг женщин отделения и администрации так, что они помолодели и похорошели, Петя-«Лейка» их художественно фотографировал, а Наум Кричевский с таким мастерством рисовал несимпатичный граненый стакан?
Для того только, чтобы в графе больничного «диагноз» эскулапы написали вместо убийственного «хронический алкоголизм» лукавую и двусмысленную «псевдодипсоманию», что в переводе с древнегреческого означает «ложный запой».
Если даже в администрации или бухгалтерии учреждения и найдется любознательный человек, умеющий пользоваться словарем, он ничего определенного не узнает.
Что значит «ложный запой»?
То ли страдающий псевдодипсоманией человек пьет запоем, но «Боржоми» или кефир? Или же он пьет все-таки водку, но не настоящим запоем… А как? Или же вообще не пьет, а только воображает, что страдает этой самой «псевдой»?
Дело в том, что «истинный запой» – это фигура речи, он вообще не встречается или случается так редко, что его никто никогда не наблюдал.
Истинный запой – неостановимый, который прекращается только по независящим от больного обстоятельствам. Например, со смертью страдальца или же с помещением его в бронированную камеру – такая вот необычная ситуация.
«Псевда» – это и есть тот обычный запой, что-то вроде привычного вывиха, но не сустава, а души, с которым мы время от времени встречаемся в повседневной жизни.
Словом, вышли мы все из запоя, дети эпохи застоя.
И пробил час освобожденья.
Я получил больничный с «псевдой».
Завотделением крепко пожал мне руку и выразил желание встретиться со мной приватно за стаканом чая.
Сударев, криво ухмыляясь, сказал:
– До свидания…
Я нашел его в отделении в качестве пациента через несколько лет:
– Вы, прощаясь со мной, сказали «до свиданья», Юрий Николаевич. Вот и свиделись.
– Помните, я предлагал вам налить? И налил бы! Ей богу налил бы! А мне вот никто не предлагает и не нальет, – только-то и ответил он.
Я молча протянул ему бутылку водки, он молча взял.
Лицо его озарилось светом невечерним.
Я прошел мимо корпуса малолеток, откуда неслись привычные отчаянные вопли, показал паспорт и больничный на вахте и вышел в город.
Весь мир был невыносимо серым: снег, люди, транспорт, дома, деревья, небо…
И все безумно раздражало: уличный шум, толпа, запахи, и сразу неодолимо потянуло выпить.
Умники, в том числе из бывших пьяниц, говорят: это – переход через пустыню, это – чистилище, это надо и можно осилить.
Люди честные обязательно добавят – если есть мотив.
У меня мотива не было.
Я искренне не хотел мучить дорогих мне людей, но это – не мотив.
Как можно жить, когда тебя все раздражает – и близкие, и далекие, и работа, и книги, и звуки?
И все вокруг серое, бесцветное, бессмысленное, пошлое и избитое.
Я прекрасно понимал, что в пьянстве тоже ничего нового нет, и пошлее ничего не придумаешь…
Я продержался две недели.
Однажды, по дороге из школы, я зашел в микояновский гастроном, взял чекушку «Кубанской» и три бутылки «Московского» пива.
Я сознавал, что совершаю преступление, и меня трясло в горячке, как Раскольникова.
Я трепетал, выбирая постылую долю, постыдную муку, страдания близких, ложь, ущербность, незащищенность, вину, погибель…
Но желание отгородиться от мира было сильнее меня.
В кафетерии ресторана «Гавана» я выпил залпом полный до краёв стакан водки и почувствовал легкий прилив жара и удушья.
Я отдышался и налил пиво, с непривычки оно сильно горчило…
Нельзя без горечи. Добавь по вкусу горечь
И свой позор сумеешь искупить.
Предметы стали приобретать цвет, шум стал глуше, всё вдруг отодвинулось от меня, как в перевернутом бинокле, и перестало раздражать.
«А ведь, пожалуй, чекушки будет мало», – подумал я.
«Поехали», – как сказал первый космонавт.
Февраль 2008 года.
Я проснулся на мглистом рассвете…
Не лепо ли братцы? – Конечно.
Еще как нелепо, мой свет.
Нет слаще тебя и кромешней,
тебя несуразнее нет!
…………………………
Я верую – ибо абсурдно,
абсурдно, постыдно, смешно,
Бессмысленно и безрассудно,
и, может быть, даже грешно.
Нелепо ли, братцы? – Нелепо.
Молись, Рататуй дорогой!
Горбушкой канадского хлеба
занюхай стакан роковой.
Тимур Кибиров
Я проснулся на мглистом рассвете неизвестно которого дня…
Проснулся так, как рано или поздно должен пробудиться всякий, кто еще в отрочестве насосался до одури блоковской отравы и надышался духами и туманами его изготовления.
«В самом чистом, самом нежном саване сладко ли спать тебе?» – спросил бы меня Сан Саныч, случись он в тот миг рядом.
Короче, я проснулся в снегу.
Я лежал в белом венчике из снежной крупы, в чистом поле на свежем заструге, да меня самого уже изрядно замело.
Курилась мутная метель, звезд не было видно, первоначально, пока не попривыкли глаза, ничего не было видно; только ветер шуршал сухими травами у моего изголовья.
Я не без труда поднялся (меня наполнил шум и звон), сел на обрубок бревна и задумался сразу обо всем.
Нельзя сказать, что я впал в умоисступление, я просто совершенно не понимал, что мне делать и куда мне идти. Я вообразил себя последним человеком на голой земле…
Передо мной расстилалась безжизненная неопрятная равнина, спускавшаяся к реке; на другом берегу в мутном мраке то мерцали, то пропадали какие-то огоньки.
Или они мне мерещились?
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу…
На изрядном расстоянии впереди слева чернел лес, и оттуда донесся подавший надежду на спасение перестук проходящего поезда.
В скорбной круговерти моих мыслей присутствовал, разумеется, и такой вопрос, третий в ряду великих русских вопросов: «кто виноват?», «что делать?» и «как я дошел до жизни такой?»
Голова моя была пуста и легка до такой степени, что все норовила как-то взлететь, воспарить и оставить страдающее тело на неопрятной снежной равнине. Чтобы этого не произошло, я крепко обхватил ее руками.
И в то же время сознание было затянуто какой-то липкой тиной. Было, отчего прийти в отчаяние.
Но писал же другой классик: «И вот проклятая зелень перед глазами растаяла» – и я разом вспомнил (не все! далеко не все!) события вчерашнего вечера.
Вчера, в пятницу 3 декабря 1971 года, на дальнем берегу, безо всякого сомнения, цвели очи Саши Апта.
Саша Апт в ту пору был недостойным сыном весьма достойных родителей.
Консьержка писательского дома, где он до недавних дней проживал с родителями, говорила о нем: «У нас в подъезде два хулигана – Апт и Стариков» (литературовед и критик Екатерина Васильевна Старикова была матерью двуликого хулигана).
Кроме того, Саша был студентом биологического факультета МГУ, а известно, что биологи в большинстве своем в силу самого предмета занятий циничны и склонны к чувственному наслаждению неумеренного потребления питий.
Не возьму охулки на руку – не был Саша никаким хулиганом, он просто отличался излишней живостью рук и ног при довольно брутальном телосложении.
И пьяница он был никудышный, во всяком случае, не пил ежедневно, как я.
Нигилистом и циником Апт, как и предок его, Евгений Васильевич Базаров, казался исключительно по молодости; на самом деле, он, как и упомянутый Базаров, всего лишь хотел вывести «формулу жука», и я даже знал, какого именно – жука-плавунца.
Дело в том, что Сашу, он младше меня на семь лет, я знал еще ребенком. Он был одноклассником и другом моего тогдашнего шурина, а ныне, не побоюсь сказать, знаменитого протоиерея Вовы́ Вигилянского, да, того самого, что ныне щедро окормляет прихожан и прочих духовных чад Московской епархии в компании самого Святейшего Патриарха Алексия.
Впрочем, когда речь заходит речь об особах, над коими почиет таинство и коим дана благодать справлять чин над кутьей, я благоговейно замолкаю.
Но вернемся на пустынный брег…
Вечером в пятницу 3 декабря Саша позвонил мне и сообщил: его молодая жена уехала ночевать к родственникам, и напомнил, что я давно обещал прочитать ему свои новые творения.
Надо признаться, что я в то время кропал всякие, как показало мне время, никчемные вещицы, а Саша был одним из немногих моих читателей.
Но Апт недавно женился на студентке, комсомолке, красавице и потомственной биологине Анне Бибиковой. Впрочем, красавицы редко бывают счастливы…
Жена требовала внимания, и мы с Сашей стали встречаться редко. К тому времени мы все разъехались из писательского дома на Ломоносовском. Саша и будущий протоирей перебрались на Аэропорт в кооперативные хоромы, а я с семьей – в убогую хрущевку на улице имени славного наркома Цюрупы, на берега реки Котловки, еще не забранной в трубу.
Но незадолго до Сашиной женитьбы я по семейным обстоятельствам проживал у тещи все на том же Аэропорте.
Там, в окрестностях писательского поселка, таинственно пробились три ключа: пивная в самом начале Красноармейской улицы по соседству с ныне восстановленной церковью Благовещения Пресвятой Богородицы, служившей в ту пору ангаром для престарелых истребителей МИГ; два других пенных ключа били на пересечении улицы Черняховского с Часовой и у Ленинградского рынка.
Под сенью сих оазисов мы с Сашей частенько судачили о том, о сем: о портвейне, о странностях любви, о Софье Власьевне и смысле жизни.
Но поженившись, биологи стали снимать однокомнатную квартиру на улице 26-ти Бакинских комиссаров-мучеников, темную историю которых сбивчиво и путанно поведал миру 27-й бакинский комиссар – Анастас Иванович Микоян. По его словам, он был ответственным за работу среди женщин, ушел в это дело с головой и как-то не заметил расстрела товарищей.
То ли англичане пощадили Микояна за исключительную приверженность женщинам, то ли те выдали его за свою товарку, но Микоян один уцелел, а остальные – увы.
Итак, Саша остался бобылем накануне семейного праздника, к которому было куплено столько водки, что она даже вся не влезла в холодильник. По голосу Саши я понял, насколько его волнует судьба тех бутылок, что остались без спасительного холода.
Надо же было случиться такому совпадению: моя жена меня тоже покинула. Она отбыла со своей музыкальной подругой Викой Вайнер в город Ярославль слушать концерт Натальи Гутман. Меня они с собой не взяли, так как в их глазах я не был человеком достаточно утонченным, чтобы проливать слезы над виолончельным пением.
Томясь в бездействии досуга, я освежался «Рымниковским» вином и «Рижским» пивом. Грядущая суббота была у меня свободным днем, что в какой-то мере определяло количество «Рымниковского», которое я мог себе позволить.
Я лениво размышлял над тем, как блистательная победа Александра Васильевича под Рымником могла породить столь чудовищный напиток, и какое «Рымниковское» гаже – красное или белое. И тут раздался звонок Апта.
Это были барабаны судьбы.
Я разделил тревогу друга за судьбу бутылок, не влезших в холодильник.
Водка! Как много в этом звуке для сердца русского слилось…
Водка волшебно меняла унылую евклидову геометрию бытия, раздвигались границы сознания, обострялись чувства; безобразное как бы скрадывалось в тумане, прекрасное становилось нестерпимо прекрасным: и ярче творческие сны. А, главное, водка заглушала муку вины и стыда, стыда и вины, их вечного и выносимого гнета.
Когда сквозь синих туч на воды упадает
косой последний луч в осенней тишине
и льется по волне и долго остывает, –
не страшно ли тебе, не стыдно ли тебе?
Вины было немеряно, перед женой, сыном, Татьяной Михайловной, близкими и далекими людьми.
Стыда тоже хватало, и мертвящий страх за Женю и Илью прорывался в ночные кошмары.
Когда летящий снег из мрака возникает
В лучах случайных фар, скользнувших по стене,
И пропадает вновь и вновь беззвучно тает
На девичьей щеке, – не страшно ли тебе?
И еще эти девичьи щеки, вечно по ним течет то дождь, то слезы; вечно на них тают снежинки, и они сами тают и бледнеют от любви и страсти.
Ну, куда же они-то еще в мучительную кутерьму из вконец изолгавшейся власти, жестокого пьянства, преподавания истории в заданных жизнью обстоятельствах (уже приходили из конторы), танков в Праге, перемоловших своими траками мою жизнь – вот ко всему этому еще девы, их щеки и прочий приклад.
Я хорохорился: рак души, амнезия совести… Я всех убил, кого любил, я сердце вьюгой закрутил… Но было муторно.
Я не могу сказать, о чем я, я не знаю…
Так просто ерунда. Все глупости одне.
Такая красота и тишина такая…
Не страшно ли тебе, не стыдно ли тебе?
И как я от этой красоты, тишины, стыда и страха с ума не сошел?
Водка спасла: она направляла мысли в иное русло, мы воспаряли – глоток иллюзорной свободы, миг невесомости дорогого стоили. И заплатить пришлось всем, что было, до копеечки…
Саша сказал, что встретит меня у Дома туриста, и я отправился в путь.
Мне нужно было пересесть с автобуса на автобус в начале улицы Гарибальди у гостиницы «Южная». В этом доме располагался кафетерий, который по сути дела был распивочной, а наискосок напротив – продмаг, не мог же я заявиться к Апту трезвым – это было бы невежливо, тем более что по его голосу я догадался: он уже начал предпринимать кое-какие меры по спасению бутылок, оставшихся вне попечения холодильника.
Саша ждал меня на остановке, но лучше бы он этого не делал.
«Веди меня, Вергилий», – высокопарно воскликнул я, не подозревая, как близок к истине.
И мы пошли вдоль дощатых грязных заборов, по разбитым деревянным тротуарам, по доскам, брошенным через канавы и рвы, и, наконец, по хлипким мосткам, проложенным по самому краю глубокого котлована.
Моя служба в военно-строительных войсках воспитала во мне стойкое недоверие к разного рода ямам, о чем я решил поведать Апту, но не успел.
Увлеченный рассказом о своих невероятных приключениях на знаменитой Беломорской биостанции, мой Вергилий неосторожно взмахнул руками и в мгновение ока оказался по колено в воде на дне котлована.
Начиналась метель, порывами налетал ледяной пронизывающий ветер, на столбе мотался беспомощный фонарь…
Болота, работа, бегемота – это мы с детства проходили.
Используя длинную мокрую, а потому тяжеленую жердь (я), и кусок арматуры (Апт), мы минут через 30 благополучно завершили спасательную операцию.
Оба выбились из сил, вымазались в глине и усталые, но счастливые, добрались, наконец, до однокомнатного кооперативного шалаша.
Мы, как могли, почистились, привели себя в порядок и уселись, как это было тогда принято, на кухне, где на полу действительно стояли пять бутылок водки – это были те самые сироты, не поместившиеся в холодильник.
Саша объяснил мне, что для личного употребления мы будем брать охлажденную водку, и таким образом беспризорные пол-литра получат шанс по очереди попасть в вожделенный холод.
На столе появилась банка с солеными огурцами, грудинка варено-копченая, хлеб. И мои рукописи были извлечены из видавшего виды, но натуральной кожи портфеля.
Очень скоро мы стали таскать огурцы из банки пальцами, я, вперемешку с водкой, пил рассол, грудинка была забыта…
То ли художественное совершенство моих творений, то ли водка, которую мы пили из подарочных стаканов, каждый раз наливая по полной, то ли водка вкупе с болгарскими сигаретами «Джебел», но Апт быстро захмелел.
Я мало уступал ему, но нить беседы не терял, в какие бы витиеватые лирические отступления не пускался. Сказывалась военно-строительная закалка, полученная под землей в пятистах метрах от трех могучих ядерных сердец закутанного в бесконечных пеленах колючей проволоки Красноярского горно-химического комбината.
О чем мы так горячечно говорили? О Шиллере? О славе? Иль, может быть, о странностях любви?
Но рассуждать с молодоженом именно о странностях любви – по меньшей мере, неделикатно, к Шиллеру я равнодушен; как любой сочинитель я, конечно, мечтал о том, что лукавый Пушкин назвал «яркою заплатой на нищем рубище певца», но мне жизнь упрямо предлагала рубища исключительно без заплат. А широкую известность в узких кругах я мог приобрести только в комплекте с койко-местом в мордовских лагерях, и меня совсем это не прельщало.
«………………..О боли,
о валидоле, о юдоли слез,
о перебоях с сахаром, о соли
земной, о полной гибели всерьез.
О юности, о выпитом портвейне,
да, о портвейне! О пивных ларьках,
исчезнувших, как исчезает память,
как все, клубясь, идет в небытие»
Наверное, примерно так.
Близилась полночь. В какую-то минуту просветления Апт твердо сказал, что надо ложиться спать, и он сейчас постелет мне, как дорогому гостю, на кровати, а себе на полу.
С тем он и отправился в комнату.
Увидел я его через неделю.
Мои посиделки затянулись. Я, конечно, времени даром не терял и баловался водочкой, отдал, наконец, должное и варено-копченой грудинке, а Саша все не звал меня почивать.
Я уже приготовил подходящую случаю почти цитату из поэта Льва Мея, ныне справедливо забытого вместе со всей остальной изящной литературой: «Милый мой, возлюбленный, желанный! Где, скажи, твой одр благоуханный?». Но в квартире стояла гнетущая тишина.
Дверь в комнату открывалась вовнутрь, замка в ней не было, но она не поддалась ни на миллиметр.
Я был оскорблен, обижен и заинтригован – я знал обстановку комнаты, там помещалась кровать, шкаф и всякая мелочь. Припереть дверь намертво было решительно нечем, но под ударами моего массивного зада дверь только вздрагивала.
Я стучал, скребся, пробовал обнаружить признаки жизни путем тщательного вслушивания, пускал в ход азбуку Морзе, лил под дверь водку, благо ее еще много оставалось, но все было безрезультатно.
Аня, прибывшая на следующее утро, тоже тщетно пыталась войти в комнату.
Ее чрезвычайно насторожили два обстоятельства: исчезли полуботинки мужа, старые, разношенные, которые он использовал на манер домашних тапочек, вместо них под вешалкой стояли чужие и, во-вторых, водка уже вся помещалась в холодильник, а пустых бутылок на кухне не было.
Когда милиционер, «скорая» и слесарь открыли дверь, Саша продолжал безмятежно спать с простыней в руках.
Он честно из последних сил пытался исполнить долг гостеприимства, намереваясь постелить мне постель, но, видимо, отдавши слишком много сил барахтанью на дне котлована, потерял равновесие, упал, упершись ногами в дверь, головой – в шкаф и словно окаменел.
Мне, если бы я сохранял хоть каплю здравого смысла, ничего другого не оставалось, как постелить пальто, положить под голову портфель и забыться мертвецким сном.
Ведь спал же я на кабельном барабане, извиваясь, как уж, между штырей; на трубах под потолком на десятиметровой высоте…
Но я был взбешен необъяснимым коварством Саши. Поэтому собрал пустую посуду в портфель (привычка уничтожать улики), непочатую бутылку засунул во внутренний карман пальто, оделся и хлопнул дверью так, что стены затряслись.
На улице я выбросил с риском для жизни пустые поллитровки в котлован, и по тому, как ловко я это сделал, понял: мне лучше вернуться назад.
Легко сказать: адреса-то я не знал. То есть дом стоял у меня за спиной и был он устроен так: по обе стороны от лифта шел коридор, где слева и справа располагались по четыре квартиры, итого 16 квартир на одном этаже.
Мое положение облегчалось тем, что я точно помнил этаж – шестой, и что от лифта мы пошли направо. Квартира была не первой и не последней в ряду…
Итак, чет или нечет.
При этом я как-то совершенно упустил из вида следующее соображение: почему Апт, не отворявший мне, когда я бухал в дверь задом, призывно вызывал его нежным голосом пьяной сирены и крыл военно-строительным матом, почему он откроет дверь на звонок.
Впрочем, у меня уже и ответ был готов: грубый мужлан, заколотивший дверь перед лицом товарища, обрадуется, что это вернулась нежная супруга, которая успела соскучиться по нему настолько, что забыла у родственников ключи. Я уже злобно ликовал: каково будет Апту, когда вместо горячо любимой Ани он увидит меня во всей красе и гневе!
Ни в той, ни в другой квартире мне никто не ответил, тогда я начал звонить во все двери подряд.
Был первый час ночи.
Те, кто открывали двери, вели себя одинаково (я старался быть по возможности предельно вежливым и любезным) – отвечали, что ни Сашу, ни Аню, ни вообще кого-либо в доме не знают, так как недавно въехали.
У меня не было с собой даже куска мела (тоже мне – учитель!), дабы помечать крестом квартиры, в которые я уже звонил, поэтому через какое-то время поведение жильцов изменилось: одни грозили позвонить в милицию, другие – спустить меня с лестницы, иные просто посылали коротко и выразительно.
Я перебудил и настроил против себя половину дома, но сезам не отворился.
Оставалось два выхода: постелить в торце любого коридорчика, под батареей пальто вдвойне (все-таки камень!), сунуть под голову портфель и забыться безмятежным сном.
Второй способ был такой – выйти на улицу комиссаров-мучеников и поймать такси. У меня оставалась сдача с десятки, что я разменял на улице Гарибальди по дороге к Апту – два тарифа, обычная ночная ставка… Кроме того, в потайном кармане брюк всегда лежали запаянные в полиэтиленовую пленку 25 рублей – на откуп от ментов в каком-нибудь крайнем случае. По своему опыту борьбы с преступностью в стальных рядах комсомольско-оперативного отряда типографии и издательства «Известий», я знал: сиреневой бумажки достаточно, чтобы отмазаться от любого административного правонарушения и даже легкого уголовного преступления – но к ним-то я совершенно не был склонен.
Правильным решением было лечь спать под батареей, но я, влекомый бурей и желанием выпить стакан горячего свежезаваренного чая, выбрал второе.
Дальнейшее я помню смутно и разрозненно. Машину я остановить не смог, видимо, из-за известного предубеждения таксистов по отношению к пьяным.
Помню, как ехал в пустом автобусе, и на какой-то остановке в салон вошел прилично одетый молодой человек и подсел ко мне.
А потом я проснулся в чистом поле.
Когда я совершал свою первую ходку по дурдомам, в 15-й психбольнице, что на Каширке недалеко от Блохинвальда, врач-гипнотизер Владимир Райков, действительно проделывавший с людьми поразительные штуки, запугивал нас во время сеанса смертью под забором.
Меня, он, впрочем, выволок за шиворот вместе с полотенцем и тазиком (на случай рвоты) уже со второго сеанса – я комментировал его проповедь и, по мнению больных, очень смешно его передразнивал.
Так вот, чем же так позорна смерть под забором, разве что непоэтичностью?
Суровый Гумилев писал:
И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели…
Чистое поле куда возвышеннее дикой щели. Как много позже писало одно погибшее разностороннее дарование: «в чистом поле на перекрестке дорог, там, где хоронили самоубийц, Блок перевенчал Россию с ветром…»
Под колыбельную этого ветра я мог заснуть навсегда.
Курилась мутная метель…
На том берегу зажглось еще несколько огней: сомнений не оставалось: там была жизнь, люди, тепло и свежезаваренный крепкий чай.
Мгновенно в моей бедовой голове, распираемой винными парами, сложилась удивительная по нелепости картина: я вообразил, что позади меня находится улица Каховка (но позади меня ничто не было, кроме тьмы и неопрятной равнины), впереди – мое место жительства – улица Цюрупы, а водная преграда – река Котловка, которая действительно время от времени разливалась по неизвестным причинам.
Спроси меня в этот момент какой-нибудь скептик: как объяснить наличие леса впереди слева, откуда изредка доносился перестук проходящих поездов, я нашел бы объяснения и лесу, и железной дороге…
Я спустился к воде. Вдоль берега тянулся ледяной припай с вмерзшими в него камышами, тусклым свинцовым блеском (к этому времени метель стихла и выглянула слабая, как бы размазанная луна) была обозначена довольно широкая река, значительнее полноводнее Яузы.
Я, в общем-то, неплохо знаю Москву и мог бы задуматься: таких рек в столице нет, а если это пруд, его можно обойти (как выяснилось позже, дамба была всего в семидесяти метрах от меня, но я ее не разглядел).
И, наконец, Котловка никак, даже в случае всемирного потопа, не могла разлиться таким невероятным образом.
Но желание оказаться дома, лечь в горячую ванну, выпить крепкого свежезаваренного чаю, особенно последнее, окончательно свело меня с ума.
И я вошел в воду.
Вернее, я скатился в нее, дно быстро ушло из-под ног, и я поплыл, попеременно воображая себя то броненосцем «Потемкин», то ледоколом «Красин». Немного позже я окончательно утвердился во мнении, что я – ледокол.
Тяжелое драповое пальто на ватине тянуло меня на дно, но, громко и фальшиво распевая замечательную песню «Холодные воды вздымает лавиной суровое Черное море», я медленно приближался к противоположному берегу.
Я не напрасно уточнил: «к противоположному берегу», ибо за три года до того, в Малаховке, находясь в восторженном состоянии («Кубанская», коньяк, пиво, «Мукузани», «Красное крепкое», «Айгешат» и что-то еще) я забыл, с какого берега я вошел в воду! И плавал ночью, правда в июне, оглашая окрестности песнями военно-морского уклона, часа три, пока за мной не пришла милиция и не разбудила моих друзей, оставшихся на берегу стеречь вещи.
Через четверть часа я понял, насколько плохи мои дела: лед не пускал меня к берегу, я не смог ни вылезти на лед, ни нащупать мелкое место, чтобы встать и отдохнуть, ибо силы кончались.
Едва я пытался опереться о кромку льдины, она ломалась под моей тяжестью, я рубил ее руками, и, когда я очередной раз добрался до слов: «тот первым в родимую бухту вернется…», я ощутил ногами дно.
Еще минут десять понадобилось, чтобы выбраться на твердую землю.
Пошатываясь и дрожа от усталости, вступил я на снежную равнину, от меня шла испарина: невольно вспомнилось: «какая сила в нем сокрыта…»
Впереди было видно какое-то одноэтажное здание, окруженное несколькими скирдами.
Мелькнула беспощадная мысль: «В Москве ли я?»
При ближайшем рассмотрении скирды оказались автобусами, здание – конечной станцией, и я начал догадываться: это не улица Цюрупы, и крепкого свежезаваренного чая мне не пить.
В одном из автобусов собрались водители, работал двигатель, пахло бензином и выхлопной трубой, было сильно накурено.
«Где я, в каком городе?» – хрипло спросил я, подражая классическим образцам.
И все взоры разом уставились на меня, наступила гнетущая тишина.
Вид мой был дик. С меня текло, и на полу сразу образовалась изрядная лужа.
– Ты откуда такой красивый? – наконец спросил меня кто-то.
– Я только что переплыл реку, и мне надо согреться.
Мне уступили место у двигателя.
Все молчали, затем кто-то резонно заметил:
– Здесь нет никаких рек. Это Очаково. Вот что, – говоривший, видимо – бригадир, обратился к одному из шоферов, – ты едешь первым рейсом, отвези его на метро «Университет» и сдай ментам.
У меня не было сил возражать.
Набившиеся на маршруте в автобус люди рядом со мной не садились (с меня продолжало течь) и старались ко мне не приближаться.
Скоро я очутился в линейном отделении милиции метрополитена, мне поставили стул посреди комнаты, вызвали женщину-врача.
Собралось человек шесть, и все они смотрели почему-то на мои ноги. Поглядел на них и я: на мне были полуботинки без шнурков, чужие.
Даже дети в стране советов, знали строки Галича:
А сидеть вам в Соловках и Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках.
– Ты, стало быть, реки зимой переплываешь? – весело спросил меня лысый майор.
– Там, где их нет, – заметил другой офицер.
И кто-то беззлобно хохотнул:
– Морж в пальто.
– Покажите мне ваши руки, – приказала врач.
Я разделся. Она осмотрела и спросила:
– Вы пытались вскрыть вены?
– Что вы! – возразил я. – Позвольте вам все объяснить.
– Ты сначала мне объясни, кому шнурки подарил, – сказал майор.
И я, ничего не утаивая, поведал им свою скорбную повесть.
Когда я умолк, в комнату вошел пожилой старшина и что-то зашептал майору на ухо.
– Так ты не беглый? – спросил меня майор.
– Боже упаси. Вот мой домашний телефон, в доме сын Илья и бабушка Мария Федоровна. Жена уехала в командировку в Ярославль.
Я знал, что только притворным смирением и лживым раскаянием можно тронуть их волосатые сердца.



