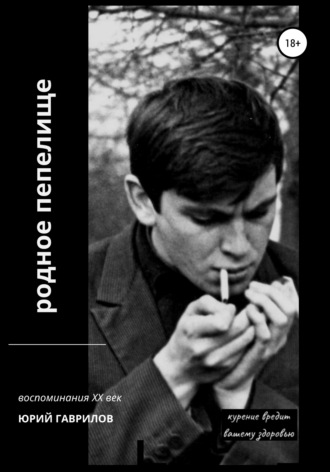
Юрий Львович Гаврилов
Родное пепелище
В павильоне было зимой несильно, но натоплено, всё лучше, чем на улице; пустынно, гулко и печально.
Посетители в павильон почти не заходили, работал он до 19 часов, но вокзальные бродяги, по-моему, побаивались мрачного, строгого здания – все-таки Ленин, и напрасно, в вагоне можно было даже спать, но я не пробовал, хотя внутрь и залезал.
Прием в пионеры нашего класса не повлиял на международную обстановку – империалисты США и их приспешники по-прежнему бесчинствовали в Корее – но породил нешуточный всплеск политического честолюбия во втором «А».
Еще бы, столько командных должностей – от санитарного поста (боролся с грязными ногтями, космами некоторых несознательных товарищей и стригущим лишаем Кольки Фиолетова) до председателя отряда.
Я считал, что именно я должен был носить две председательские лычки на рукаве, но старшая пионервожатая Зоя решила иначе, и я был избран редактором стенной газеты – всего лишь, должность, между прочим, без лычек.
Я начал интриговать и уже через месяц стал звеньевым – всего одна нашивка, да и той быстро лишился: во время сбора металлолома пионеры моего звена на санках вывезли со стройки радиаторы парового отопления. Мы честно приняли их за старые и ненужные: ржавые, неприглядные. А того не сообразили, что если бы батареи были б/у, то они должны быть покрашенными.
Скандал был по всей программе – оперативники, участковый, управдом, прораб.
У нас отобрали переходной вымпел за первое место, а я был разжалован в санинструкторы, но с этого незавидного места мне в результате ряда сложных манёвров удалось переползти на должность инструктора по туризму.
И в районном Доме пионеров на Самотеке мне выдали не только лычку, но и нарукавную нашивку с пионерским костром, как сотруднику районного подчинения, а затем и значок «Юный турист» за победу в районном конкурсе «Костер с одной спички».
Ах, костры – роковая страсть моя, сколько я за них претерпел, но уж поджечь что-нибудь одной единственной спичкой, и в дождь, и в снег, и в ветер – это всегда пожалуйста.
В четвёртом классе я стал-таки на короткое время председателем отряда – и как отрезало. Я, можно сказать, упился властью, славой и почётом, но отныне хотел быть только частным человеком. Однако мне этот скромный и достойный удел так и не достался – я опять был избран редактором стенной газеты.
Попротирав штаны до одури на сборах совета дружины, я вдруг догадался, что кроме современного варианта «Прозаседавшихся», из нас ничего не выйдет.
У школьной пионерской организации в городе не было никаких реальных дел, кроме сбора металлолома и макулатуры, но если круглый год собирать макулатуру, то с ума сойдешь, а школа превратится в помойку.
А насильно переводить старух через улицу – такая морока, не приведи Господи.
Примерно так рассуждали мы с товарищами, собираясь в городской Дворец пионеров, в переулок Александра Стопани, старого большевика, благо пути было пятнадцать минут.
Во Дворец ходила моя сестра Лида заниматься бальными танцами. Занятия были платными – 10 рублей в месяц, сестре падекатр не понравился, и она сказала:
– Вот отпляшу на 10 рублей и больше танцевать не буду.
Среди многочисленных кружков и секций нас привлекло стрелковое дело: пулемет «Максим» произвел неизгладимое впечатление. Но время шло, а мы все еще занимались теорией и подготовительными процедурами: учились брать «На пле-чо!», выполняли команду «Ко-ли!», но стрелять не стреляли.
Выяснилось, что тир кружка давно на ремонте.
Теория меня утомила, тем более что летом 1953 года я вполне практически стрелял из тулки, винтовки «Бердана» и даже «Зауера».
Школа постепенно стала рутиной, у меня появились другие интересы, и свой высокий пост редактора я оставил в связи с резким ухудшением здоровья.
Дела и дни
Гесиод писал о буднях древнегреческого земледельца, дела и дни школяра в Колокольниковом переулке Москвы в пятидесятые годы были не тяжелее, но многообразнее.
Годовой цикл для меня начинался с Нового года, самого любимого праздника.
Еще до школы, когда нас с сестрой укладывали раньше полуночи, мы с Лидой соединяли свои руки шпагатом, чтобы не давать друг другу заснуть и, таким образом, дождаться заветного часа появления под елкой Деда Мороза и двух немалых мешков с подарками.
Но, несмотря на тесную связь, наше бодрствование продолжалось недолго.
Нас будили под перезвон кремлевских курантов, мы доставали из пакетов по мандарину и шоколадной конфете, разговлялись и снова засыпали.
Дед Мороз, вывезенный мамой из блокадного Ленинграда, уже стоял под елкой и незаметно исчезал в тот момент, когда разряжали новогоднюю красавицу, которая, как правило, занимала треть комнаты и уже поэтому долго стоять не могла.
– В форточку вылетел, – объясняла нам мама, и мы не знали: верить – не верить.
Позже я перерыл весь дом, но так и не понял, где родительница прятала волшебный амулет.
Утром я начинал методично пожирать увесистый мешок, и к вечеру он был пуст, а я с вожделением поглядывал на крафт-пакет сестры. И она щедро со мной делилась, хоть бы еще три жизни проживи – такого не забудешь.
Кстати, Будда считал неблагодарность самым черным грехом.
Первой моей публичной елкой стала елка в ЦДРИ – Центральном доме работников искусств.
Мы, то есть я, а потом и Лида, любили туда ходить.
Приятельница мамы, заведующая справочной библиотекой «Литературной газеты» тетя Дора, через профсоюз работников культуры доставала нам билеты на детские праздники.
До того, как я пошел в школу и до пятого класса две недели между Новым годом и старым Новым годом – время суетное: елки.
Дом Советов, Колонный зал – это, как говорится, святое, до Кремлевской елки 1954-1955 года – главная елка страны, и подарки богатые, за один день даже я, прирожденный сладкоежка, умять все не мог.
ЦДРИ – елка, где кроме Деда Мороза и Снегурочки, детей развлекали опытные массовики-затейники, была интересной; мы ее очень ждали, но подарки там были пожиже.
Любимый мой аттракцион был такой: собрав детский хоровод, один из взрослых давал двум мальчикам, стоявшим друг против друга, блестящие металлические ручки, подсоединённые к какой-то мудреной электромашине. Нас предупреждали, что через нас пойдет слабый электрический ток, но это не больно, не страшно и не вредно, а напротив – полезно и забавно. Некоторый девочки и даже мальчики побаивались и конфузились, но я-то считался бывалым, и одна из ручек непременно доставалась мне.
Затем пускали ток, нас начинало слегка потрясывать, потом уже трясло сильнее, в этот момент нам предлагали расцепить руки, но я уже знал, что это сделать невозможно.
Вряд ли сегодня возможен такой познавательный номер на детской ёлке.
Меня привлекали большие китайские головоломки, сделанные из никелированных прутов толщиной с палец, я научился быстро собирать и разбирать их; подвижные части соединялись и разъединялись со звуком винтовочного затвора.
Центральный дом Советской армии (ЦДСА) – праздник военно-эстетического жанра, мощная вещь: священный амулет для того, чтобы елочка зажглась, похищали не какие-нибудь сказочные Баба Яга или Кощей бессмертный, а самые настоящие диверсанты в маскировочных халатах с немецкими автоматами, тоже не игрушечными, диверсантов брала розыскная собака, восточно-европейская овчарка.
Ну, где еще в мире что-то подобное можно увидеть на рождественской елке?
В двух шагах от ЦДСА находился старый, еще не реконструированный, с деревянным скотным двором, уголок дедушки Дурова.
Только там можно было посмотреть поистине уникальное зрелище – «Аллегорическое шествие животных» – пародия на известных западных политиков, которых изображала (ну, догадайтесь, кто?) – конечно же, свинья, гиена, козел, хорек – вылитые Черчилль, Иден, Трумен и Тито.
Все это по сценарию, разумеется, моего любимого поэта, Сергея Владимировича Михалкова, ну, до чего разносторонний человек, и для свиньи стихи написал.
Заканчивалось представление песней:
Ну, а тех, кто выступает
Как подскажет Вашингтон,
Наш Вышинский отстегает
На глазах у всей ООН.
И я представлял себе уморительную картину: американских холуёв в цилиндрах и фраках, с голыми задницами и товарища Вышинского с грозным шкивом в руках.
И, конечно, елка чудесная у наших дорогих шефов, в клубе Министерства государственной безопасности, самая продолжительная: и представление, и обязательно кино про шпионов, вредителей и нарушителей границы.
А подарки!
В них всегда было то, чего не достанешь в магазине.
Или вафли в виде орешка с начинкой из пралине, или шоколадные медали невиданных размеров. И обязательно – две небольшие книжечки сусального золота по 20, а то и 30 страничек, в них тончайшие листочки чистого золота (положишь в такой грецкий орех, сожмешь ладошку – вот и игрушка на ёлку) были переложены листками бумаги папиросной.
«Вся страна для них старается, – думал я о чекистах, – чтобы поддержать их в нелегкой, но благородной службе. А они всем делятся с детьми, будущими пограничниками…»
В моей жизни самыми щедрыми были два самых страшных ведомства, всесильные Средняя Маша и госбезопасность.
Что-то сейчас там, в этом уютном клубе с глубокими кожаными диванами и вышколенной обслугой?
Мы там были частыми и желанными гостями: на все революционные праздники, включая День парижской коммуны, День Сталинской конституции, день рождения Ленина, День пограничника, День чекиста, День Победы, Праздник книги – всего не упомнишь…
От моего зоркого глаза не ускользнула странная особенность: сколько народа на Кузнецком мосту – узких тротуаров не хватает, идут по брусчатке, а в Фуркасовском переулке – никого, но объяснить для себя это обстоятельство я так и смог.
В редкий день, когда он не работал, папа водил меня в музеи.
И здесь выбор его был далек от хрестоматийного: мы никогда не были с ним в художественных музеях, Центральном музее В.И. Ленина или Карла Маркса и Фридриха Энгельса, но уж точно более десятка раз мы посещали Политехнический, и я знал его как облупленного, на ощупь, как потом выучил Музей изящных искусств на Волхонке и Центральный музей В.И. Ленина – зайдешь, выпьешь, но и заодно ознакомишься с экспозицией; особенно я любил рассматривать носильные вещи Ильича, начиная с детской сорочки, правда, платье вождя, особенно исподнее, было представлено весьма скупо.
После Политехнического по числу посещений шел Музей истории и реконструкции Москвы, где я полюбил панорамы старых улиц, начал интересоваться, что было раньше на месте старых зданий; отчего-то чрезвычайно меня занимали дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, как и другое здание того же общества на площади Дзержинского (Лубянской).
С изумлением я узнал, что в доме, ставшем оплотом нашей державы, даже после революции были обычные обывательские квартиры, магазин швейных машин (узнал от бабы Мани), и даже пивная (это мне поведал старейший наборщик Москвы Иван Никанорович Быков-Баранов), и диетическая столовая (сведения от фотокорреспондента «Вечерней Москвы», Гирша Евелевича Яблонского), и что изначально зданий было не одно, а два.
Это сейчас можно нажать клавишу, и поисковик выдаст всю сумму знаний про любое здание и не здание.
Я добывал сведения по крупицам, поэтому они и остались во мне навсегда.
То, что внутренним двором МГБ стала та часть Малой Лубянки, что раньше выходила на площадь, я догадался сам; дело в том, что никто не хотел ничего говорить о знаменитом доме, словно над ним тяготело проклятие.
Технический прогресс, во всей своей внушительной наглядности представленный в Политехническом музее, восхищал меня, и я начал методично склонять отца к покупке радиолы «Рекорд», которая находилась в экспозиции последних достижений советской радиопромышленности.
Правда, относительно радиолы противоречивые желания разрывали меня – радиоприемник «Балтика» и некоторые радиолы имели таинственное устройство, подобное кошачьему глазу:
Мой кот, как радиоприемник
Зеленым глазом ловит мир…
Мне эта радужная электронная оболочка очень нравилась, но уже появились модели, у которых кроме допотопных и скучных круглых ручек были современные клавиши цвета слоновой кости.
Мне хотелось, чтобы стеклянная шкала с нанесенными на нее прямоугольниками городов «Лондон», «Париж», «Берлин», «Рим» была широкая, как у «Беларуси», «ВЭФ Аккорд» или «Даугавы», но чем-то привлекали меня и консольные конструкции типа «Риги».
Я думал, что когда стрелка, ведомая медленным покручиванием верньера, проходит через прямоугольники, которым были присвоены имена мировых столиц, аппарат ловит именно радиостанции Мадрида или Рио-де-Жанейро.
Как я ошибался!
Родителям нужна была радиола, способная проигрывать новинку – долгоиграющие пластинки со скоростью 33⅓ оборота в минуту, тогда как наш старый патефон имел одну скорость – 78 оборотов в минуту.
К тому же несбыточность моих мечтаний упиралась в проклятый денежный вопрос: на беду я выбирал все то, что стоило немного меньше или много больше тысячи рублей, а радиоприемник третьего класса – настольная радиола «Рекорд-53» стоила 385 рублей, что и решило дело.
Радиоприемники первого класса «Латвия М-137» и «Мир-152» были на тринадцати лампах, приемники высшего класса вроде «VEF-Super» имели дополнительные устройства, облегчающие поиск нужной станции, а «Рекорд-53» был собран на пяти лампах, но и советские радиостанции и вражеские голоса принимал очень уверенно.
Некоторые приемники высшего класса выделялись не только замечательной ценой (2760 рублей!), но и тем, что диапазон коротких волн начинался у них с 12,5 метра, а глушилки работали на диапазоне с 25 метров.
Смекаете?
Вражеские голоса можно было принимать и в Москве, и в Ленинграде без всяких помех.
Потом те торговые моряки, что ходили за границу, стали привозить такие же транзисторы, и они пользовались устойчивым спросом.
Станциями глушения (81 местного и 13 дальнего действия – до 2000 км) были окружены Москва, Ленинград, Киев и еще десяток советских городов.
Когда с 1958 года мы жили в дачном поселке «Литературной газеты» в Шереметеве Савеловской железной дороги, из электрички была видна станция глушения неподалеку от платформы Марк.
«Закрытие частот» началось в СССР в 1931 году (глушили румынское, ха-ха, радио) и закончилось только в 1989 году.
С весны 1948 началось массированное глушение «Голоса Америки», «Би-Би-Си», потом, особенно яростное – «Свободы».
То, что наращивание мощности «закрытых частот» было признанием поражения в идеологической войне ни я, ни подавляющее большинство населения СССР, разумеется, не понимали.
Я был допущен к «Рекорду» после того, как дал честное пионерское слово под салютом, что не стану снимать заднюю крышку (была снята в первый же день – ничего интересного) и не буду включать диапазон коротких волн.
Послушав некоторое время всегда одно и то же – вой глушилок, и удовлетворенный тем, что наши не дремлют, я переключался на диапазон УКВ – никаких помех.
В мае 1953 года я выставил «Рекорд» на подоконник, чтобы порадовать возможных слушателей концертом несравненной Клавдии Шульженко.
Был жаркий день, переулок был пуст, лишь какая-то странная пара мужчин поднималась по нечетной стороне – я сидел, свесив ноги на улицу и на ощупь крутил ручки.
И вдруг очень громкий, отчетливый, хорошо поставленный голос загремел на весь переулок: «Едва заколотив последний гвоздь в гроб обожаемого кровавого тирана, советские вожди вступили в смертельную схватку за власть.
Казалось бы, портфели поделены…»
Я оцепенел.
Вместо того чтобы немедленно прекратить поток клеветы, я заметался, как курица с отрубленной головой.
Вражеский диктор на весь переулок вещал о том, что товарищ Лаврентий Павлович Берия вознамерился перегрызть глотку товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу, а Никита Сергеевич, в свою очередь, подбирается к горлу Лаврентия Павловича, а товарищ Маленков…
Я лихорадочно и безуспешно нащупывал верньер, вместо того, чтобы соскочить с подоконника и выдернуть вилку из розетки.
Вот и те, старый и молодой, оба очень высокие, у дома девять подняли головы и смотрят в сторону нашего окна
И в это время по ушам ударил спасительный вой глушилок.
– Проспали, ротозеи, залупы зеленые неотесанные! – завопил я.
Чувствуете благотворное влияние сказителя Сизаря?
Тут я добавил такое, чему и Сизарь бы позавидовал, и что было услышано от кавалериста-симулянта и касалось гомосексуальной и скотоложеской связи белопанского польского улана и его боевого жеребца.
Я хотел было добавить еще кое-что из фольклора полярной авиации, но тут услышал, как кто-то идет по коридору.
Неужели уже за мной? Как быстро!
Но это был слесарь из Мосгаза.
Фольклор полярной авиации – это, конечно же, Вася, помните подпаска моего отца, который вместе с ним так удачно въехал в цех на «Овечке».
Так вот, в 1949 году он был уже лейтенантом полярной военно-транспортной авиации; отца он не забыл, и нельзя сказать, чтобы его визиты радовали нашу маму – ладно водка, так ведь чистый спирт в неограниченных количествах.
Этого не могли уравновесить даже деньги, которые неженатому Васе решительно некуда было девать, а оклады военных летчиков в Заполярье были в те годы ломовые.
– Хоть бы его в какую-нибудь Чукотку перевели, – мечтала мама, а отец возражал:
– Он и с Чукотки прилетит, – и это оказались провидческие слова.
Уже майором и подполковником Вася прилетал из района Уэлена, Лаврентия и Черского.
Вася неоднократно летал на тайный сталинский стратегический аэродром у Северного полюса, откуда ТУ-4 с атомными бомбами доставали до Америки.
Но, однако, меня повело далеко в сторону, и надо вернуться к музейной теме.
Старый Музей Советской армии располагался в левом крыле ЦДСА, бывшего екатерининского института благородных девиц, построенного в 1807 году.
Там, где готовили к жизни трепетных благородных девиц, стояли пушки и тяжелые пулеметы, висели мундиры военачальников Рабоче-крестьянской Красной армии, которая только в 1946 году стала армией Советской.
Много замечательного было в сильно прореженной в тридцатые годы экспозиции музея, но больше всего я любил зал Победы, где с благоговением смотрел на простреленное знамя и со злорадством – на брошенные на пол в искусно декорированную свалку знамена и штандарты поверженной гитлеровской Германии.
Сейчас, в чаду ожесточенных споров по поводу потерь советского народа в войне, как-то теряется из вида тот очевидный, как восход солнца, факт: это мы – русские и другие народы Советского Союза, победили сильнейшую армию в мире, и никакие подсчеты и толерантные бредни этого факта ни отменить, ни изменить не могут.
А факт, как говорится в «Мастере и Маргарите», последнем русском романе, прочитанном широкой публикой, факт – самая упрямая вещь в мире.
Или, словами М. М. Зощенко: это больше, чем факт – это голая правда…
Мы были поколением победителей, что уже не может быть понято в полном объеме современной молодежью.
Идиотское, расплодившееся ныне выражение «играть в войнушку», придуманное пакостниками, вызывает у меня отвращение.
Мы играли не в «войнушку», а в Великую Отечественную войну Советского Союза, да и не играли мы, а жили той войной и нашей великой победой.
В московских парках стояли сбитые немецкие бомбардировщики, и мы бегали по их крыльям, попирая черные кресты.
Вы можете ездить на последней модели BMW, но приплясывать на крестах боевого бомбардировщика, бомбившего Варшаву, Осло, Брюссель, Амстердам, Париж, Афины, Белград и Лондон, и поверженного русским оружием в московском небе, потрепанными сандалиями топтаться на этих зловещих крестах, перед которыми стояла на коленях Европа, – вот этого вам не досталось.
Каждому – свое…
Мы играли в лесу под Подольском и Лобней в тех самых окопах, которые не смог преодолеть непобедимый вермахт – тысячи верст прошел, мощнейшую в мире укрепленную линию Мажино прорвал, а эти полуосыпавшиеся окопы перешагнуть не смог.
Недалеко от платформы Луговая я сиживал на камне германского преткновения, бетонной крышке дзота – от этой плиты мы оттолкнулись своей славянской пятой и пошли отбирать наши пяди и крохи, отсюда началось наше контрнаступление.
Напомнить, где оно окончилось?
А сегодня господин по фамилии, заметьте, Минкин, позволяет себе утверждать, что надо было сдаться Гитлеру…
Пробитый осколками красный стяг над поверженным Берлином вошел в состав моей крови, и кинокадры, на которых знамена непобедимого вермахта летят к подножию мавзолея на специально сбитые дощатые поддоны, дабы свастика не осквернила священной земли Красной площади – главные и любимейшие моменты моей жизни.
А поддоны потом сожгут и пепел развеют в чистом поле, как 340 лет назад по ветру развеяли то, что осталось от самозванца и не поместилось в пушечное жерло.
Это называется Империя, её назначение – одолеть врага или погибнуть, а лечь под него – это для минкиных.
Во дворе бывшего Английского клуба – в нем разместился Музей революции, стояло шестидюймовое орудие, из которого большевики стреляли по Кремлю («святое дело» – думал я) и настоящий броневик.
В экспозиции было много оружия – и холодного, и огнестрельного, замечательные фотографии (знал бы я, сколько на них ретуши!).
Но настоящую революцию в музейной жизни Москвы произвел 1950 год.
Известно, что Сталин родился 6 (18) декабря 1978 года.
Но в 1920 году Иосиф Виссарионович по никому не известным причинам поменял дату своего рождения на 9 (21) декабря 1979 года.
Начиная с осени 1949 года в СССР началось форменное умоисступление в связи с 70-летием любимого вождя, великого учителя и, заодно, корифея всех наук.
До конца 1952 года «Известия» на специально отведенной полосе печатали алфавитный список советских предприятий, учреждений, армейских частей и общественных организаций, поздравивших корифея с семидесятилетием. Завершали этот почетный перечень ясли поселка Ягодный Магаданской области.
Естественно, что юбиляру подарили более миллиона подарков от всего прогрессивного человечества.
Было решено создать Музей подарков И. В. Сталину, но подходящего помещения не нашли.
Практически ликвидированы были экспозиции Музея изобразительных искусств и Музея современного западного искусства.
Но места не хватило.
Большую часть бюстов и портретов передали в Третьяковскую галерею, но места все равно не хватило.
Тогда оставшееся богатство разместили в Музее революции, а сухой остаток в провинциальных мемориальных капищах, в частности, по месту рождения гения – в городе Гори Грузинской ССР.
Баба Лида методично провела меня через все экспозиции подарков.
Запомнилась модель паровоза, которая была по размерам значительно больше оригинала; половина зерна риса с полированной поверхностью разреза: на ней был вырезан не только профиль Сталина, но и собрание его сочинений на китайском языке. Зерно показывали а’натюрель и под мощным микроскопом – чеканный профиль в окружении бесчисленных иероглифов. В своем письме к Сталину китайский виртуоз обещал к 75-летию корифея на второй половине зерна риса поместить профили Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-Мао-дзедуна и полные собрания сочинений основоположников и верных продолжателей незыблемых основ.
Польские мастера из города Лодзи соорудили телефонный аппарат в виде серпа и молота, ничего более нелепого я еще к своим семи годам не видел.
Одних ковров было столько, что ими можно было покрыть все площади, улицы и переулки Москвы и даже ее тупики.
И на всех – товарищ Сталин на фоне тракторов, танков, самолетов, пароходов, верблюдов, лошадей, пограничных собак, и в окружении соратников и бесчисленного рода людей всех рас, национальностей и занятий.
В черные и белоснежные бурки можно было обмундировать две легких кавалерийских дивизии.
Детские рисунки, поделки и масса вещей, назначения которых я не понимал.
Баба Лида была дотошным посетителем и я, помню, сильно уставал, мой энтузиазм начинал гаснуть через какие-нибудь три-четыре часа созерцания вещных свидетельств безмерной любви и бесконечной преданности.
«Да подари ему хоть целый мир – и все будет мало», – думал я.
То, что прилично дошкольнику – непозволительно ученику первого класса.
Катание на «снегурках», привинченных к валенкам при помощи бельевых веревок, которые закручивались короткой палкой, осталось в прошлом.
Я начал посещать московские катки, сначала с родителями, потом с приятелями.
С родителями мы ездили в парк Сокольники и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, стадион Юных пионеров – по местам ностальгических воспоминаний нашего папы.
Лед на этих катках иной раз был изрезан до асфальта, раздевалки тесные, неудобные и холодные, как и пирожки с повидлом – основной товар буфета.
На каток Чистых прудов, куда можно без труда дойти пешком, я бы наведывался хоть каждый день, но – одна беда и для больших и для маленьких катков – шпана, которая правила там бал.
Вот и на Чистых прудах – лед там был вполне приличный, а временами – и очень хороший, и раздевалка получше, чем в парках, но шпана всех окрестных переулков и Покровских ворот не давала шагу ступить.
Бить не били, но запугивали, отнимали деньги до последней копейки, а главное – унижали. Хорошие коньки могли снять – видел не раз, вместе с хорошим свитером. Мне это не грозило, но было противно и отравляло ту радость, которую давал каток.
Я и мои одноклассники всё постигали сами – навык бегать на лыжах, хорошо стоять на коньках, плавать.
Лыжи у меня не пошли с самого начала, как и гимнастика, которой нас обучали в школе, а вот на коньках я катался лучше большинства сверстников.
С первого класса у меня появились «гаги», битые-перебитые, еще довоенные, мамины.
Лезвия были весьма посредственной стали и нуждались в частой заточке, а она стоила три целковых.
А где их взять?
Ботинки я так напичкал нутряным жиром, что они стали абсолютно водонепроницаемыми; стельки мне папа вырезал из фетра высшего качества, который в типографиях использовали для получения матрицы с газетной полосы – на набор клали специальный матричный картон, на него – полотно фетра, и этот сэндвич отправляли под пресс.
Фетр – новенький, а не б/у, применялся в нашем доме в основном на стельки. Двойная фетровая стелька и деревенские шерстяные носки – ноги у меня никогда не мерзли.
Я научился лихо разворачиваться, ездить задним ходом, змейкой, крутиться волчком – все было хорошо, когда бы не шпана.
Я предложил старшей пионервожатой Зое организовать пионерские вылазки на каток и объяснил, что так легче будет отбиваться от шпаны.
– Ты не на тот каток ходишь, – сказала мне Зоя и, в буквальном смысле, открыла мне глаза.
По ее совету я на следующий день отправился на Неглинную, нашел подворотню между 29-м и 27-м домами, прошел вдоль очень длинного жилого здания и обрел искомое.
Это был известный, к счастью – немногим, каток «Динамо» (ныне «Русская зима»), лучший в моей жизни и до открытия очень дорогого «Люкса» рядом с Лужниками – лучший каток Москвы.
Он был небольшим, уютным, круглым по форме, лед здесь был или отличный, или идеальный; раздевалка чистая, теплая, просторная; хороший буфет, отменная точка.
И никакой шпаны!
Объясняется это чудо просто: «Динамо» – спортивное общество милиции, и на катке всегда дежурили – не грелись и точили лясы в комнате милиции, а катались(!) вместе с нами на катке сотрудники в форме.
И первый среди них – незабвенный старшина Вася, настоящий русский богатырь на снегурках полуметровой длины, навинченных на чудовищные валенки 52 размера.
При его появлении шпана бралась за руки и начинала чинно кататься парами, преданно глядя на величественного старшину.
Он не отличался свирепостью нрава, напротив, был добродушен и относился ко всем по-отечески. Нарушителей порядка он втыкал головой в сугроб или в профилактических целях показывал кулак, величиной со средний арбуз.
Сначала я жался к былинному старшине, а потом понял – каток и его окрестности совершенно безопасны. Это было волшебное ощущение защищенности, никогда в жизни, после катка «Динамо», я уже его не испытывал.
Билет на утреннее катание (с 10 до 15 часов) стоил 1 рубль; горячий чай, действительно горячий, с двумя кусками сахара – 30 копеек, трубочка вафельная с кремом – 1 рубль, чай без сахара – 10 копеек, точка коньков – 3 рубля.
В середине дня каток закрывали – чистили лед, убирали раздевалки; вечером включали гирлянды из цветных лампочек, и билет уже стоил 3 рубля, так что вечером я катался лишь после того, как окончил начальную школу.
Утром, за наш рваный целковый, мы слушали еще и лучшие в мире песни; заведующий радиоузлом, высокий длинный шкет купался в лучах своей популярности, знал себе цену, но к просьбам публики был снисходительным и заказы выполнял: пластинок у него были горы и среди них встречались редкие.
Каток был моей музыкальной школой.
На уроках пения в школе мы как начали петь в первом классе замечательную песню Дмитрия Кабалевского «Наш край»:
То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, на век любимый,
Где найдешь еще такой! –
так только в шестом классе добрались до последнего куплета:
Детство наше золотое
Все светлее с каждым днем!
Под счастливою звездою
Мы живем в краю родном.
Пение было занятием, мне прямо противопоказанным – ни слуха, ни голоса, голос, впрочем, был, но очень противный.
Я мог без труда и особых усилий испортить любое хоровое исполнение, поэтому учительница пения делала вид, что не замечает моего отсутствия на ее уроках.
Скажем прямо, каток требовал средств, но с этим я кое-как справлялся
Но каток требовал времени – со второго класса я учился во вторую смену, и в полдень надо было сворачиваться, чтобы не опоздать в школу, а я только раскатался – коньки сами катят, начинают получаться те вольты, что я подсмотрел у старших…
Собирались лодыри на урок,
А попали лодыри на каток…
Нужно ли говорить, что я начал прогуливать школу, о чем немедленно появилась запись в дневнике.
Не подумавши хорошенько, я решил сжечь дневник и не где-нибудь в школьном дворе, что прошло бы никем не замеченным, а в уборной нашей коммунальной квартиры.
Никогда ничего не делайте, не подумавши, особенно в уборной.
Естественно, задымил всю квартиру, засорил унитаз и был пойман с поличным, обвинен Еленой Михайловной в попытке поджога дома, что было недалеко от истины и, конечно, был образцово, с применением шкива, наказан матерью.
Она отобрала у меня коньки, выдавая их по воскресеньям.
Прокат был мне решительно не по карману, и тогда я однажды не вернул коньки родительнице, соврав, что их у меня украли.
Она потребовала, чтобы я посмотрел ей в глаза, и встретила мой взгляд, злой, твердый и нахальный.
Я был приведен к пионерской клятве и я, давно уже клятвопреступник, не дрогнувшим голосом сказал:



