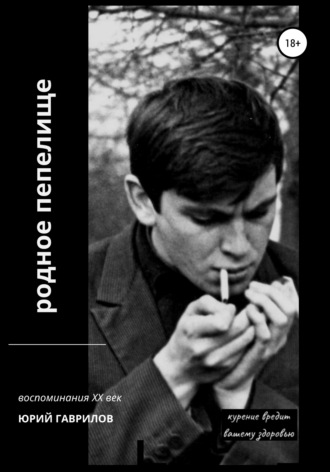
Юрий Львович Гаврилов
Родное пепелище
Баба Маня, собственно, была самым слабым звеном в деле моего освобождения, но я понял, что без нее не обойтись.
Она иной раз заговаривалась, с телефоном обращалась, как с живым существом, объясняла ему, куда собралась звонить, и подробно излагала содержание своего предстоящего монолога.
А что, если она спросонья не поймет, о чем идет речь или испугается слова милиция? Недаром, когда мы, бывало, собирались с Женей в кинотеатр «Тбилиси» на последний сеанс, она всегда спрашивала: вы билеты не забыли? ключи взяли? а паспорта?
В первый раз Женя удивилась:
– А зачем паспорта?
– А вдруг облава.
Но баба Маня не подкачала, лысый майор коротко, но толково допросил ее, и обратился ко мне совсем по-свойски.
– Что же ты сразу про бабку не сказал? А то наплел тут целый роман, сочинитель моржовый.
– Ты вот что, – это уже старшине, – отвези его домой.
Доро́гой водитель мрачно молчал, он, видимо, считал, что я – плут и выжига, сумевший запорошить глаза начальству.
В семь утра я вошел домой.
Баба Маня попеняла мне на меня же за ночное отсутствие. Не обращая внимания на её попреки и сетования, я принял горячую ванну, выпил два стакана крепкого свежезаваренного чая с лимоном и медом, отправил Илью в школу, постелил себе чистое белье и уснул сном праведника.
Проснувшись, я, сколько мог, почистил пальто, повесил его на плечиках над ванной, успокоил бабу Маню, изложив ей в высшей степени благонамеренную и фантастическую версию своих ночных похождений, где самым ярким эпизодом было спасение утопающей благородной вдовы с двумя бедными сиротами.
Баба Маня подробно изложила мне свой разговор с лысым майором, а я, тем временем, позвонил в школу и узнал, что дают аванс.
Я побрился, заметив в зеркале, что лицо мое приобрело суровое выражение, какое бывает у человека, долго плававшего во льдах и не раз смотревшего смерти в лицо.
Скорее всего, в моем лице действительно появилось новое выражение (следов вчерашнего пьянства не было совершенно, не было и перегара – он исчез сразу после водных процедур), потому что все, кого я встретил (Татьяна Михайловна, Феликс Александрович, Виктор Исаакович), спрашивали меня:
– Что-то случилось?
– Ничего, – отвечал я сдержанно, самой сдержанностью намекая – да, мол, случилось, но говорить об этом нельзя.
Коля Формозов проводил меня до автобусной остановки. Но поехал я не домой: недавно прочитал в «Вечерней Москве», что в связи с капитальным ремонтом ресторан «Баку» с улицы Горького временно переехал на улицу чекиста Кедрова и открыт для посетителей.
Туда я и направился.
Зал был совершенно пуст.
Официант сказал:
– Катастрофа. Местные не ходят, а кто же поедет на окраину, ведь это все равно – сюда или в Калугу.
Я заказал баклажан с орехом и чесноком, осетрину холодного копчения с перламутровым отливом, маринованный чеснок и другие острые овощи; греческие оливки, мягкие и очень жирные; парча-безбаш – нельзя же без первого, сабза-каурма – плов – это святое, бозартма из баранины – официант шепнул, что шашлыки «не очень», бутылку красного вина «Матраса» – прекрасно в нас влюбленное вино, «Матраса» – конечно не «Мукузани» или «Кварели», ну, да за неимением гербовой – пишут и на простой; бутылку марочного «Гёк-Гель» – это был действительно хорошо выдержанный коньяк, минеральную воду «Сираб» – пора и о печени подумать, гранатовый сок – витамины зимой! И лаваш – хлеб всему голова…. Конечно, не Питер Клас и не Виллем Геда, но натюрморт достойный…
Как-никак я разминулся со смертью.
Скатерть белая залита вином…
Скатерть была свежей, сказывалось отсутствие клиентов.
Я выпил фужер коньяку, и перед глазами поплыл лед с вросшими в него камышами, мертвенный отблеск воды, неопрятная снежная равнина.
Я мог замерзнуть в снегу, мог утонуть, мог, выбившись из сил, упасть на том берегу и замерзнуть еще раз.
И сейчас, когда я жевал осетрину, меня бы еще не нашли…
И срам небытия и тленья еще не обнажился бы.
Я думал о смерти, о жизни, о чем так хотел побеседовать с Джугашвили наивный Пастернак.
Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь, что смерть, но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет и плачет, уходя.
Ведь горит же во мне огонь! Или он уже погас?
Великое зеро… Не верю, аз есмь недостойный, что буду лететь светлым туннелем под завыванье ангелов навстречу апостолу Петру, амбалу с лучезарным лицом, недоброй улыбкой и монтировкой в волосатой руке…
Вот говорят, что смерть все спишет… Нет, остается память, да и никто не знает, что там, за чертой, – меланхолично размышлял я, запивая баранину красным вином. – Да и смерть у всех разная. Моя смерть – торговка Бела из продмага на Цюрупе, женщина невероятных телесных достоинств, но несчастная в личной жизни. За воровство и хамство ее из винного отдела упекли в «Соки-воды» где она внаглую разливала «Кубанскую», рупь стакан (166 граммов), имея, таким образом, полтинник с бутылки – в будний день верный тридцатник, а по выходным – вдвое. Но очень комфортно: во-первых, я люблю именно «Кубанскую» – она почему-то отдает виноградною кожицей, а, во-вторых, запиваешь крепко посоленным томатным соком – дешево и сердито…
Я думал о происхожденьи века связующих тягот. О том, что напутал, сильно напутал поэт и с гением, и с льготами, и особенно с гнетом – его и при гении было в избытке.
И я понимал: ничего нельзя поправить.
Все так гибельно накренилось, все грозит бедой, и ничего нельзя изменить, и спасенья нет. Все так мучительно переплелось, затянулось в такие узлы, особенно женщины – сеть прельщения человеков.
И распутать ничего нельзя. Все перепуталось и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и странно повторять: Россия, Лета, Лорелея…
И о России я думал: в оцепенении замерла она над бездной, и о том, вместе мы с ней рухнем или я успею уйти из жизни раньше.
Эта ночь давала надежду, что буду первым.
В зале было прохладно, и я пожалел, что не надел свитера, который на день рождения подарила мама: толстый, мохнатый, болотных цветов.
Но колыхнулась перед глазами ледяная вода, и я вспомнил, что проснулся на мглистом рассвете без свитера.
И бутылки водки во внутреннем кармане не было…
Может, я еще где-то погостил, раздевался, пил ту самую водку?
И вдруг из свинцовых волн выплыло слово «портфель».
Там было девять рукописных текстов, копий не существовало…
Раскаленное отчаяние заточкой вошло в сердце.
Там было начало повести «Опыт напрасной любви», написанный в совершенно новой манере. В нем было…, да что там говорить, я всерьез относился к своей работе, я да еще Татьяна Михайловна…
Не знаю, как я не потерял сознание.
Я стал утешать себя тем, что портфель, наверняка, я оставил у Апта…
За окном уже смеркалось. Я не люблю сумерек – день еще не умер, а ночь еще не началась, в них есть неопределенность и тревога.
Приторный голос Рашида Бейбутова пел: «Соловей над розой алой…»
Какие, к черту розы, какие соловьи!
Я допил коньяк и почувствовал себя трезвым, как устав гарнизонной службы.
Я поманил официанта и, поколебавшись, заказал еще триста. Он уважительно сказал: «Понимаю».
Ничего уже было нельзя ни спасти, ни отмолить, а жизнь затаилась в декабрьском безнадежном полумраке и стерегла меня за окном, как конвой.
Декабрь 2007 года
Вторая школа. Начало
К лету 1970 года стало окончательно ясно: в советскую историческую науку мне дороги нет, все ходы-выходы, все окольные тропы, хитрые обходные маневры и подкопы – все было испробовано, и везде и всюду, подчас в самый последний момент возникала контора…
Один совершенно случайный собутыльник в кафетерии ресторана «Гавана», которого я и не думал посвящать в свои обстоятельства, вдруг посочувствовал и дал мне неожиданно трезвый совет – идти работать либо в школу, либо в библиотеку (он был настолько любезен, что даже указал в какую именно: Фундаментальную Академии общественных наук). «И от дома недалеко, а годиков через несколько можно будет попробовать в институт истории профсоюзного движения. В зависимости от благонадежности», – и он по-свойски подмигнул мне.
Я поблагодарил его за заботу, не знающую границ приличий; о школе даже думать не хотелось, а библиотеку посетил, меня посмотрели и обещали подумать, но по тому, как встретили-проводили, я понял – эти возьмут.
Меня честно предупредили о женском засилье, о том, что начальница склонна принюхиваться, подозревать, и преследовать.
У меня был относительно светлый период, я был более или менее уверен в себе и зачислил библиотекарство, как хлеб насущный, в резерв последней очереди.
Поступали и экзотические предложения: гувернером к Виктору Луи, известному агенту КГБ и международному авантюристу; литературным секретарем к члену-корреспонденту АН СССР Д. Д. Благому, тому самому, о котором Осип Мандельштам писал: «Некий Митька Благой – лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки – сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина».
К тому времени лицейская сволочь уже не сторожила удавку, она писала всякие благоглупости про Пушкина и Шолохова, гуляла по дачному поселку в тюбетейке, и с ней моими благожелателями велись неспешные переговоры. К лицейской сволочи и к тому же молочному вегетарианцу мне не хотелось, и я всерьез подумывал о сопровождении пива и апельсинов в Норильск.
Самое остроумное предложение работы было сделано мне между могилами Петра Яковлевича Чаадаева и безнадежно влюбленной в него хрупкой, экзальтированной, болезненной Авдотьи Сергеевны Норовой.
С одним незнакомцем, впрочем, совершенно достойным джентльменом, который явно не знал ни моих обстоятельств, ни моего адреса, мы поминали басманного отшельника, и мой визави предложил мне место в оркестре слепых музыкантов, игравшем в крематории Донского монастыря, где все еще жгли по ночам избранных заслуженных товарищей.
То, что я зрячий, не смущало моего собеседника, он так загорелся своей идеей, и я ему так понравился, что он не сразу уразумел, что я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте.
– Даже на губной гармошке? – огорченно уточнил он. – Жаль, а то там такие вещи с покойников бывают, закачаешься
– Я бы мог быть у них дирижером, – вещи с покойников распалили мое воображение, но он только налил по новой.
Летом сестра Лида уехала с девочками в Прибалтику на взморье и взяла с собой Илью, но мы все же сняли дачу в Шереметевке на всякий случай.
Нашими соседями по финскому домику были Борис Генрихович Пузис, в миру Володин, и его жена, Нонна Аркадьевна, она преподавала русский язык и литературу (где – не помню).
Борис Генрихович, в прошлом врач-гинеколог и автор гимна акушеров (на мотив «а мы монтажники-высотники» из фильма «Высота»):
Мы не шоферы, не геологи,
У нас работа первый сорт:
Мы акушеры-гинекологи,
Любому сделаем аборт!
Хотя и вопреки традиции
Больному смотрим мы не в рот,
Мы всем поможем вам родиться
Или совсем наоборот!
– зарабатывал на жизнь статьями и научно-популярными книгами по вопросам биологии и медицины.
Нонна Аркадьевна взялась меня пристраивать в Институт социальных исследований через видного сотрудника этого почтенного учреждения Арона Каценелинбойгена, которого, естественно, поставила в известность о том, что контора неустанно печется обо мне.
Но господин Каценелинбойген сказал, что у них в институте таковых большинство, и дело пошло тихими стопами по иррациональным умопомрачительным зигзагам.
Но история на сей раз обернулась фарсом: меня-то уже почти как взяли на должность МНС, но в это самое время прикрыли институт социологии за систематическое искажение советских общественных пропорций и очернение общественного мнения по разнообразным вопросам.
Не знаю в точности, как обошлись с другими социологами, но Арон Каценелинбойген незамедлительно уехал в США.
Но я не остался у разбитого корыта. Нонна Аркадьевна не то училась вместе с Зоей Александровной Блюминой, то ли просто была знакома; словом, возникла имя «Вторая школа».
Нонна Аркадьевна старалась, поелику возможно, подсластить пилюлю: замечательные учителя, дети сплошь вундеркинды и администрация – либеральные интеллигенты чистой воды. Я смотрел на всю эту рекламу скептически, так как по моему разумению подобную школу разогнали бы за год до ее появления, но, тем не менее, в погожий день в конце августа я переступил порог типовой пятиэтажки.
Многочисленные смотрины минувшего года закалили меня, но я все равно волновался.
Приехал я загодя и решил подождать в вестибюле, дабы создать ложное представление о своей пунктуальности. На вопрос о том, кого жду, я со значением отвечал: назначено.
Вдоль раздевалки передо мной прогуливался джентльмен в затрапезной москвошвейной паре; старый физиономист, я сделал заключение, что, судя по внешности и манере поведения, это – завхоз, припозднившийся с ремонтом и теперь ожидающий вызова на ковер к начальству (впоследствии оказалось, что это преподаватель литературы Ф. А. Раскольников).
Того же качества были и прочие мои экспертизы: гордо пронесла себя грациозная старшая пионервожатая, правда, почему-то на ней не было галстука (В. А. Тихомирова), потом появился артистических манер господин, которого я определил душою общества (и не ошибся – И. Я. Вайль); он взял за руку нервного завхоза и начал вкрадчиво вещать ему что-то успокоительное про отдых в Прибалтике.
Директор принял меня любезно, хотя в силу врожденной мрачности, это давалось ему с трудом. На смотринах присутствовали Р. Б. Вендровская, наследство которой, четыре выпускных класса, я принимал; Герман Наумович, Зоя Александровна и может быть еще кто-то.
Регина Борисовна уходила из школы в институт методики преподавания АПН, случилось это внезапно, и я был призван спасти положение, хотя все и понимали, сколь мало я подхожу на роль пожарного.
Вендровская объясняла мне, что в прошедшем учебном году она не успела пройти новейшую историю и мне надо будет начать с этого курса, а потом как-нибудь поджаться…
Все это было для меня китайской грамотой, и Владимир Федорович понял это, видимо, по тому, как очумело я вертел головой.
– Да он не знает, с какой стороны кондуит открыть. Ведь вы классный журнал никогда в руках не держали?
Я благоразумно обошел молчанием то скользкое обстоятельство, что десять лет назад не только держал, но собственноручно сжег классный журнал своего родного 9 «А» класса на крыше гаражей у красных домов.
Все старались меня ободрить, но я впал в каталепсию, тупо выслушал наставления про учебно-календарный план (еще один иероглиф), получил брошюрки с программой-максимум и программой-минимум, учебник новейшей истории и приказ явиться через день на педсовет.
Дома я разложил программы, учебники, почитал, полистал, посчитал и понял, что влип основательно.
Одно дело рассказать исторический анекдот за столом на кухне, другое – попытаться изложить концепцию тоталитарного государства так, чтобы она была пригодна для сравнения с моделью другого государства, и при этом не потерять драгоценных деталей, которые есть вкус, цвет и запах истории. Прошлое нельзя восстановить и передать полноценно, умирает воздух времени, душа, но изображение ушедшей эпохи может быть и театром восковых фигур, и кунсткамерой, и панорамой Бородинского боя с товарищем Сталиным на лихом коне, и добротным альбомом подлинных фотографий с дневниковыми записями, письмами и воспоминаниями участников событий. И с нашими комментариями, нашей реконструкцией событий, нашим, сегодняшним пониманием причин и следствий.
Я написал урочно-календарный план, подобрал материал по теме первого урока, положил перед собой карманные часы и начал витийствовать. Когда часовая стрелка пошла на четвертый круг, я попил водички и умолк, совершенно обессиленный. Я проговорил три листочка из 11 страниц моего плана…
После мучительных сокращений (мне казалось, что я отсекаю самое важное, а что до деталей, то им вовсе не оставалось места) я все равно не мог втиснуться в рамки урока.
Конечно, в университете был курс методики преподавания, но он считался второстепенным и как-то не оставил по себе никаких воспоминаний, как впрочем, и курс педагогики и психологии.
Запомнился только энтузиаст программированного обучения, В. П. Беспалько, забавный живчик, на которого пьяный студент Игошин уронил громадный, еще дореволюционный книжный шкаф.
Эпическая картина падающего сооружения и обрушающихся с него антресолей, которые, как выяснилось, хранили в своем чреве портреты ближайших соратников товарища Сталина (я приволок домой Берию и Маленкова), была как бы живой картиной по мотивам известного полотна «Последний день Помпеи»; особенно хорош был господин Беспалько, присевший подобно брюлловской матроне с детьми под падающим колоссом и прижимающий к груди, в отсутствие дочерей, английское переводное пособие по программированному обучению. Вот эта-то Помпея и составляла весь мой практический и теоретический педагогический багаж.
Кое-как, буквально топором обтесывая гитлеровскую диктатуру, я заколотил ее в 45-минутные рамки, но Регина Борисовна, похвалив и обласкав меня, заметила, что урок информационно перегружен. Исходить надо было не из того, что я знаю и хочу сообщить, а из того, сколько могут воспринять ученики.
А сколько? И понимают ли они меня вообще?
На втором уроке в 10 «Г» выложили на столы так, чтобы мне было видно, книгу Л. А. Безыменского «Гитлер и его генералы». Я пользовался этой монографией, и ученики намекали, что им известны нехитрые источники моей эрудиции.
К счастью для меня, они ошибались. Двенадцатилетнюю историю рейха, историю национал-социалистической рабочей партии Германии и ее вождя я знал очень основательно, я намеривался специализироваться в университете по истории фашистской Германии, у которой было так много родимых пятен сталинской диктатуры, но обстоятельства не сложились.
Так что очень скоро мне удалось убедить моих слушателей в том, что предмет свой я знаю и люблю, да и чисто человеческие отношения с ребятами складывались хорошо.
Нас разделяли 10 лет, всего 10 лет. Я Сталина видел; нас разделяли ХХ съезд, оттепель, карибский кризис, публикация «Одного дня», крах Хрущева; нас разделял мой жизненный опыт, работа в типографии, семейная катастрофа, Средняя Маша и Красноярск-26, общение с КГБ – всего не перечислишь…
И все-таки всего десять лет. Я играл с ними в футбол, на переменах откровенно говорил на любые темы – запретных не было, а острые и еще острее – были.
Не я первый: «киндеры и вундеры вовсе замучили, не жалея сил молодых…»
Меня приглашали на домашние посиделки, в походы, на дачи, но на подобное сближение я был не готов, смущала неизбежная фигура – вино, лицемерить мне было противно, а пить с учениками я себе запретил раз и навсегда.
За то недолгое время, что я учительствовал во второй школе, я не стал школьным человеком и стал им отчасти уже в 19 школе под влиянием Б. П. Гейдмана и И. Е. Точилиной, но все же настоящей «училки» из меня не получилось…



