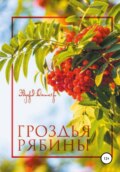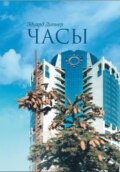Эдуард Дипнер
Инженеры
– Вы понимаете, что говорите? – вскочил с места Петелин. – Во-первых, они нам не подчиняются, а во-вторых, Вы, наверное, не знаете москвичей с их столичным гонором. Какие-то провинциалы будут их учить. Хотя Вы-то наверняка их знаете.
– Константин Иванович, это мое условие. Как Вы затащите их на завод – это Ваши проблемы, но если проект не будет переработан, то мне здесь делать нечего. Убедите в этом казанского заказчика. Во-вторых, – продолжал Сергей, – конструкции стадиона уникальны, и для них должны быть разработаны специальные технические условия. По тем требованиям, что написали в проекте эти самые москвичи, работать нельзя. Нормальные требования может сделать только московский институт ЦНИИСК. Я их достаточно хорошо знаю, там еще остались специалисты старой школы. Так вот, нужна поездка в Москву, чтобы заключить с ними договор и продиктовать им требования, выполнимые для нашего завода. В-третьих, я знаю, что заводские электросварщики – отличные мастера и Ваш главный сварщик Кузьмин – специалист самой высокой квалификации, но со сваркой таких швов, как в этих конструкциях, они не встречались. Есть только один институт в нашей бывшей великой стране – это Институт сварки имени Патона в Киеве, специалисты этого института могут нас научить, как варить такие швы. Нужна командировка в Киев, заключение договора. Вы сейчас скажете, что я замахиваюсь на международные отношения, но поверьте, без института Патона нам не справиться.
Кого Вы будете подключать – это Ваши проблемы.
– Это всё? – нетерпеливо спросил Петелин. – А то я назначил совещание. Если не всё, мне придется его отменить. – Он поговорил по телефону. – Продолжайте, пожалуйста.
– Следующая проблема – это измерения. Конструкции стадиона очень сложны, и имеющимися у нас средствами измерений невозможно ничего сделать. Около десяти лет тому назад мне удалось побывать в Нидерландах, на фирме «Вейсмюллер», они занимаются глубоководными основаниями. Это трубы большого диаметра, немного похоже на наш стадион. Так вот, они уже тогда ловили размеры лазерными приборами. А без таких приборов нам конструкции не осилить. Вы же знаете о печальном опыте изготовления опорных конструкций. Так вот, насколько мне известно, у нас в стране есть только одна фирма, владеющая такой техникой, – это московская геодезическая фирма «Юстас». Они работают по договорам на крупных стройках. На заводах металлоконструкций, по-моему, они еще никогда не работали, для них это принципиально новый метод работы, но я готов поехать в Москву, договориться с ними и разработать схему измерений. Сами понимаете, это договор, это деньги, и немалые. Геодезисты «Юстаса» должны неотлучно находиться на заводе и сопровождать изготовление. Я достаточно нагрузил Вас проблемами? Но это еще не все. Я не стану докучать Вам текущими, мелкими вопросами. Есть еще один. Это мой статус. Я хожу по заводу, меня многие помнят и хорошо ко мне относятся. Но люди недоумевают, что я здесь делаю и что мне от них нужно. Вы уже представляете примерно, какую работу предстоит выполнить и как мало у нас для этого времени. Так вот, чтобы всё это осилить, я настаиваю, чтобы Вы предоставили мне право единолично, за моей подписью решать и утверждать технические вопросы по изготовлению стадиона. Иначе мы погрязнем в бесконечных советах и совещаниях. На Вашем заводе нет главного инженера. Впрочем, это Ваше дело, у Вас сильные, квалифицированные инженерные службы – технологический отдел, конструкторский, отдел главного сварщика. Когда проходит рядовой заказ, все они срабатывают отлично, но для такого, как этот стадион, нужен центр принятия решений, нестандартных решений, и я берусь стать этим центром. Как мой статус будет оформлен – то ли приказом по заводу, то ли другим способом, не столь важно, но это мое непременное условие.
– Вот, значит, как! Мы-то приглашали Вас как технического специалиста, консультанта и советчика, а Вам подавай всю техническую власть!
– Да я не настаиваю, – взвился Сергей. – У меня в моей деревне дел по горло.
– Ну-ну, не кипятитесь, – примиренчески уступил Петелин. – Я не хотел Вас обидеть. Все, что Вы заявили, по-видимому, совершенно необходимо, и я принимаю к исполнению. Обращайтесь ко мне в любое время. Вот только Вы взваливаете на себя непомерный груз.
Может быть, Вам выделить помощника?
– Спасибо, Константин Иванович, я сам найду себе единомышленников. Вы меня простите, но я по-другому не могу. Всё гребу под себя и не терплю всяких совещаний и проволочек.
В глубине души у Сергея теплилась надежда – Петелин возмутится его непомерно нахальными требованиями, и тогда у Сергея появится возможность удалиться с гордо поднятой головой. Но Петелин только усмехнулся и, откинувшись в кресле, внимательно наблюдал за ним.
Чем глубже Сергей погружался в проект, тем явственнее он понимал архисложность задачи. Трубы, сопрягавшиеся в пространстве под разными углами, высокопрочная сталь толщиной до сорока миллиметров, – и всё это нужно проварить без единого дефекта, потому что бесстрастный ультразвук выявит любой мельчайший непровар. И всё это немыслимое переплетение металла нужно изготовить с точностью до одного-двух миллиметров в каждом направлении. А от сварных швов металл непредсказуемо сжимается, корежится, и с этим ничего нельзя поделать. Никогда ранее в своей практике Сергей не встречался с такими головоломками. И всё яснее он понимал: невозможно совместить несовместимое, задача не имеет решения.
Ночью Сергею вновь привиделся сон, временами преследовав- ший его. Он в смутно знакомом городе, то ли в Москве, то ли в Белгороде, и нужно добраться до завода, там Сергея ждут. Если пройти один квартал прямо, затем свернуть направо, то он выйдет к автобусной остановке, там должен останавливаться автобус номер… черт возьми, вылетел из головы номер автобуса. Но там можно спросить… только дойти до остановки… но за поворотом улица перегорожена какой-то стройкой, и приходится карабкаться через эту стройку, обходя строительные леса, и преградам нет конца, она безлюдна, эта стройка, и некого спросить, и всё новые препятствия на пути. Он понимает, что заблудился, но нужно спешить: там, на заводе, он нужен, его ждут. Единственный выход – позвонить по мобильному телефону. Сергей достает из кармана телефон, но на этом телефоне нет кнопок! Он лихорадочно шарит по карманам, там еще есть телефон, на этом втором телефоне есть бледные, теряющиеся кнопки, но, к собственному ужасу, Сергей забыл все телефонные номера! Нужно вернуться, пойти другой дорогой, но из строительного лабиринта нет выхода, и Сергей бредет, перелезая через всё новые препятствия, понимая, что этому лабиринту нет конца. Но он нужен на заводе, его ждут! Он просыпается в холодном поту и долго не может понять, где он. В темноте смутно белеет окно… Весь кошмар ему только приснился. Обычно сны, приходящие к Сергею, смутны, неопределенны, какие-то незапоминающиеся тени, а этот временами повторяющийся сон четко явственен, мучителен. На часах на ночном столике четыре часа утра. И, точно озаренное молнией, перед ним возникает решение. То решение, над которым Сергей мучился весь вчерашний день! Неразрешимую задачу нужно разбить на несколько подзадач, последовательно, шаг за шагом, разбивать эти рогатки, и тогда откроется прямая, правильная дорога в лабиринте. Сергей это сделает. Сделает обязательно!
10
Начальник бюро института «Стальпроект» был раздражен: оторвали его от очередного важного проекта, и теперь он вынужден сидеть в этом заштатном Белгороде неизвестно зачем. Ехать не хотелось, но поступила команда сверху: завод не справляется с проектом стадиона, наделал браку, нужно помочь заводчанам разобраться, что к чему. Проект был очень сложный, пришлось подключать программистов и расчетчиков из других бюро, но ведь сделали! Экспертизу прошли практически без замечаний. Так, к мелочам эксперты придрались. И вот теперь, как Николай Петрович и подозревал, заводчане будут клянчить о смягчении технических требований. Ничего у них не выйдет. Проект очень ответственный, никаких послаблений быть не может.
Они сидели за столом в комнате переговоров трое на трое. Двоих от завода Николай Петрович знал – это был Петелин и главный конструктор Кореньков. Третьего, сумрачного и седого, ему представили как привлеченного специалиста.
– Ну, так о чем мы с вами будем говорить? – начал Николай Петрович. – Проект завод принял, вот уже третий месяц пошел, принял без замечаний. Возникают вопросы – на это есть электронная почта, телефон в конце концов. Немного мы задержались с электронной версией, но на следующей неделе пришлем.
Есть замечания к узлам?
– Замечаний к узлам у нас нет, – начал седой. – Но есть кое-какие неувязки. В общей части проекта Вы ссылаетесь на то, что проект выполнен в соответствии со строительными нормами на изготовление – СП 53-101. Правильно?
– Конечно правильно, – заторопился москвич.
– Так вот, давайте рассмотрим любую цепочку из конструкций в Вашем проекте. Вот эту, например. Она состоит из трех элементов, собираемых на болтах, встык, без зазоров. Правильно?
– Правильно, – Николай Иванович уже почувствовал подвох.
– Да совсем неправильно! Конструкции эти сварные, а сварка дает усадку, не мне Вам рассказывать. По указанным Вами строительным нормам готовая деталь может иметь отклонения до трех миллиметров. Так что собрать Вашу конструкцию из реальных деталей невозможно. Не сойдется. Вы согласны со мной?
– А что же делать? – растерялся москвич. – В американском проекте всё собирается на болтах, и мы не можем отступить от проекта.
– Есть выход из ситуации. Необходимо предусмотреть компенсационные прокладки. Мы делаем конструкции заведомо на три миллиметра короче, а получившиеся зазоры заполняем прокладками по месту. Это решение для раскосов, второстепенных конструкций. А что делать с главными узлами сопряжений труб? – задумчиво спросил седой. – Нужно искать варианты. Далее. Вы в технических требованиях заложили везде швы с полным проваром. Но вот случай, когда раскос подходит к основной трубе под острым углом. Носок мы, конечно, проварим, а пятку? Совершенно очевидно, что полного провара здесь быть не может, швы эти нерасчетные, и, значит, нужен пересчет всех швов. Что касается главных узлов сопряжений, то у меня нет конкретных предложений. Давайте вместе поломаем голову в поиске решений. Что скажете, Николай Петрович?
– Нам нужно посовещаться. Десять-пятнадцать минут.
– Ну что же, Константин Иванович, – выдохнул Сергей, когда москвичи удалились в коридор. – Кажется, мы сделали первый шаг.
– Подождите, Сергей Валерьевич, они еще не сказали последнего слова. А если проектанты откажутся переделывать проект?
– У них нет другого выхода. Если откажутся, мы опротестуем про ект в Госстрое. Невыполнение строительных норм – это серьезное нарушение, и, я думаю, скандал им не нужен.
– Кстати, Сергей Валерьевич, на будущей неделе приезжают специалисты из института Патона.
– Из Киева? Сами приезжают? И как Вам это удалось?
Петелин самодовольно усмехнулся.
– Вы же ставите передо мной задачи. Куда мне деваться?
Вернувшиеся после совещания москвичи были хмуры.
– Вы не оставили нам выбора, – сказал Николай Петрович. – Сам я решение принять не могу, доложу своему руководству. Будем связываться с вами по электронной почте.
***
Два инженера, приехавшие из Киева, – Грищук и Лесько – просто светились радостью.
– Вы действительно подпишете с нами договор на эту работу? – наперебой спрашивали они Сергея. – Вы знаете, наш славный институт переживает трудные времена. В советское время мы были востребованы, загружены работой по горло, а теперь мы оказались отрезаны от России и стали никому не нужны. Старейшие, опытнейшие специалисты уходят, кто-то уехал в Европу, кто-то – в Россию. Зарплаты у нас нищенские, держится пока только наш отдел, и лишь потому, что мы получили большую работу в России – глубоководные основания для бурения нефтяных скважин в северных морях. Но она, эта работа, уже заканчивается.
Кто из металлистов не знал звучавшего, как заклинание, названия Институт Патона? В этом институте, основанном в далекие тридцатые годы инженером Евгением Оскаровичем Патоном, создавалась вся советская сварочная наука. И не только наука. Основатель института был Инженером, и принцип, заложенный им в основание, был: никакие научные изыскания, никакие знания, полученные в лаборатории, не имеют цены, пока они не проверены заводской и строительной практикой, пока они не стали основой для производства и строительства.
***
У каждого из нас бывает звездный час. Невесть откуда прилетевшая фраза с пошлой рифмой надоедливо жужжала в голове у Сергея. Это был, действительно, его звездный час. Оказаться в нужное время в нужном месте. Вся предыдущая работа, заводы и стройки, когда приходилось рисковать, принимать опасные, но необходимые решения, привела Сергея к самому главному экзамену в жизни, когда из всего предыдущего опыта понадобится лишь одно: понимание, что весь предыдущий твой опыт, предыдущие твои умения никуда не годятся и нужно искать новые пути. А звездный час – это когда точно по мановению волшебной палочки открываются эти новые пути и находятся необходимо нужные люди. Нет, Сергей не переоценивал себя. Он просто приходил к Петелину и говорил, что нужно сделать. Волшебная палочка была у него, у Петелина. Ничем другим нельзя объяснить появление на заводе инженеров из института Патона.
Эти ребята из Киева знали, как сделать невозможное, и умели это делать. А для этого требовалось полностью перевернуть технологию, за многие годы устоявшуюся на заводе:
– в разы ужесточить точность резки труб, отклонение – не более одного миллиметра. На заводе в углу цеха пылился станок для фасонной резки труб, современный, автоматический, с программным управлением, только на нем уже давно за ненадобностью не работали – не было нужды, да и программ для такой фасонной резки не было. Но нашелся умелец. Вместе с заводским программистом они за две недели научились. Правда, извели на пробах несколько тонн труб. Трубы для стадиона уже начали поступать на склад завода, и Сергей восхищался этими трубами. Многотонные, идеально точные, диаметром 1400 миллиметров и толщиной до сорока миллиметров, из высокопрочной стали.
Трубы впервые в России были освоены и прокатаны специально для стадиона в Казани;
– при сборке узлов обеспечить зазоры под сварку от трех до пяти миллиметров. Феноменальная точность, с которой еще никогда не работали рабочие-сборщики;
– после сборки корни швов надлежало заплавить ручной сваркой электродами… которые производились не где-нибудь, а в Японии. И только в Японии. Никто в мире, кроме хитроумных японцев, не умел делать такие электроды. И, конечно, они стоили бешеных денег;
– после ручной сварки швы варились полуавтоматами, но режимы сварки, порядок наложения промежуточных швов, – это была целая наука, и этой науке нужно было заново учить рабочих завода.
Патоновцы подтвердили, что, действительно, не все швы можно выполнить с полным проваром, вместе с Сергеем они дотошно определили эти швы. И это нужно было теперь внести в специальные технические условия.
У Сергея появился единомышленник. Главный сварщик завода Кузьмин был предан своему делу – электросварке – как главному делу в жизни. И как искусству. Потому что электросварка – это действительно искусство.
Небольшого роста, коренастый и быстрый в движениях, Кузьмин не сидел в своем кабинете, предоставляя вести всю бумажную отчетность единственному своему работнику Татьяне. Кузьмин знал каждого сварщика как своего хорошего друга – его семейные проблемы, его возможности. Он сразу отобрал десяток сварщиков, которым можно доверить сварку труб для стадиона в Казани.
А что касается Сергея, то у него была палочка-выручалочка: он шел к Петелину и говорил: нужно!
– Нужно около тридцати тонн труб для экспериментов – научиться резать трубы, научить сварщиков варить швы.
– Нужно найти и купить полторы тонны дорогущих электродов из Японии.
– Нужно оплатить средний заработок десятку лучших электросварщиков на время обучения новым методам.
Петелин кряхтел, но соглашался. К заказчику направлялись письма с просьбой оплатить дополнительные расходы.
Мой читатель! Если у Вас хватило терпения пробиться сквозь дебри технических терминов, простите меня за эти подробности. Повесть, которую я пишу, – это технический детектив. Или, может быть, триллер. Поверьте, в тех случаях, когда совершаются прорывы в технике, разыгрываются настоящие человеческие драмы. Вначале – полная темнота и неопределенность, мой герой ниточка за ниточкой распутывает клубок проблем. И, как в классическом детективе, он, надеюсь, одержит победу, в смысле, разгадает все технические загадки. Но через какие еще сомнения ему предстоит пройти, сколько решений принять, сколько сражений выдержать!
***
Поездка в Москву для Сергея прошла на редкость успешно. В ЦНИИСК (Научно-исследовательский институт стальных конструкций) они с Кузьминым привезли готовый текст технических условий, таких, что позволяли работать заводу и что были согласованы патоновцами. В этом институте, имеющем восьмидесятилетнюю историю, еще сохранились старики, работавшие в советское время и понимавшие, что наука, выращенная в тихих и скучных лабораториях институтов, анемична и хила, как росток, лишенный свежего ветра и солнца, и только на заводах и монтажных площадках она может стать деревом – крепким и плодоносящим.
Белопольскому было за семьдесят. Доктор технических наук, профессор, он был автором многочисленных монографий, и отправить его на пенсию никак не удавалось более молодому руководству института. Профессор аккуратно ездил на работу, терпеливо сидел на всех научных конференциях и президиумах, но откровенно скучал по старым временам, когда блистали Шухов, Стрелецкий и Мельников, когда жизнь кипела, и он, тогда еще молодой кандидат наук, мотался по заводам и стройкам и принимал решения – смелые и рискованные, но совершенно необходимые. А что теперь? Бесконечные пустые научные симпозиумы. Бледнолицые аспиранты, стремящиеся стать кандидатами, но не нюхавшие пороха настоящих строек…
А тут появились настоящие заводские инженеры, с реальными, а не вымученными проблемами. Сверкая своими безупречными вставными челюстями, Белопольский, казалось, хотел обнять Сергея и Кузьмина.
– Слышал, слышал об этом сумасшедшем проекте. Это только засранцы-американцы могли такое выдумать. И вы взялись за изготовление? Молодцы! Хотя я, наверное, не взялся бы. Можно свернуть себе шею. С институтом Патона работаете? Вот, – он вытянул в сторону Сергея указующий перст, – только они сегодня остались, те, кто знает, что такое сварка и с чем ее едят. А Вы, молодой человек, где раньше работали? – спросил он Сергея. – В Минмонтажспецстрое? И к башне «Федерация» руку приложили? Отлично!
Сергей хотел было заметить, что по возрасту он ровесник профессору, но промолчал. На фоне научных регалий Белопольского он, конечно, был птенцом желторотым.
– Так показывайте, что вы мне привезли, – профессор углубился в чтение. – Очень, очень даже неплохо разработано. Я, конечно, поручу моим ученым коллегам проработать… – он поднял взгляд на Сергея. – Не волнуйтесь, они не смогут сильно испортить Вашу работу.
Белопольский вызвал начальника бюро.
– Семен Геннадьевич, не позже завтрашнего утра принесите мне на подпись договор на изыскания и разработку технических условий. За основу возьмите вот это. – Он протянул ему папку с текстом Сергея. – Недели Вам хватит на разработку? Ну и ладненько.
Через десять дней завод получил по электронной почте утвержденные технические условия, почти без изменений повторявшие проект завода. За немалые деньги, конечно. Высоконаучный институт не мог размениваться на мелочи.
Фирма «Юстас» располагалась на Рублевском шоссе. Эта фирма недавно была создана группой энтузиастов-геодезистов и охотно бралась за новую сложную, интересную работу. Сергея принимал в своем кабинете главный инженер «Юстаса».
– Уже наслышан о Ваших проблемах. Над этим проектом мы уже работаем. Ведем на строительной площадке в Казани геодезические работы. Вы знаете, наш профиль – строительные работы, там мы ловим отклонения пять-десять миллиметров. А что касается работы в цехах завода, то это для нас внове. И с какой точностью нужны вам измерения? Один-два миллиметра? Нужно подумать. Давайте подсчитаем, – он достал электронный калькулятор. – Мы работаем с немецкими тахеометрами, они не столь точны, как японские Nikon, но нас они устраивают, точность измерения – четыре угловые секунды. Каковы габариты Ваших конструкций? В пределах пятнадцати метров? Ну что же, мы укладываемся в один миллиметр. Плюс неточности установки прибора – в общем, мы готовы вести эту работу с заявленной Вами точностью. Но поймите меня правильно, мы же только измерители. Схему измерений для нас разрабатывают проектировщики, и мы следуем ей. Так что Вам на каждую Вашу конструкцию придется разрабатывать схему контроля. Вы это понимаете?
– Да, конечно, понимаю, Виктор Никодимович, поверьте, я всё организую. Но нам нужны постоянно четыре геодезиста. Завод работает в три смены, и в каждой смене нужен геодезист.
– Ну что же, найду я Вам четырех самых лучших. Плюс инженера на две недели, чтобы вместе с Вами отработать всё до мелочей. Договор я вышлю в течение недели. Годится? Только учтите и предупредите Ваше руководство – мы достаточно дорогие специалисты.
11
Сергей вернулся из Москвы в пятницу, и у них со Светланой выдались два светлых летних дня.
– И никаких заводов! – строго заявила Света.
В субботу они отправились за город – загорать и купаться. Правда, без завода не обошлось. Маршрутка шла до проходной завода, а оттуда, от остановки, – наискосок, пешком, по тропинке. Этот августовский, позднего лета, день обещал быть тихим, солнечным, и на Сергея вдруг снизошло ощущение грустной невесомости. В Москве он ожидал встретить жестокое сопротивление и почти не надеялся на удачу. Сергей хорошо знал коридоры и кабинеты чиновников от науки. Барски снисходительное отношение к этим провинциалам. «У Вас, простите, какое научное звание? Ах, инженер. Ну что же, похвально, похвально. И чего же Вы от нас хотите? Принять Ваши пожелания? Ах, простите, требования… ну что же, что же, у нас институт научно-исследовательский, мы откликаемся на запросы заводов. Оставьте Ваше письмо, мы, конечно, проработаем Ваши… хмм… предложения, вышлем Вам договор на проведение изысканий, в скором времени. Нет, наведываться к нам нет необходимости, мы Вам ответим, обязательно ответим». И дело застревает надолго и безнадежно в коридорах науки. Тогда нужно подключать высокое строительное начальство, и начинается длительная борьба, когда приходится зубами выгрызать каждый пункт, каждый параграф, торчать в институте неделями. А у Сергея не было для этого ни времени, ни возможностей. Он уже рассчитывал рискнуть и начать изготовление, не дожидаясь институтских техусловий, по тем требованиям, что они разработали с Кузьминым. Никуда эти московские ученые не денутся, примут задним числом. И вдруг такая удача – встретиться с Белопольским, может быть, последним динозавром из вымирающей советской научной школы. И в «Юстасе» найти такое понимание… Сергей чувствовал себя этаким скалолазом – ползешь, напрягая силы, всё вверх, вверх, обдирая локти, на тебя сверху сыплются камни, больно бьют по голове, нет конца этой круче… и вдруг, неожиданно, подъем оканчивается, и ты на перевале, впереди, внизу – голубая дымка, освещенная солнцем. Там склон обрывается в невесомость, тебе больше не нужно собирать в кулак оставшиеся силы. Ты достиг! Не нужно больше напрягаться, но по инерции еще напряжены мышцы, нужно расслабиться, и наступает состояние душевной невесомости. Но это временная передышка, с началом новой недели на Сергея навалятся новые проблемы, и несть им числа. Но это начнется послезавтра, а пока – блаженная пора полной пустоты в голове.
Тропинка вилась, огибая заборчик зоны отдыха, откуда доносился приглушенный шум людского скопления, слева к тропинке подступали кусты ивы и какая-то необычайно высокая трава, но всё это зеленое великолепие вдруг расступилось, и перед Сергеем и Светой распахнулся простор реки. Северский Донец разливался здесь широкими затонами, и в них отражалось небо, где с упоительной неторопливостью плыли сливочно-белые комья облаков. Звенящая тишина, пронизанная светом и медленным кружением.
Сергею хотелось лежать молча, ни о чем не думая, и только смотреть на стадо овечек-облаков, с деловитостью шествующих навстречу такому же стаду, отраженному в речной глади. Молчала и Света. У нее был редкий среди женщин дар – не сыпать бесконечной шелухой слов, уметь слушать тишину. Не рассказывает муж подробно о своих мужских делах – значит, не пришло время, не уложились эти дела в четкую систему. Придет время и настроение.
Но сколько можно лежать без движения? Солнце начало припекать. Сергей вскочил, с разгону прыгнул в воду, обжегшую прохладой его истомленное тело, нырнул глубоко, затаив дыхание, выскочил на поверхность, широкими гребками брассом устремился вдаль, к тому берегу, пока усталость не начала сковывать мышцы, затем перевернулся на спину и долго-долго лежал, чуть шевеля ногами, чувствуя, как возвращаются к нему силы, и с ними – желание жить, бороться, творить.
Они не захотели идти обедать в кафе в зоне отдыха, перекусили захваченными из дома бутербродами и долго бродили по берегу, ощущая подошвами влажный песок, шлепая по мелким волнам, набегавшим на песок. Они были одни в этом мире, сотканном из воды, песка, света и тишины, куда-то далеко отодвинулись заботы, дела, дети, внуки…
А на воскресенье Света зазвала гостей, конечно, Диму и Галю Николаевых. На прошлой неделе, когда Сергей пропадал в Москве, Светлана по наущению Гали купила в крутом гипермаркете чудо-печь First. Собственно, это была летающая тарелка, выловленная из космоса и прирученная для домашнего пользования. Круглая, стеклянная, с красной мордой инопланетянина на крышке. Так вот, если ее решетку заполнить кусочками лосося, включить вилкой в сеть, пощелкать глазами-переключателями чудовища, а затем нажать на потайную кнопку, тарелка загорается ярким неземным светом. Спустя установленное время космический свет гаснет, поднимается крышка, и в ноздри нетерпеливых наблюдателей ударяет божественный, неземной запах запеченного лосося. Какая женщина устоит перед таким представлением! Открыта бутылка белого испанского вина, открыты окна, выходящие на берег Вязелки… После второго бокала Сергей воодушевился и читал стихи собственного сочинения, пришедшие к нему по случаю женитьбы старшего внука, о чем дочь сообщила по телефону. Был он немножко поэтом, и друзья прощали ему эту слабость.
Ты помнишь, цвели каштаны и расцветала сирень,
Солнце било нам в окна в этот весенний день.
– Здравствуй, бабушка Света, – я крикнул тебе с порога.
– Что за глупые шутки, – меня спросила ты строго.
– И чего ради ты расшутился вдруг?
Я ответил: –Какие там шутки, у нас сегодня родился внук!
Много бурь с тех пор прошумело над моей и твоей головой,
У меня голова поседела, да и ты стала иной.
Вот уж женятся наши внуки, но по-прежнему я хочу,
Чтобы ты всегда прижималась головой к моему плечу.
Кто-то скажет: какие уж нежности
На восьмом-то десятке лет?
Мол, пора уж подумать о вечности,
Ты давно уже старый дед!
Не хочу я считаться с возрастом, не хочу я считать года.
Мне всё кажется, я еще молод, да и ты еще молода.
Я с работы поздно вернулся после долгого трудного дня.
Рядом сядь, бабушка Света, обними, приголубь меня.
Я с любыми невзгодами справляюсь,я с любою справлюсь бедой,
Если ты будешь рядом, если ты будешь со мной.
Ночь стоит за окошком, Город смежил глаза.
Ты подожди немножко, Я ведь не всё сказал.
Будет у нас еще много
Нового впереди,
Будут пути-дороги,
Нужно их нам пройти.
Плюнь ты на эти годы,
Только меня держись,
И нестрашны невзгоды,
И продолжается жизнь!
***
В это воскресенье в Белгороде отмечался День Города. Шестьдесят пять лет тому назад прозвучал первый салют в честь окончания Курской битвы и освобождения города Белгорода, этот день и был назначен Днем Города – разрушенного и возрождающегося к новой жизни. Сергею не хотелось переться на это надуманное, официальное мероприятие. Он, слава богу, бывал на таких днях и в Москве, и в Минске. Сначала официоз, с трибунами и речами, потом – толпы людей на улицах, жаждущих развлечений, толкотня и шум, показушно народные пляски артистов в ярких костюмах, молчаливые наряды милиции на страже порядка. Ближе к ночи всё это неуклонно охватывалось пьянкой, как пламя костра охватывает подбрасываемые сучья, бутылки под ногами, а утром – растерзанный, замусоренный город, и болит голова после вчерашнего, и нужно убирать горы мусора, и нужно идти на работу…
Но Дима и Галя настояли, вечерело, и они шли вчетвером к центру города, вместе с десятками других, тоже направлявшихся на центральную площадь. Уже на подходе они услышали звуки оркестра и голос – забытый, но до боли знакомый. Ярослав Евдокимов! – вдруг вспомнил Сергей, в недавнем прошлом кумир Белоруссии, затем куда-то пропавший. Судачили, что Ярослав уехал в Москву, там у него не получилось, мол, своих хватает. И вот, бархатный баритон Евдокимова плывет над вечерним Белгородом:
Помнит Вена, помнят Альпы и Дуна-а-ай
Тот цветущий и поющий яркий май.
Вихри венцев в русском танце сквозь года-а-а.
Помнит сердце, не забудет никогда.
Это был блистательный, хватающий за душу «Майский вальс». А потом звучали старые знакомые евдокимовские «Фантазер», «Колодец». Простые, сердечные слова и мелодии. Огромная централь- ная площадь заполнена людьми, а напротив, на возвышении, в ярком свете, – оркестр и сам Ярослав Евдокимов, стройный красавец в белом костюме, вживую, без фанеры, с микрофоном в руке. Из толпы на площади кричали: «Куст калины», «Не остуди свое сердце…» – и Евдокимов пел то, о чем его просили белгородцы. Сергей почти физически ощущал настроение Праздника, охватившего толпу. Люди подпевали, танцевали, ликовали, хлопали в ладоши…
А утром следующего дня Сергей не поленился, дал крюка, идя на автобус, заглянул на центральную площадь и поразился: огромная площадь была чиста! Ни пустых бутылок, ни оберток конфет, только многочисленные мусорные урны заполнены, а то, что не поместилось в урны, было сложено кучками рядом, и быстро убиралось утренним десантом.