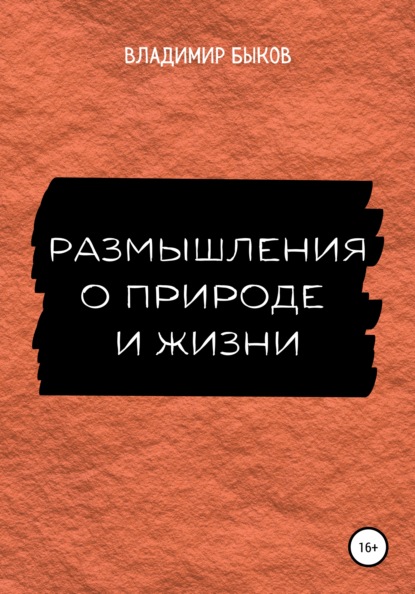Полная версия
Полная версия- Рейтинг Литрес:5
Полная версия:
Владимир Быков Два полюса
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Владимир Быков
Два полюса
ПРЕДИСЛОВИЕ
Не в том интерес, что мои, обычного человека,
представления о мире и жизни не менее богаты,
чем таковые выдающихся умов, а в том, что они
часто вернее великого множества суждений
самых известных из них.
Может, покажется несколько странным, но одно из наиболее сильных детских впечатлений в возрасте, когда человек начинает пытаться думать и что-то соображать, связано у меня с самостоятельным прочтением первых книжек. Не содержанием, а показавшейся мне почти магической их безошибочностью. В жизни, я часто видел и слышал, люди делали не то, что надо, говорили не так, как думали: слова и мысли их представлялись мне сомнительными либо явно неправильными. В любой же попавшей в руки книжке все было абсолютно верным, стройным – ни одной пропущенной даже самой малой буковки или запятой. С таким божественным восприятием книги я прожил лет до 11—12, пока в задачнике по арифметике не обнаружил одну ошибку. Настолько тогда поразился, что раз десять разными способами решал злополучный пример и сверял мною полученное с помещенным, по тогдашним правилам, в конце задачника ответом, дабы утвердиться в столь не представляемом для меня издательском упущении.
За первым случаем последовали следующие. Дальше, по мере того как мы взрослели и тогдашняя жизнь обязывала нас, кроме нужного и полезного, обращать свой взор на массу политической и другой макулатуры, все поехало по закону геометрической прогрессии. Интерес мой с опечаток и типографских ошибок перешел на содержание, на суть авторской концепции, особо тогда, когда они касались тех вещей, что интересовали меня или, по крайней мере, к которым я был не совсем безразличен.
Так вполне естественно у меня выработалось критическое отношение к написанному слову, причем в плане не только отрицания, но и подтверждения собственных размышлений, что, как известно, доставляет нам особое удовольствие.
Приведенное ниже есть результат обработки сделанных мною в разное время заметок на полях прочитанных книг. Мне лично их кажущаяся ценность представляется в том, что они вне каких-либо политических и прочих веяний, вне моды, вне подчиненности чему-то заранее придуманному. В них, без всякой предвзятости, авторские мысли, навеянные моим, часто интуитивным, пониманием природы и человека.
Интуиция же, видимо, есть не только постижение истины без логического обоснования, основанное на опыте, чутье или нашей проницательности. Скорее нечто большее, это дух природы, оплодотворяющий мысль через информацию, накопленную и неким образом обработанную и приспособленную живой жизнью для указанного на нас воздействия. Мы буквально наполнены не только собственными знаниями и опытом, а, в неизмеримо большей степени, таковыми предшествующего нам живого мира. Как они попадают в сознание и как извлекаются, меня не интересует: достаточно факта тесноты идей и бесконечной их повторяемости. Лишь истинным открытиям суждено быть «первыми», с тем чтобы также, в конце концов, подвергнуться неизбежному повторению.
Я называю этот процесс интуитивным финализмом, вытекающим из предопределенных, естественно, не неким божеством, а природой, целей и законов жизни.
Доказательство тому, здесь приведенное, получено во многом на основе чисто личных впечатлений и мыслей, которые затем, иногда через многие годы, подтверждались либо жизнью, либо иным образом. Безусловно, среди соответствующего моим взглядам встречались и продолжают встречаться соображения противоположного звучания. Однако меня последние, не без исключения, мало смущали и не расстраивали, поскольку в подавляющем числе они исходили от людей, мною не очень уважаемых: лживых по природе политиков, разного рода «кабинетных» философов и публицистов, вдруг в переходный период взявших на вооружение прямо противоположное тому, что они звучно декламировали чуть не вчера при советской власти и что никак нельзя объяснить объективным и даже возрастным изменением их позиций.
Тем не менее и этот вывод я всегда подвергал определенному сомнению, до тех пор пока не получал подтверждения ему аналогичной точкой зрения, исходящей от заслуживающей доверия личности. И совсем исключал таковй, когда устанавливал, что подобного моему придерживаются явно мне импонирующие давно знакомые люди, особо те, кто всю жизнь занимался истинно полезным делом, а не заказным трубадурством.
ПОЛИТИКИ, РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, ИХ ОКРУЖЕНИЕ
Маркс
О Карле Марксе у меня сложилось, должен признаться, достаточно поверхностное, но абсолютно негативное мнение еще в студенческие годы. Поверхностное потому, что трудов его тогда мы как следует не читали, чужой весомо-объективной оценки их не знали и руководствовались больше интуитивными соображениями и отдельными косвенными признаками. Например, своими впечатлениями от тех, кто «вколачивал» в нас его идеи, но не оставил при этом в сердцах и душах ни благодарности, ни восхищения, так естественно свойственных молодому возрасту и постоянно, помню, возникавших в сфере других наук и других встреч. Более того, все «те» были в наших глазах достаточно серыми и даже жалкими личностями, вынужденными, как нам казалось, некими обстоятельствами заниматься ненавистным делом и постоянно пребывать в состоянии начетчиков, не способных достойно и аргументировано ответить ни на один из «каверзных» задаваемых нами вопросов. Конечно же, подобное отношение не могло не переноситься на ими читаемое.
Позднее, во времена наступившей гласности, когда на общество низверглась масса ранее ханжески запрещенной литературы, моя интуитивная оценка Маркса оказалась даже несколько приглаженной в сравнении с давно о нем написанном. Тем не менее, как бы в таком случае она ни совпадала с мнением других, сколь бы последних ни было много и как бы ни были они для меня авторитетны и уважаемы, – оставались определенные сомнения в правильности подобных суждений. Снять их можно было только при более глубоком ознакомлении с предметом и соответствующем его анализе. Я сделал это, и сделал не только в силу данного обстоятельства, но и, в какой-то мере, под воздействием недавно прочитанной безупречной критики Маркса графом Витте (о которой далее упомяну). Настолько безупречной, что по тем же соображениям она вызвала у меня желание немедленно подтвердить или отвергнуть окончательно как виттевский, так и свой собственный взгляд на Маркса. Я проштудировал его главный труд – «Капитал» и, уже без сомнений, вот к чему пришел.
Первое, что сразу бросается в глаза, начиная с предисловий к «Капиталу», – это безмерная, лишенная самой элементарной скромности, авторская амбициозность; притязания на «открытие экономического закона движения современного общества» и «большую научную строгость» сочинения; «последовательное проведение чисто теоретической точки зрения»; свою особую «поставленную на ноги» диалектику, которая в ее «рациональном виде внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна».
С чего же начинает весьма эрудированный, но не знающий настоящей жизни и оттого по-школьному мыслящий, диалектик свое учение?
Начинает он его со статичного отображения процессов производства и обмена товаров. Присваивает товару несколько придуманных им искусственных видов стоимости (потребительную, просто стоимость, как «созидающую субстанцию», прибавочную стоимость и разные еще их формы). Присоединяет в дополнение к ним абстрактный общественно полезный труд и прибавочный труд, по пути наделяя товар для большей таинственности качествами живого существа, полного «причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений», и производит с названными категориями элементарные арифметические упражнения.
Но поскольку производство и товарное обращение исключительно динамичны, многофакторны и, кроме того, в огромной степени зависимы от людей со всеми их, настоящими, причудами (талантливостью, технической и организационной способностями, изобретательностью, хитростью и даже стройными ножками продавщицы), а сам абстрактный общественно полезный труд есть вещь в себе и вообще не поддается хотя бы какому-либо численному выражению, то автор вынужден заняться софистической игрой в цифры для получения желаемой прибавочной стоимости и доказательности тем самым ненавистной ему эксплуатации труда капиталом. Вот один из примеров, как это он делает, в моем кратчайшем изложении, но с полным сохранением авторской логики и связующих слов, определяющих смысл написанного.
1. Капиталист купил на рынке 10 фунтов хлопка, например, за 10 ш.
2. Предположим далее, что при переработке хлопка будет израсходовано веретен на 2 ш.
3. Отсюда стоимость средств производства, хлопка и веретен, равна 12 ш.
4. Если в течение часа перерабатывается 12/3 ф. хлопка в 12/3 ф. пряжи, то 10 ф. пряжи указывают на 6 впитанных рабочих часов. (Тут Маркс специально, для пущего затуманивания сути ввел дроби, однако надо ему отдать должное: в операциях умножения и сложения ошибок не допустил.)
5. При продаже рабочей силы предполагалось, что ее дневная стоимость равна 3 ш. и что в последних воплощено 6 рабочих часов.
6. Тем самым в общей стоимости продукта, этих 10 ф. пряжи овеществлено 21/2 рабочих дня: 2 дня содержится в хлопке и веретенах, 1/2 рабочего дня впитано во время процесса прядения.
7. В результате получилось, что стоимость продукта равна стоимости авансированного капитала и не произведено никакой прибавочной стоимости.
8. Но если 10 ф. хлопка впитали 6 рабочих часов и превратились в 10 ф. пряжи, то 20 ф. хлопка впитают 12 рабочих часов и превратятся в 20 ф. пряжи.
9. Поскольку 6 дополнительных часов рабочий трудился (по Марксу) без оплаты, то получается, что 27 ш. авансированного капитала превратились в 30 ш. Они принесли прибавочную стоимость в 3 ш.
«Наконец фокус удался. Деньги превратились в капитал!» – восклицает автор. Удивительная неосознанная способность человека иногда передать против своего желания то, что есть на самом деле, или, думая одно, отразить совсем другое. Маркс этим восклицанием хотел вложить «фокус» в уста капиталиста, а фактически дал однозначную и сверхкраткую оценку своим арифметическим упражнениям, в частности, да и всему, пожалуй, труду в целом. Но вернемся к тексту.
Не будем критиковать автора за корявость и трудную читаемость приведенных тут девяти фраз, хотя их можно было изложить в три раза толковее и в два раза короче. Главная наша критика заключается в другом. В «Капитале» подобных вычислений десятки, если не сотни, и все они построены на абсолютно произвольном, для получения нужного результата, численном назначении исходных величин. А дабы затемнить такой произвол, они (вычисления) переплетены с не имеющими никакой смысловой ценности бесконечными малосодержательными пояснениями, разъяснениями и разного сорта тавтологиями, когда какой-нибудь факт сперва излагается с одного бока, затем с другого и вдобавок еще в обе стороны с его средины.
Приведенным выше вычислительным упражнениям, например, предшествуют разные пояснения на 150-ти страницах, которые вполне можно было бы изложить на каких-нибудь 5-ти листах, да и сами эти фразы разделены между собой подобным же количеством совсем пустой породы. Так, после первых двух, на целой странице нам назидательно излагается, что «если количество золота в 12 ш. составляет продукт 24 рабочих часов, или двух рабочих дней, то из этого прежде всего следует, что в пряже овеществлены 2 рабочих дня», что «рабочее время, необходимое для изготовления хлопка, заключено в пряже», что «точно так же «обстоит дело с рабочим временем, необходимым для производства того количества веретен, без снашивания или потребления которого хлопок не может быть превращен в пряжу», что «если бы капиталисту пришла фантазия применять золотые веретена вместо железных, то в стоимость пряжи входил бы, тем не менее, лишь общественно необходимый труд, т.е. рабочее время, необходимое для производства железных веретен»… Такого же характера весьма пространные писания приведены и между остальными фразами.
А вот промежуток перед двумя последними автор заполняет чуть ли не целым романом. Тут и «смущенность капиталиста» тем, что «стоимость продукта равна стоимости авансированного капитала» и что последняя не увеличилась и не произвела прибавочной стоимости. Что «цена 10 ф. пряжи равна 15 ш., и 15-ть же шиллингов были израсходованы на товарном рынке на элементы созидания продукта… на факторы процесса труда» и т. д. Пока, наконец, не оказывается, что капиталист «просто дурачил нас всеми жалобами», и давно, еще покупая рабочую силу, знал, что «для поддержания жизни рабочего в течение 24 часов достаточно половины рабочего дня» и опять и т. д. и т. п. в том же духе. Теперь представьте себе, как среди этого леса пустословия добраться до основы и убедиться, что она также пуста.
Но Маркс настроен на величие своего труда и потому излагает материал в религиозно-мистической манере, придавая товару, его движению и придуманным категориям товарного обращения почти божественные функции. В дополнение к отмеченному, товар у него не нормальный продукт человеческой деятельности, а «гражданин мира», обладает «загадочным мистическим характером», умеет сам «бегать, выступать, достигать, выпадать и превращаться», а все процессы, совершаемые с товаром, исполнены каких-то «противоречий, двойственности, фетишизма и тайны». Тем не менее, несмотря на столь мощное религиозное прикрытие, Маркс, под давлением, видимо, критики или вновь им чего-то прочитанного, чего-то дополнительно придуманного, в некий момент своего сочинительства ощущает очевидную некорректность написанного. Ему, как любому автору, не хочется перерабатывать сделанное, и придумывается оригинальный выход из создавшегося положения.
Он делает невинное примечание, вроде: «Для того чтобы понять производство прибавочной стоимости, и притом только на основе уже достигнутых результатов нашего анализа, необходимо отметить следующее». Или: «В следующей главе мы увидим, что этот закон имеет значение лишь для той формы прибавочной стоимости, которую мы рассматривали до сих пор». Или: «На базисе товарного обмена предполагалось, что капиталист и рабочий противостоят друг другу как свободные личности, как независимые товаровладельцы». Ну и что? А то, что теперь то же самое, после каждого очередного примечания, начинает выписываться в других главах с учетом новых факторов.
На прежнем уровне…, но с учетом влияния на процесс: кооперации, машин и крупной промышленности, рационализации, изобретательства, повышения производительности, интенсивности труда. Теперь для получения 10 ф. пряжи требуется не 10 ф. хлопка, а больше: появились отходы. За счет повышения производительности машин стало сокращаться время труда, а прибавочная стоимость расти, но пока еще вне влияния величины постоянного капитала и без разделения последнего на его абсолютно необходимые при данном анализе отдельные и совершенно по-разному проявляющиеся составные части, расходуемые на постоянные длительного пользования средства производства и быстро обращаемые материалы. Далее по тем же правилам вводятся понятия о кредите, основном и оборотном капитале, времени и его влиянии на оборот капитала… Но снова все в том же качественном виде и опять с тенденциозно-болезненным вытаскиванием на главный план «прибавочного» труда и его стоимости. Все становится ясным.
Маркс и подавляющее число известных ему экономистов были достаточно кабинетными учеными, мало понимавшими истинные реалии жизни. Писали они, судя по многочисленным цитатам, составляющим по объему чуть не добрую половину «Капитала», больше для своего круга. Писали почти все трафаретно с величайшей самовлюбленностью и прожектерскими притязаниями на открытия, отсюда одинаково некорректно, с большим количеством упущений и потому, как бы специально, предоставляли друг другу материал для взаимной того же качества критики.
Капиталисту эти кабинетные труды были не нужны. Из любопытства он их, может, и полистывал, расширял свой кругозор, но про себя посмеивался и удивлялся – разве только легкости слога и писательской плодовитости авторов.
Действовал же в жизни совсем по-другому, исходя из главных особенностей интересующего его процесса. Последний обязывал капиталиста срочно придумать то, чего еще нет
у потенциальных конкурентов, сделать это придуманное возможно качественнее, быстрее и с минимальными затратами, а для этого купить всё, включая рабочую силу, подешевле и надлежащего вида и заставить, используя свой талант и способности (про которые Маркс совсем забыл), все доставленное продействовать должным образом. Затем, согласно давно известным законам рынка, привлечь доброго продавца (не исключая той особы со стройными ножками) и поручить сбыть товар там, где на него высокий спрос и где можно взять максимальную цену. Учесть при этом кучу других факторов. Наконец, сосчитать правильно, поскольку все делается в реальном пространстве и времени, дебет – кредит, взвесить, соответствует ли полученный доход им ожидаемому, и ринуться, если повезло, в очередную авантюру.
В чем же тогда особенности товарного рынка при капитализме? Да ни в чем. Все его принципы известны с времен, когда человек научился таскать головешку для розжига своего костра. Изменились лишь масштабы. Выгодная сделка (хоть купля, хоть продажа чего бы то ни было) для одной стороны по отношению к другой основывалась всегда на их неравенстве: когда на одной стороне – богатый, сильный и сытый, а на другой – бедный, слабый и голодный. Это неравенство возникло на земле от природы, с момента появления на ней первого живого существа. Человек здесь даже никакое не исключение, так что эксплуатация – от общественного неравенства людей, причем группового, а отнюдь не классового. Марксовый прибавочный труд (который к тому же, поговаривали, придумал первым вовсе не он, а некий Ротбертус) – тут ни при чем. «Теория» прибавочной стоимости есть с позиций настоящей науки самая настоящая фикция.
Миром правит не только капитал и жадность к обогащению, а и, пожалуй, в значительно большей степени то, что Джек Лондон называл человеческой устремленностью к «влиянию и власти». Маркс также действовал полностью по Джеку Лондону. Ему нужна была слава не просто борца, – гения. Он не мог обойтись одной констатацией факта капиталистической эксплуатации рабочего труда. Нужно было так любимое всеми философами «теоретическое» обоснование такого факта.
Он его придумал, и «фокус» получился… Какой?
В «Капитале» Марксом приведено огромное число очень злых, но часто весьма метких отзывов о трудах его коллег и оппонентов. Об исходных причинах и качестве подобной критики, добрая половина которой может быть отнесена к самому Марксу и его «Капиталу», я упоминал. Один из них, адресованный Мальтусу, полностью сему соответствует и прямо отвечает на поставленный выше вопрос. «Большой шум, вызванный этим памфлетом, объясняется исключительно партийными интересами». (Я не привожу здесь предшествующих данному выводу слов Маркса в силу их разбойничьей тональности. См.: К. Маркс. «Капитал». Издательство политической литературы, 1953, с. 622.)
Именно в силу названных интересов: любви к «теориям», внешней монументальности и бунтарского духа, «Капитал» был взят на вооружение революционерами. Прожженный хитрец Ленин, полагаю, отлично знал истинную научную цену «Капиталу», но ему нужен был коммунистический Бог. Он сделал Маркса Богом, а «Капитал» – Библией. (Равно, как Сталин проделал то же с Лениным и его Трудами, а Ельцин, обратно, с Богом и Библией, уже в первозданном их виде).
Но жизнь есть жизнь, ее действительные законы существования не могут быть низвергнуты человеческими желаниями. Я прихожу почти к абсолютному выводу, что истинная эволюция жизни и культуры человека, прежде всего, есть результат материализованного творческого труда ученых, инженеров, техников и прочих людей, занимающихся истинно полезным для общества делом. Мир же всех пишущих, агитирующих, чего-либо проповедующих в лучшем случае лишь косвенно способствует первым, иногда повышая несколько их интеллектуальный потенциал. В худшем – создает возмущения для очередного их устранения той же плеядой деловых людей в рамках естественной природной борьбы всего живого.
Марксу в этом плане принадлежит особо «выдающаяся» роль. Он получил результат прямо противоположный желаемому. В отношении его, как никого другого, сработала гегелевская «ирония истории». Придуманный им для капитализма главный исходный принцип возникновения капитала путем сведения стоимости рабочей силы «к стоимости определенной суммы жизненных средств, необходимых для поддержания жизни ее владельца», оказался в безупречно чистом виде претворен… в социалистическом обществе с его единой фабрикой, единым колхозом. Только в такой системе, вне конкурентной борьбы и при общих правил «игры» для всех, стало возможным точно сосчитать и платить ровно столько, сколько нужно для «поддержания жизни» рабочих рук. Как эта плата определялась – вопрос, который я оставляю для разрешения новым марксам.
Круг замкнулся. Гегель был прав, но… только в части одержимых, подобных Марксу. На людей дела гегелевская «ирония» не распространяется. Они творили и могут достойно и плодотворно продолжать творить в полную силу своего таланта, ума и способностей.
Так что от Маркса – один негатив? Было бы крайней моей односторонностью остановиться на одном выше сказанном. Природа уравновешена. Правда, не ламарковское «идиллически-флюидное самосовершенствование» живого, не противоположный ему дарвинский «беспощадный отбор» и не марксистская социализированная «борьба противоположностей», а придуманная природой борьба, как органический элемент эволюционного процесса, обеспечивает это равновесное в ней состояние для наиболее, видимо, эффективного безэнтропийного ее существования. Этот закон равновесного состояния в мире живого есть интереснейший эквивалент физическому закону сохранения энергии, импульса и электрического заряда, согласно которому в замкнутой системе не исчезает, а переходит лишь в другой вид энергия, сохраняется постоянным полный импульс и сохраняется равным нулю суммарный заряд.
Бескомпромиссная ненависть Маркса к эксплуатации, удобренная «монументальной теорией», не могла не привести к упомянутому огромному отрицательному всплеску, который тут же, в соответствии с названным законом сохранения, был скомпенсирован ему обратным положительным зарядом – здоровой реакцией Капитала на положение рабочего класса. Можно смело утверждать, что не будь нашей революции, в стратегическом плане загнавшей нас в глубочайшую яму, не было бы и того обратного, явно положительного, что произошло в современном капиталистическом обществе. Оно ринулось вперед прежде всего на «советских дрожжах».
Это сегодня наша, в подавляющем своем большинстве продажная, пишущая братия стала усматривать в советской соцсистеме только одни жестокости и прочие ее минусы, забыв абсолютно обо всем том, что в свое время заставило задуматься и предпринять соответствующие шаги весь остальной мир. Невиданное по объемам наше строительство, полностью и для всех бесплатное обучение и врачевание, становление на первое место человека полезного труда, а не купца и чиновника, государственное планирование и т. д. Иногда говорят, что все это, и может даже лучше, было бы свершено и без революции. Приводят при этом некоторые аналогии, например Финляндию. Однако история не приемлет сослагательного наклонения, да и Финляндия не исключение из мира Капитала: она подпитывалась тем же воздействием своего мощного соседа. Вопрос есть. Но только вопрос, а отнюдь не однозначная, не требующая доказательств истина.
Более того, после победы в «здоровом соревновании», похоже, мир, удобно разместившийся под солнцем, начал загнивать снова – в ожидании нового бунтаря. Этот мир, действительно, многое сделал, но сделал только для своих народов, противопоставив им всех остальных. Раньше сильные и богатые учиняли подобное по отношению к бедным в пределах своих государств, теперь они вылезли на уровень противопоставления друг другу в масштабах целых стран и континентов. И задают тут тон и государствам, и народам, прежде всего, сами главные правители – всей традиционной показушной мишурой своего существования, лишенной какого-либо здравого смысла. Не отсюда ли, не от их ли примера жизни, учиняется мерзкое соревнование имущих в присовокуплении к своей особе такой же мишуры, вызывающей отвращение и ненависть у любого мало-мальски уважающего себя здорового человека? Как и чем это кончается – давно известно.