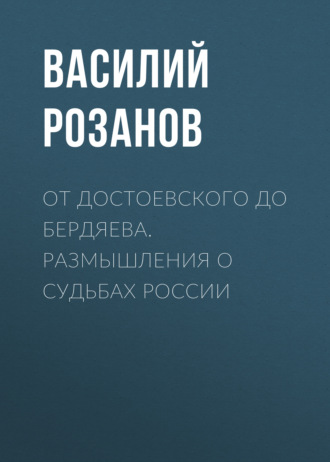
Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
III
С конца прошлого века события истории развиваются так быстро, что в самом деле трудно не растеряться, следя за ними. Европа конца XIX века не имеет ничего общего с тою, в которой готова была разыграться французская революция. К. Леонтьев первый указал истинную и самую общую точку зрения на эту революцию с той бесстрастной высоты, где уже нельзя различить отдельных голосов и партийных интересов, где течение истории представляется лишь как ряд восходящих и нисходящих биологических процессов; он усмотрел впервые тот окончательный результат, к которому со времени этой революции направляются все дела Европы: уравнение классов и слияние этих государств в компактную массу европейского человечества – с ослаблением и потом уничтожением какой-либо организации внутри. Личность и человечество, как некогда атом и вселенная, остаются единственными целями исторического процесса, который уже открылся. С достижением их человечество будет так же дезорганизовано, так же стихийно и первобытно, как и тогда, когда история только еще готовилась зародиться, – с тою разницею, однако, что тогда оно носило в себе задатки для такового зарождения, теперь же будет пусто от них. И в самом деле, как горизонтальное (по сословиям), так и вертикальное (по провинциям) расслоение наций уже повсюду исчезло в Европе, и личность движется в ней свободно, соотносясь только с государством, к которому она принадлежит. Права гражданина, равные для всякого и везде, суть единственные еще остающиеся связи в государстве, где все индивидуальное, особенное, своеобразное, блекнет и исчезает, не терпимое более никем. Эта нетерпимость, это всеобщее отвращение к особенному в правах, в обязанностях, даже просто в характере, есть только показатель неудержимого уклона истории, по которому текут желания всех людей, по-видимому, личного происхождения. Одно государство, повторяющееся в типе всех остальных, и одна личность, воспроизведенная в миллионах подобных, – это есть историческая задача времени, успешно осуществляемая партиями, повсюду наиболее могущественными. У К. Леонтьева опущено одно наблюдение, которым он также мог бы подтвердить свою мысль: границы государств уже не имеют теперь той твердости – они не так резко разделяют политические тела, как прежде. Той абсолютной автономности каждого государства от системы всех остальных, той особенной неприкосновенности границ, в силу которой они некогда были непереступаемы для чужой воли, – всего этого уже нет более. Политические границы, как и административные (между провинциями), – вовсе уже не грани расчлененной народной жизни, а скорее простое ландкартное деление. Их обозначает пунктир на бумаге, но не народное чувство и даже не народные интересы. Громадное множество международных обществ, международные же конвенции, всемирные рабочие союзы, наконец, рельсовые пути и согласованные тарифы – все это похоже на стальную паутину, которая крепнет с каждым днем и все более и более соединяет прежде разнородные нации в одну слитную массу, части которой скоро будут неразличимы. В самом характере главной власти, которою резче всего обозначается автономность государств и народов, произошла сильная и, к удивлению, незамечаемая перемена: король – это не полководец больше, не герой и не святыня своего народа, олицетворяющий в своей воле, в своих дарах и даже в капризах полную личность своего народа с его духом и страстями. Это – только главный администратор в стране, который платится, как и все другие, когда действует неумело. Об его личности, об его пороках или добродетелях не слагаются более легенды, и все это даже мало интересно: интересно содержание деловых бумаг, которые текут от него в большем обилии, нежели от кого-нибудь другого в государстве. Таким образом, и здесь даже сказывается общий процесс истории: все обезличивается, все принижается и смешивается – «все умирает», говорит К. Леонтьев. И что же можем мы возразить против всего этого? Но если так, то все наше отношение к прогрессу меняется, и отношение к западной культуре делается невольно исполненным опасений. Пусть она величественна, пусть она исполнена мудрости: это не имеет ничего общего с разложением, которому подлежит и всякое величие, и все мудрое. Колоссальный организм, загнивая, дает только более удушливые миазмы, и все живое должно, избегая смерти через заражение, сторониться от него. Повторяем: только прочитав многочисленные статьи К. Леонтьева, освещающие с разных сторон, на разных частных предметах, все одну и ту же истину – одну и главную в наше время, – впервые начинаешь понимать грозный смысл всех мелких, не тревожащих никого, микроскопических явлений действительности: там вскроется пузырек, там ослабеет ткань, и, кажется, колосс всемирной культуры еще неподвижен, а между тем с ним совершается самое важное, что когда-либо совершалось. Когда он дрожал, в прежние века, под напором турок или арабов – это было склонение молодого организма под напором ветра, дувшего со стороны; теперь вихри ему не страшны, да и как-то странно они совсем замолкли. Только удушливый зной стоит кругом; и будем ли мы бросать камни в того, кто первый, потянув в себя воздух, сказал нам, почему в самом деле атмосфера так удушлива?
IV
«Вестник Европы» ничего этого не понимает: ему все мерещатся дворянские захваты, и, на страже европейской цивилизации, он считает долгом для себя их оспаривать; он борется, он напрягает силы, он недаром «журнал политики». Он не знает, что со своею бедною «политикою» он только маленький гноящийся пузырек, вскочивший на точке соприкосновения здорового организма с больным. Но, кто это поймет, конечно, не будет его оспаривать: наивность, как и все другое, должна же в чем-нибудь выражаться. Нигде, ни в исторических, ни в политических созерцаниях своих маститый журнал не возвысился над плохими учебниками, где объясняется, что «за временами преуспеяний» следуют «времена упадка» и энергическое движение вперед вызывает потом «реакцию». Приложить эти заученные параграфы к живой и текучей жизни – вот все, что он может.
Но истинною русскою мыслью в ее новых явлениях руководит впервые столь яркое и столь несомненное сознание положения своего народа в истории. Нет при этом никакой враждебности к Европе: есть простое сознание того особенного фазиса, через который проходит ее жизнь. Это сознание есть результат того, что оставлено прежнее скользящее к ней отношение, это жалкое восхищение ее техническими выдумками, ее «усовершенствованиями» и всем внешним блеском, богатством и могуществом. Не этим живет человек, и не этим движутся, крепнут и сохраняются в истории народы. Не этим жила и Европа, когда она возрастала. Ее текущему фазису, какому-нибудь полустолетию, противополагаются пятнадцать веков ее же истории. Странные минуты, в самом деле, переживает она: столькое создать, столькое накопить, так долго и страстно любить это накопленное и, на исходе пятнадцатого века своего существования, – вдруг забыть цену всего и начать разбивать столь бережно сохраненное. Что же: будет ли проявлением любви и уважения, если и мы, вслед за ослепнувшим безумцем, будем раздирать на части его сокровища, поджигать его ветхий дом и плясать скверный танец на развалинах прошлого счастья и величия? Так мог бы поступить раб, но не друг. И истинное уважение наше к Европе выразится именно в том, что – унося ее неоцененные сокровища к себе, на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временем хоть сколько-нибудь достойным преемником ее в истории, – мы совершенно и окончательно отвернемся оттого, что она сделала за последнее время и еще готовится сделать, и, сколько будет в наших силах, смягчим те удары, которые она порывается, по-видимому, наносить самой себе. В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева рассказывается один интересный случай: гр. Строганов, с семьей которого он путешествовал, недовольный его совершенным неведением текущих политических событий, дал ему однажды, для ознакомления с ними, прочесть нумер «Аугсбургской Газеты». Но, несмотря на все усилия, юный энтузиаст Европы ничего не мог понять в нем – все события и лица, о которых говорилось в газете, были ему вовсе не известны и, главное, совершенно неинтересны. И, между тем, он изучал в это же время Тасса и Данта на острове Искии и даже одного итальянца познакомил с «Декамероном». Что же: приехав на родину, он менее в ней послужил Европе и менее любил ее, нежели, например, г. Евг. Утин или г. Арсеньев, которые уж верно умеют читать газеты? Этим примером и этим сравнением мы все сказали.
Красота в природе и ее смысл
В одной из книжек «Вопросов Философии и Психологии» за 1894 г. останавливает на себе внимание рассуждение нашего известного философа и публициста, г. Вл. Соловьева – «Красота в природе». Трудность предмета, которому посвящено оно, невольно заставляет прислушиваться к каждой мысли о нем; а когда мы знаем, что эти мысли принадлежат человеку испытанных способностей, наше внимание удваивается. И в самом деле, объяснить – почему звездное небо нравится нам более, нежели оно же в полдень, при ярком сиянии солнца[25]; отчего мы любуемся радугой или наслаждаемся пением соловья, – это не только важно в виду ежедневно испытываемых нами подобных ощущений и тесной связи их с поэтическим и художественным творчеством, но и труднее, быть может, нежели разрешение какого бы то ни было другого вопроса в науке. Здесь мы соприкасаемся с темною и обширною областью чувств, которые так неуловимы в своем зарождении и переливах, что иногда даже простая попытка закрепить их словом, передать другому в описании – представляется нам грубою и несовершенною; и тем менее ожидаем мы удачи, тем более опасаемся грубости, когда видим желание определить их сущность и причину. Вот почему нисколько не удивительно, что здесь резче, нежели где-нибудь, выразилось чрезмерное неравенство нашего (мы говорим о русских) эстетического и умственного развития. В то время как ощущения эти, в течение долгих столетий испытываемые нашим народом, нашли в темных недрах его и в более развитых его представителях поэтические способы выражения и иногда в несравненно высокой форме, – ни разу не нашел среди него достаточно сильной мысли, которая задумалась бы над этими ощущениями, анализировала их и попыталась объяснить.
Вот почему со всем недостающим, что есть в подобной попытке, мы готовы примириться, если в том, что она даст положительного, есть хотя какой-нибудь объясняющий свет. И это двоякое ощущение – удовлетворенности и сознания недостатка испытывается невольно при чтении только что называемой статьи. Почти повсюду автор ее не только открывает подступы к решению неизмеримо трудной задачи, но и восходя на них – бросает светлые мысли на все ее отдельные стороны. Некоторое единство в нескончаемо разнообразных проявлениях красоты, скрытая сущность того, что именно выражается в ней, – все это указывается им, определяется порой с удивительным искусством, и, прочтя ее, всякий получает хоть какую-нибудь возможность думать о том, о чем он раньше совсем и ничего не мог думать. Но этой положительной стороне сопутствует постоянно один недостаток, и он едва ли будет когда-нибудь совершенно возмещен в эстетике: мы говорим об особом характере доказательств, сопровождающих ее положительные указания, которые всегда оставляет возможность не принимать последние. И в самом деле, едва ли еще когда-нибудь будет открыта для науки область явлений, где основательные утверждения будут так же трудны, как в отношении явлений красоты, и где возражения были бы так легки. Обычные приемы доказательств, употребительные в других науках, почти не приложимы здесь; и вся убедительность утверждений основывается на аналогиях, на уподоблениях, – на том, что мысль утверждающего без внутренних противоречий, не изменяя самой себе и своей исходной точке, находит возможным касаться разнообразных сфер прекрасного. Если при этом она не встречает непреодолимого противоречия в самых фактах; если переходя от мира образов к миру звуков и от человеческого творчества – к окружающей природе, она нигде не обрывается, – мы уже внутренне сочувствуем ей, как бы ни были шатки и смутны ее основы: мы уже сомневаемся, не близка ли она в самом деле к истине, которой предстоит, быть может, остаться здесь окутанною вечным сумраком. Правдоподобность догадок о том, чего мы не можем и однако же хотим знать – вот истинное определение научной достоверности эстетических рассуждений как теперь, так вероятно, и в далеком будущем.
Можно сожалеть, как о недостатке строгости к себе, о том, что г. Вл. Соловьев не оговорил точно этой степени достоверности высказываемых им соображений. Любя истину, мы не только должны стремиться к ней, но и твердо знать, когда ее не достигаем и в последнем случае бережно должны предостерегать каждого, кто мог бы принять нас за обладающих ею. Как ни готовы мы сочувствовать его мыслям, о том, что все проявления красоты в физической, безжизненной природе зависят от проникновения грубой, косной материи световым эфиром, как первою реализацией идеи, – мы конечно не должны забывать, что это только слова, сложившиеся в некоторое понятие, но не истина, опирающаяся на какие-нибудь доводы. Но, повторяем, доказывать что-либо в этой непроницаемо темной области науки так трудно, а опровергать так легко, что едва ли может у кого-нибудь, пробудиться желание избрать для себя второе, возложив на других первое. В общем, все соображения г. Вл. Соловьева о красоте в механически устроенной, внешней природе, если и не обоснованы, то так внутренне связаны, что они совершенно имеют ту слабую степень убедительности, которая одна только достижима здесь.
Но этого нельзя сказать о второй половине его статьи, где он занимается разбором явлений красоты в органической природе. Ошибки, в которые он впадает здесь, так грубы, что их можно было бы принять за простую небрежность языка, если бы и помимо его статьи он не повторялись слишком часто, постоянно и всегда в одной и той же форме. Здесь, очевидно, скрывается не небрежность в слове, но небрежность в мысли, совершенно правильно выраженной словом.
Ошибка эта, всецело перенесенная г. Вл. Соловьевым в свою статью из естественнонаучных произведений и в особенности из трудов Ч. Дарвина, касается вопроса о том, как произошли прекрасные формы в царстве животных и растений, каким образом они ощущаются первыми и что именно эти ощущения вызывает, собою? Дарвин, повторяя в применении к рассматриваемой области свой обычный прием мысли, утверждал, что красота чувствуется животными, дает преимущество прекраснейшим из них в борьбе за существование и этим путем медленно нарастает и постоянно укрепляется. В этом изгибе мышления, в этой новой связи понятий, порознь всегда известных, в сущности скрыт весь дарвинизм; в нем английский ученый дал метод объяснения природы; он создал как бы новый силлогизм, под формулу которого стали подводиться всевозможные явления животной, растительной и даже человеческой жизни. И нельзя не заметить, что как бы ни сузилась со временем применимость этой формулы, как бы много областей действительности ни оказались изъятыми из ее приложения, хотя бы изъята была даже вся органическая природа, – однако в абстрактном своем виде, и прилагаемая хотя бы только к мельчайшим деталям, эта формула сохранится навсегда. «Полезное охраняет», поэтому сохраняется само, и, суммируясь в веках, является как новая черта органического сложения, как прежде не бывший орган – это так просто, так, наконец, это правдоподобно (по крайней мере, – до последнего умозаключения), так действительно, что, в применении к органам ли или чему другому, человек – ранее, нежели прибегнет к другим более сложным приемам мысли, – всегда повторит за Дарвином этот простейший. В данной рассматриваемой области, в области явлений красоты, г. Вл. Соловьев находит удобным повторить этот именно круг мысли, – и здесь-то, почти повторяя Ч. Дарвина, он и впадает в те ошибки, о которых мы упомянули, как об очень грубых, и хотели бы их поправить.
I
«Жизнь животного, – говорит г. Вл. Соловьев, – определяется двумя главными интересами: поддерживать себя посредством питания и увековечивать свой вид посредством размножения. Эта последняя цель, разумеется, не существует в сознании самого животного, а достигается природою косвенно чрез возбуждение полового влечения в разнополых особях. Но космический художник пользуется этим половым влечением не только для увековечения, но и для украшения данных животных форм. Особи активного пола, самцы – преследуют самку и вступают из-за нее в борьбу друг с другом; и вот оказывается, по словам Дарвина, что способность различным образом прельщать самку (курсив принадлежит автору) имеет в различных случаях большее значение, нежели способность побеждать других самцов в открытом бою».
Здесь указывается пока, что красота, даваемая животным природою, употребляется ими как некоторое средство для достижения известных целей – что они прельщают се и пользуются ею. В примере слизняков и некоторых других низших животных, который затем приводит г. Вл. Соловьев, у него как будто скользит уже мысль, что эта красота не только ощущается животными и они пользуются ею, но что до известной степени, иногда по крайней мере, они и создают ее или усиливают в тех же внешних целях: «если улитки пленяют друг друга своими аллюрами, то другие, более зрячие моллюски еще легче могут оказывать подобное действие красотою своих раковин». Здесь привлекательность движений, очевидно произвольно и преднамеренно совершаемых, уравнивается, как средство привлечения самок, с красотою цвета, и не отличается, что последний не может быть создан произвольно и преднамеренно существами, которым он присущ. Слова, заканчивающие приводимый пример, также мало могут рассеять это недоразумение: «дело ясное, – говорит он, – у ракообразных и пауков; здесь самцы никоторых видов приобретают во время половой зрелости яркую и разнообразную окраску, какой не имели прежде и какая отсутствует у самок». Так как этот признак появляется, когда он нужен, и исчезает, когда перестает быть нужным, то у читателя естественно может возникнуть мысль, что он создается, и именно в интересах достижения некоторой внешней цели (привлечения самок). Следующий пример еще более может укрепить в читателе эту мысль: «Фриц Мюллер пишет Дарвину из южной Бразилии, что он часто присутствовала при музыкальном состязании между двумя или тремя самцами цикады, имевшими особенно звонкий голос и сидевшими на значительном расстоянии друг от друга. Как только один кончал свою песню, так сейчас же начинал другой, и, таким образом, они все время чередовались между собою. Так как здесь, справедливо замечает Дарвин, обнаруживается столько соперничества между самцами, то весьма вероятно, что самки не только распознают их по издаваемым ими звукам, но что они, подобно птичьим самкам, прельщаются или возбуждаются тем из самцов, который обладает самым привлекательным голосом». И далее: «у насекомых, принадлежащих к отряду Neuuroptera, замечается не только особенное украшение крыльев у самцов перед спариванием, но наблюдается у разных видов предпочтение того или другого цвета… У некоторых видов жуков самцы отличаются огромными и весьма изменчивыми и причудливыми рогами, которые, как доказывает Дарвин, несомненно имеют характер украшения для прельщения самок»… «У многих видов бабочек замечается, что верхняя поверхность крыльев (в противоположность нижней), которую порхающий самец показывает самке во время ухаживания, раскрашена и разрисована с таким причудливым изяществом, которое не оставляет никакого сомнения в преобладании здесь чисто эстетического фактора».
Во всех этих примерах, которые приведены, но не объяснены и даже не разграничены, ясно высказывается мысль о некотором участии живых существ в создании тех прекрасных форм, которых они являются носителями. Силою какого-то внутреннего напряжения они как будто или вызывают эту красоту, или усиливают ее, – и делают это, чтобы привлечь к себе особей другого пола. В примере цикад, соперничающих музыкальностью и силой издаваемых ими звуков – это ясно; но и другие факты выражения красоты в природе поставлены в ряд с этим примером и их отличие от него не оговорено ни одним словом. В приводимых далее примерах видно, что автор и действительно приравнивает (по произвольности выражения) «яркую и разнообразную окраску» некоторых пауков и ракообразных во время половой зрелости – к звукам, которые издают тропические цикады:
«Неравнодушны, – говорит он, – к красоте и рыбы. Этим только объясняется, что у многих видов этого класса самцы (вообще более красивые, чем самки) развивают во время спаривания особую красоту цветов и форм». Здесь прямо выражено, что окраска наружных покровов производится преднамеренно живыми существами для достижения внешней цели – привлечения самок. В следующих примерах к этой произвольности присоединяются и черты как бы некоторой кокетливости: «самцы тритонов пленяют своих подруг красивыми гребнями, а у лягушек только самцы же, и лишь во время ухаживанья дают свои концерты… В одном роде ящериц (Sitana) горло самцов снабжено большим, ярко окрашенным (во время спаривания) кожаным придатком, который они распускают, как веер, перед самками… Птицы почти все основывают свои брачные успехи на обнаруживании того или другого эстетического свойства, причем замечается, что блестящая окраска и способность к благозвучному пению обыкновенно не совпадает, но слабость одного из этих преимуществ возмещается развитием другого. Всего любопытнее у птиц то, что они явно сознательно относятся к своей красоте и тщеславятся ею не только пред самками, но и перед посторонними наблюдателями. Сам Дарвин не редко видел, что павлин щеголял своим убором не только перед курами, но и перед свиньями. Все естествоиспытатели, внимательно наблюдавшие птиц как на свободе, так и в неволе, единогласно утверждают, что самцы находят удовольствие в том, чтобы выставлять напоказ свою красоту (курсив везде принадлежит нам)».
Этим исчерпываются приводимые г. Вл. Соловьевым примеры, которые он заимствовал из книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой подбор» и в объяснении смысла которых он не расходится с английским ученым. Как общий итог всех своих мыслей о красоте органических форм, он произносит, в самом конце своей статьи, следующее суждение: «в мире животных общая космическая цель («воплощение реальной идеи, то есть света и жизни, в различных формах природной красоты», как сказано у него ранее) достигается при их собственном участии и содействии, чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать себя» (курсив принадлежит нам)». Человек, объясняет он далее, только тем, создавая прекрасное в искусствах, отличается от животного, что, тогда как последнее не сознает высших космических целей воплощения красоты, – он их сознает и к ним стремится осмысленно и свободно.







