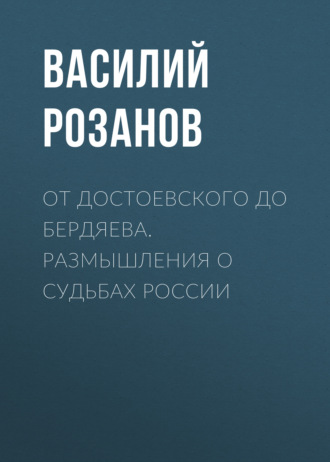
Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
IX
Есть представление о народе нашем, как исключительно мягком, «терпимом», неспособном и, в видах ему навязанной репутации, уже как будто и бесправном к самозащите… Так понимает его, этого требует от него и г-н Вл. Соловьев, и иные, с ним единомышленные. Им бы эта «терпимость» нужна, по крайней мере, на время. Они не заметили в нем иных, суровых и строгих, черт; и, между тем, именно они в нем главное. Их обманул двухвековой карнавал нашей истории; настал его последний день и они требуют веселья нестерпимого, огней, вина, наконец, блуда, и, если возможно, в неслыханных формах. Им кажется, «возможно»… Еще день не кончился, их день… последний день, и вот что в безмерном упоении они не хотят сознать, не чувствуют. Между тем, в запертой и еще пустой церкви все изменяется, светлые ризы заменяются черными, на место одних книг приготовляются другие, главные. Еще все молчит; неситесь в веселье своем буйном по улицам, доедайте последний блин, и, если нужно, засыпайте. Но народ, – ударит протяжный колокол, и он необозримыми толпами потянется к храму, где все другое, и он сам в нем другой… Новая эпоха, новая эра нашей истории, о, если бы скорее она наступила, если бы, наконец, сгинула с глаз эта улица, эти маски, вино, красавицы, и все, все, за что цепляются только немногие мертвые руки, несколько не сытых еще, желудков, неутоленных позывов.
X
И неужели хоть робко сказать несколько слов о могущем наступить завтрашнем да – значит преступить что-то, сделать нестерпимое?.. Почему думает г-н Вл. Соловьев, что все жаждут с ним еще вакханалии и вакханалии. Для многих – ее довольно; довольно для меня и, как всякий, я хочу сказать то, что хочу… Голос мой слаб, и время для него еще не наступило; и не делаю я то, что будет сделано, что может быть сделано завтра. Но ведь и статья моя «Свобода и вера» не призыв, не удар в колокол, а только жест презрения невольного к тому, что и многим гадко… И вот, я повторяю его, указываю еще на «пошатывающегося»; что же, вступить ли мне с ним в брань? к чему? Это так в его вкусах, и вовсе – не в моих. Достаточно понять, определить, самое большее – выговорить в слух определенное. Что может он мне сделать, его брань? Там, куда я иду, он никогда не будет выслушан; там, куда он идет, я не хочу быть выслушанным.
Спор наш кончен, да, в сущности, он и не завязывался.
Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?
Я не удивился, прочтя в апрельской книжке «Русского Обозрения», в унисон запевшего с «Вестником Европы», строки о свободе[145]; в век, когда есть лишь степени безверия – свобода верующая так мало может быть понятна; в эпоху, доканчивающую ей предназначенную миссию разрушения – так непонятен труд, созидание, утверждение. И вот, не живой консерватизм протягивает руку мертвому либерализму; им кажется – творчество могло бы помешать их дебатированию; их призывают к вере, когда они хотели бы рассуждать; они вспоминают перья на шляпе маркиза Позы, зовут тень Гамлета, – они, худосочные питомцы тех праздных, но поэтических, вымыслов. Что церковь, что история, что вдали веков пролитая кровь мучеников, и еще за ними совершившаяся тайна Искупления; переде ними подмостки, красивый актер, – и неужели прервать его речь, не дослушать волны чарующих звуков, которые идут от него; десятилетия их слушают, и неужели теперь, сегодня, встать и куда-то пойти, – быть может’ на сырость, холод, мрак; ведь так удобно в этих покойных хоромах, среди этого света, теплоты, плечом к плечу в рядах благоговейных слушателей…
I
Мне хочется, в виду совершившегося унисона, расчленить звуки каждого и взвесить их тяжесть. Я этого не сделал, отвечая г-ну Вл. Соловьеву, ввиду почти отсутствия у него каких-либо возражений по существу вопроса; теперь попытаюсь собрать крохи его умствований, и пусть оценка их принадлежит читателю.
Против утверждения моего, что свобода без отношения к достигаемому объекту, без веры в выполняемое назначение, хаотична, бессмысленна и для всякого человека не нужна, «безвкусна», он, как бы не чувствуя указываемого в ней момента веры, говорит, что и вне этой веры, лишь в разрушительных целях, она нужна и сладостна для человека. Он сравнивает ее с «воздухом, который всегда и всюду нужен»[146]; по ведь для живого нужен он, для легких, которые его тянут в себя, и не нужен разлагающемуся трупу, неподвижной груди, не нужен ничего с силою не утверждающему индифферентизму; а для веры – я же для нее требую свободы, во имя этой ее веры, в границах ее утверждения. Воздух для не дышащего есть только момент скорейшего разложения; его удаляют от трупа, когда последний хотят сохранить; и неужели, неужели в странах преимущественной свободы, как западные, как Америка, не видно и преимущественно быстрого разложения всяких остатков прежней веры – религиозной, философской, политической? Везде и все великие исторические организмы там умирают; и если момент умирания в них порожден иссякновением в себя веры, быстрота этого умирания обусловлена избытком не вдыхаемого, не нужного и только заражаемого «воздуха»
Этот принцип так ясен и тверд, что, сбиваясь в словах, путаясь в мыслях, мой противник, как только его формулирует, невольно впадает в согласие: «Иудушка утверждает, что только вера имеет право на свободу; только поверив, он говорит, я могу требовать некоторой свободы. Положим так: насколько дело идет о свободе исповедания и проповедания, само собою понятно, что кому нечего исповедовать и проповедовать, тот и в свободе для этого не нуждается»[147]. Он думает, факт проповеди, выражения словесного, физического действия уже implicite заключает в себе факт веры; но во что же была вера, к какому делу были приставлены, что им нужно было, когда, видя идущего мимо лысого пророка, мальчишки бежали за ним, ругаясь и издеваясь, и он проклял их? В чем помешала Вольтеру Жанна д’Арк, что он написал на нее памфлет? И не видим ли мы всюду праздных людей, которые в то время как строители строят, кладут камень за камнем, – хотя около постройки сбрасывают за камнем камень, ибо день ясен, солнце печет, и зачем бы это здание, для кого и с такими прочными станами, массивными сводами? И так каждый безверный, выполняя закон всякого существа – трудиться, не имеет перед собою предмета собственного труда, цели своего созидания, этою целью, этим предметом избирает чужой труд и его разрушает: делом, и когда нельзя, пока нельзя – хоть словом, издевательством, доказательством ненужности данного труда.
И, забывая далее историю, не имея логики, мой критик продолжает: «если, однако, факт веры дает право на свободу, то, при множестве разных существующих вер, каждая из них будет иметь одинаковое право со всеми, что и называется веротерпимостью». Но кто же в верующей толпе скажет: «есть много разных существующих вер»; и апостолы, юная церковь Христова, идя, в языческий мире, разве останавливаясь перед капищем Юпитера, спрашивали: «не заглянуть ли туда, может быть Юпитер жив?» или крестоносцы, придя на Восток, спрашивали: «не в самом ли деле был пророк Магомет?» и разве Бруно, входя в смысл его осудивших, задавался вопросом: «не правы ли они и я не ошибся ли?» Нет, это были все, как они ни различны, люди веры, и у каждого верующего есть одна вера, нет пантеона, куда он сносит со всего мира умерших богов, чтобы всем им равно воздать курение и никому не отдать сердца.
Факт одной веры у всякого, кто живо ее ощущает, моему критику представляется возможным лишь для дикаря; забывая, не понимая (безверный сам), что не за «одну из многих возможных вер» страдали мученики, всходили на костер праведники науки, он говорит: «это – закон, которому следовал в своей жизни африканский дикарь, говоривший миссионеру: когда у меня уведут жен и коров – это зло, а когда я уведу у другого – это добро»[148]. И ему кажется, что «не иначе рассуждает всякий зверь и всякая птица»[149]. Факт, совершаемый вне сознания добра и зла, он здесь не различает от веры исповедуемой; ему кажется, истина в глазах каждого должна двоиться и троиться, и, читая свой символ, всякий должен вплетать в него слова и всех других символов: тогда речь будет обильна и правда где-нибудь уловлена. Конечно, и вероятно даже, но тот, кто произносит такой символ, конечно, не верит ни в который и равно разрушает все.
Ему кажется непонятным, чтобы как он свой, церковь не путала свой символ с чужим; ее вера – для него непостижима, и мое утверждение, что в церкви эта вера есть, ему представляется «клеветою»[150]. Как он, заглядывая во все капища, колеблется между Спасителем, Гартманом, экономистами, так, ему думается, и церковь к ним всем равно прислушивается, и самое большее, что делает, что вправе делать – это склонять к одному внимание преимущественно перед другими. Чтобы и к «капищам» была у нее нетерпимость – «этого мы еще ни от кого не слыхали, кроме Иудушки», «против этого свидетельствует даже Л. Тихомиров, заявляющий: конечно, терпимость есть правило самого православия». Он кротость, милосердие к греху смешивает с неведением, что есть грех; и требует, чтобы церковь, болящая и страдающая о грехе, пришла и разделила с ним любование на этот грех. «Простить» для него есть непременно не поднять руки, удержать всякое к этому движение в себе; но ведь и мать прощает дочь свою погибшую, – однако, предвидя ее гибель, если бы, она отстранилась и стояла в стороне, лишь созерцала эту гибель, конечно, она была бы для нее не мать, и даже менее, чем только посторонняя; после греха и при раскаянии простит, слиться в слезах даже с преступником, вернувшимся к истине – это должна мать, к этому обязана и даже влечется своим законом церковь; «сердца сокрушенного» не уничижит Бог, но уничижит несокрушенного, смирит гордое даже и в грехе; так было; дурно, что не есть; так будет; и этому должна следовать Богом руководимая церковь. Грех – то, в чем все ее чада тонут, и церковь есть рука, из этого греха всех поднимающая. Удерживать ее руку, указать ей лишь созерцание – значит закон своего холодного, индифферентного сердца странным образом принимать за закон Бога. И ни с чем другим кроме как с грехом церковь не имеет соотношения; напрасны усилия подсунуть ей таблицы мер и наказаний, сказать «не менее», указать – «не далее»; и малое, и большое, и далекое, и близкое содержится «в ней самой, определяется ее нуждою спасать, чем, как – не мы, спасаемые[151], ей укажем.
II
Понимая все формы религиозного сознания как искажения или недоразвития до собственного, церковь не может допустить[152], чтобы ее чада из полноты возвращались к недостатку, из прямого становились кривым. Вера яркая чтобы становилась тусклой (протестантизм), истинная – ложною (католичество), что за странное усилие, к чему оно, к чему самый о нем вопрос – у верующего? А кто не верует – уже не в церкви, те, в силу исторического отношения вещей – не в том, что составляет ее часть, ею было согрето, выношено, взращено: не в народе своем и не в стране. Не может церковь верующая включать в себя и то, что не есть верующее в нее; и как Восточная католическая церковь, наравне со многими другими странами и народами, объемлет и наш, – всякий, кто из нее как целого вышел, вышел и из всякой ее части, народа, страны, царства. Цельность, которую мы так понимаем в индивидууме, не отвергаем совершенно в обществе, неорганизованном и признаем вообще во всяком союзе, – более, чем в каком-либо из них, есть в церкви. Она есть вечный союз человека с Богом, только момент, в котором есть наша земная жизнь, часть – и страна наша, и народ, его история, и по нитям которого тянется жизнь каждого из нас, звуча совместно с другими в одном аккорде. Струна порванная сбрасывается с инструмента и заменяется новою; пусть она еще струна, и даже – две коротких с четырьмя концами: здесь и теперь она не нужна, и кто в ней нуждается – пусть подберет ее, но отсюда она должна быть сброшена. Есть совесть, есть грех, есть возмещающее страдание не для лица только; разве эпоха не может быть преступна? народ, поколение разве не терпит иногда за то, что совершено было иным поколением? Итак, молиться, страдать, размышлять человек может не индивидуально только, но и в собирательном множестве своих моментов, как струна звучать – не только одна, но и в гармонии со множеством других. Смысл индивидуального существования темен для каждого; яснее этот смысл для народа, и в нем каждый может отчетливо понимать себя; окончательно ясен он в церкви, и в свете его могут читать себя народы, в них – индивидуумы. Вне этого – темнота, ночь; книга с перемешанными страницами изстриженными, разбросанными. Кто хочет – может собирать их, разгадывать; не к чему требовать внимания к себе других.
III
Но вот из этих струн некоторые хотели бы и не звучать, или звучать вне согласия с другими, и вместе занимать между ними положение, отвечающее не достоинству струны, но только издаваемого ею звука. К чему это, возможно ли, какой нужде остальных струн, какой нужде, благородной в самой замолкнувшей или дребезжащей струне может это отвечать? Не как физический организм нужен я истории, и было бы унизительно для меня, бессмысленно для нее, если бы было так; но как деятельность некоторая и внутренний ее родник, моя душа – вот что нужно ей, и это как возвышает меня, так и осмысливает ее. Снять эту печать мысли с истории, достоинство с меня, – какая нужда для меня, для кого-нибудь: мы все влечемся именно к этой гармонии, этому слиянию в созвучии, а не к существованию бок о бок, один возле другого. И лишь физический протест нескольких обрывков, которым здесь и теперь, между звучащими, хотелось бы без звука или с звуком бессмысленным быть, – конечно, этот протест презрен и не может быть принят в какое-либо внимание. Нам говорят о страдании, нам говорят о «свободе»: есть худшее, чем оно – молчание, есть лучшее, чем она – мелодия, Кто, видя историю, захотел бы «свободно» смешать ее процессы и, смешав, этим смешением остаться сыт? Конечно, мы все, весь род людской, этого не допустим: страдать нам указал Бог, молчать может принудить только смерть. Мы все природою своею благородною принуждены; мы подзаконны; и как подзаконный тесный брак лучше блуда, мы этот блуд ему не предпочтем.
IV
Какое низкое понятие о счастье – что оно в сытости, не очень большой усталости и хаотической свободе заключено. Разве нельзя быть счастливым, и гораздо выше, гораздо полнее, при абсолютной стесненности, когда знаешь, что эта стесненность отвечает чему-то великому, нужна тому, что останется и после меня вечно жить? Толпа разбежавшихся дезертиров, инструмент с порванными струнами, огород с поломанным забором, куда идет каждый за нужным себе овощем, неужели, неужели этим только живет человек, это одно, будто бы, ему нужно, одно и выражает, и может удовлетворить его, – что же, изнеможенную уже – природу? И неужели для этого только он на земле? всегда для этого, как был прежде, так и останется? Но ведь в виду каких-то определенных звуков устраивался инструменте, для какой-то цели были собраны разбежавшиеся теперь, и огород насаждался же кем-нибудь и для чего-нибудь? Есть нудящая мысль в истории; ей можем ответить мы и в этом ответе найти высшую для себя радость; если, однако, и не ответим – понудимся, но уже как стадо, гонимое – куда, оно не знает само. Разве в самом хаосе, который один мы почему-то любим, к нему одному влечемся, ног давно уже чего-то принудительного для нас? Кто имеет силы в нем остановиться, как-нибудь ему воспротивиться? Какое ожесточение на лицах всех при мысли, что этот хаос может быть и не вечен, – он, который и на минуту так мало может истинно насытить кого-нибудь. Мы все давно не свободны – в безобразном; быть несвободным в прекрасном – вот что кажется нам ужасно, и самая мысль об этом – антиисторической, преступной.
Кроме указанных обрывков мысли, никаких еще аргументов против принципа творческой свободы г. Вл. Соловьев не мог выставить. И, без сомнения, не от того, что он не хотел искать их, но потому, что тою долей философского понимания, которой не лишен, он понял, до какой степени хаотическая свобода действительно несовместима с верою, и между тем, для этой последней трудясь, он для нее трудился под покровом первой. Он чувствует, ему необходимо отказаться от веры, удерживая свободу, или от свободы, называя себя верующим. И вот, не имея в себе мужества философа, ни прямоты христианина, он заминает, запутывает вопрос, и самое имя человека, который его поднял, усиливается похоронить под грязью ругательств[153]. Но, конечно, гораздо ранее будет похоронен сам, нежели хоть йота истины, которая, из мрака неведения выйдя к свету, хочет жить – перестанет жить.
V
Г-н Л. Тихомиров – его статья Существует ли свобода также направлена против выясненного мною принципа – принадлежит к немногим ясным писателям, на которых, соглашаясь с ними или не соглашаясь, невольно отдыхаешь после того болезненного, конвульсивного, затуманенного бреда, какой нанесли в нашу литературу «девятидесятники», еще ранее их «восьмидесятники»[154], и, кажется, едва ли не первый потянул к нам с запада г. Вл. Соловьев со своею смесью теургии, экономики, парламентаризма, папства[155], и, кажется, всего, что от золотых времен Сатурна и до наших грелось и играло под солнцем истории. После этой занимательной литературы, которой еще вчера не было никаких симптомов и сегодня она наполняет все журналы, всю прессу, также невольно и радостно отдыхаешь даже на каком-нибудь диковрущем «шестидесятнике»[156], как, выйдя из больницы на улицу, невольно с удовольствием останавливаешься на зрелище пьяного растерзанного человека после того, как несколько часов видел изможденные фигуры, пытающиеся прогнившим языком произносить молитвы и трясущеюся рукой положить на себя крест… Странное понятие, что к религии имеют какое-нибудь отношение и всякие больные о ней помыслы; что все есть философия, что очень нелепо; и мистицизм истинный – что не имеет для себя никакого объяснения и вообще всякого raison d’etre для своего бытия. Это жалкое стадо, которое немного лет назад было встречено так шумно и радостно, пока из-за пыли еще не показалось голов, – теперь, когда блеющие головы так ясно вырисовались, внушает смех и досаду за минутную, не основанную ни на чем надежду.
Чрезвычайная отчетливость выражения составляет главное достоинство г. Л. Тихомирова, и отсутствие длящихся мыслей, какого-нибудь сложного созерцания – его недостаток, как писателя. Как искусный дебатер в парламенте, он стоит перед полуотворенною дверью «свободы», и в виду толпы, напирающей на нее то извне, то изнутри, вызывает каждого словесно победить его прежде, чем он допустит сколько-нибудь расширить проход или его сузить. То, что его занимает так пристально только вопрос о свободе[157], сообщает некоторую бессодержательность его писаниям: не понимаешь, зачем эта дверь не отворена; не понимаешь, почему ей не затвориться совсем; можно подумать, что узкая лента света перед его глазами ему нравится сама по себе, независимо от всего другого, как некоторая философская ding an und fur sich. Вообще он сильнее своих противников[158], и, по-видимому, это сообщает ему некоторое удовлетворение; когда его спрашивают, что за дверью и стоит ли что-нибудь там охранять от «воздуха», хотя бы и разлагающего, он отвечает, что об этом нет вопроса и предлагает, взглянув на ленту, доказать, что она недостаточно красива. Ему представляется, что нет других вопросов; нет иных нужд, иных точек зрения, как с его стула. И вот почему у каждого, в речи кого он слышит слово «свобода», он думает – идет речь именно о полуотворенной двери, которая его так занимает.
Конечно, в том очень хаотическом, очень неопределенном и всего менее необходимом процессе, какой совершается по ту сторону «двери», нет вовсе той принудительной закономерности, о которой[159] я сказал в статье Свобода и вера, что ей принадлежит совершенная свобода и также незнание законов чего-либо, от себя отличного. Разве среди нас, разрушенного отброса разрушенных веков, есть истинно верующий? Итак, речь была не о нас, не о теперь[160]. Но если бы среди нас явился, если он когда-нибудь явится – человек веры, все, мною сказанное, будет принадлежать ему. И принадлежит также теперь единственному, в чем вера составляет самое существо – церкви[161]: без внимания ко всему, вне ее лежащему истину, утверждения своего, умаленного, замолчанного, заглушенного тысячью звуков, прерывая эти звуки, разрушая это молчание – она может утвердить. Церковь пусть войдет во всю полноту канонов, не отмененных, но и неисполненных – вот что мне хотелось сказать, что одно я мог иметь в виду, и не желая отворять «дверь», и не желая ее суживать, и считая самую дверь и все за ней происходящее очень временным и для меня по крайней мере нисколько не дорогим.







