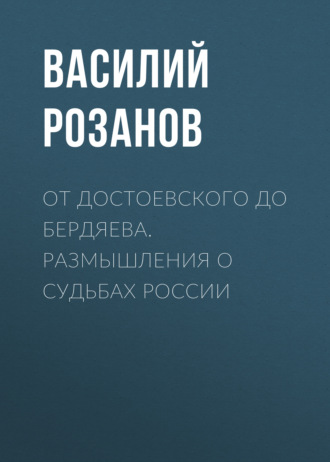
Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Этому-то Михаилу Петровичу пришла мысль или, точнее, настойчивое желание, совершенно бесцеремонно им и проведенное, выбросить из литературы гг. Меньшикова, Дорошевича и (в менее настойчивой форме) Ник. Энгельгардта. О Дорошевиче мне передал издатель-редактор «Одесского Листка» В. В. Навроцкий. Г-н Дорошевич поднялся и сразу стал быстро выделяться в каком-то «запойном» московском листке: как с его статьею номер – расхватывается на улице до последнего листка, Невроцкий, издатель удивительно чуткий, энергичный и предприимчивый, «чисто русский человек», едва ли не греческого происхождения (чрезвычайно темный брюнет), поставивший дозволенный ему «листок объявлений» (отсюда заглавие – «Одесский Листок») на степень первого южнорусского органа печати, пригласил к себе и г. Дорошевича. Известно, что такое провинциальная печать, и много ли надо было администрации «напряжений», чтобы задушить, и без прямого запрещения (что хлопотливо), газету. «Запретить розницу», «запретить печатание объявлений», «приостановить на 6 месяцев»: и существовать невозможно. Газету не «запрещали», для чего по закону требовалось соглашение трех министров, а ей единолично: 1) не давали пить, 2) есть и 3) выгоняли на улицу, где она «отходила на тот свет» в судорогах и конвульсиях, причем министерство внутр. дел благочестиво читало «requiem». «Я бдительно охраняло, но умерший сам умер, не захотев жить». Знаков насилия на теле не обнаруживалось, и протокол был чист. В. В. Навроцкий беспокойно приехал в Петербург вследствие желания главноуправляющего по делам печати с ним «поговорить». А «разговор» состоял в том, что если Навроцкий уберет из газеты г. Дорошевича, то газета будет жить, а если не уберет, то, «пожалуй, умрет». В. В. Навроцкий просил меня (я у него недолго сотрудничал) съездить к местному (одесскому) цензору, тоже вызванному в Петербург «для инструкций» или «по делам». С изумлением я увидел чиновничка до того молодого, что он мне показался мальчиком. «Боже, и он нас всех цензурирует! Но ведь он ничего, кроме Дюма-fils, не читал». Но чиновничек, кроме Дюма-fils, оказался человечком сухоньким, аккуратненьким, к делу внимательным, с собеседником любезным и приехал по сложной цели: во-первых, – для «инструкций», а во-вторых, – потому, что ему мог выйти и мог не выйти к Пасхе «следующий орден». В подробностях я, вероятно, путаю, – но общий итог подробностей давал это точное впечатление. – «Да за что, собственно, Мих. Петр. (Соловьев) ненавидит Дорошевича? – спросил я. Почему он его гонит из печати?!» Цензор пожал плечами: «Он его не гонит; но он спрашивает: какой Дорошевич писатель? Все его остроумие состоит из грубейшего шаржа Гоголя, и что у него через четыре с троки в пятой непременно торчит гоголевское словцо, которое и придает смысл, сок и румянец этим пяти строкам. Выньте это гоголевское словцо и пять этих строк умрут. Умрет вся страница без 5-10 гоголевских словечек. Умер, или даже, точнее, – и не рождался, весь и Дорошевич, если из него вытащить Гоголя. Мих. Петр, и спрашивает: что же это за писатель? Это пошлость, а не писатель. Это вымазанный дегтем Гоголь, который все пачкает, к чему ни прикоснется». Опять я не буквально помню слова, но смысл их был именно этот: главноуправляющий по делам печати, приводя в движение все силы российского государства, решился «выбросить из литературы» г. Дорошевича не по определенной вине его, не потому, чтобы считал его вредным, а просто потому, что он… ему не нравился, художественно не нравился, как читателю, как домоседу, отцу своего семейства и мужу своей жены!! Вот и плоды «занятия Дантом» в русской администрации. Мы в истории нашей до того привыкли или приучены к насилию, что вопрос собственно о нем никогда нам не представляется тяжелым вопросом, а есть недоумение только о том: надлежащее ли горло попало под стальные пальцы. Человек, с трупом в руках, обеспокоен только тем: брюнет он или блондин? Брюнет – «туда и дорога»; блондин – «мог бы жить; виноват, ошибся». Вторым bete noire[222] Мих. Петр, был главный сотрудник «Недели», писавший ежемесячно в ней голубым по розовому и розовым – по голубому. «Все люди невинны, и, если бы не дурная погода, – был бы рай. Но как погода дурная, то надо открыть форточку» или «не надо открывать форточки», в одной книжке то – «открывать», в другой – «не открывать», но вообще «человек» и «форточка» и «все мы невинны». Он не обнаруживал того ума, энергии и знаний, какие в нем есть теперь, и едва ли не был искусственно младенцем в преднамеренно-младенческом журнале, рассчитанном на сельских учителей, титулярных советников и не вышедших замуж девиц: читатель впечатлительный и самый обильный. Мих. Петр, с той строгостью много пожившего и испытавшего человека, к тому же опять преданного Данту, о котором и Пушкин сказал:
Суровый Дант не презирал сонета, –
и проч., еще более, чем г. Дорошевича, возненавидел г. Меньшикова и решил его «изъять из литературы» всеми способами и до последней строки и окончательного издыхания. Тут я должен вписать черную страницу в собственный формуляр: каким образом я, будучи другом (почти) Михаилу Петровичу, любя и уважая его, кажется, имея на него, по крайней мере, идейное, по крайней мере дружелюбное, «свое домашнее» влияние, не только не рассорился с ним или «крупно не поговорил» по поводу этих явно бесчеловечных и граждански – бессовестных деяний и намерений, но и ничего при зрелище их не почувствовал!! Вот это проклятое русское равнодушие, в котором и я так виновен, – в сущности есть настоящий родник всех «трупов» в нашей жизни, злодейств и преступлений: что много из соседей не кричит караул, не выбегает «из своей хаты» и, словом, что у нас есть какое-то пошлое (или святое?) скопище частых людей и вовсе нет гражданства, общества. С Михаилом Петровичем, я помню, говорил не только «крупно», но и ядовито, злобно и господственно, когда дело касалось других тем, напр.: устройства семьи, развода и проч. Помню, как в белую петербургскую ночь, часу в 4-м утра, он встал с кресла, когда под самый конец сложного разговора о венчании я ему сказал: «Или это – не таинство, и тогда зачем оно? Как смеет государство придавать ему сакраментальную важность? А если оно есть таинство и это твердо в вероучении, то вся наша церковь повинна в симонии, так как ведь деньги, в строго выговоренной перед венчанием сумме, все священники берут, и это от митрополита до дьячка все знают». Тревожно он сказал: «Это только обычай!!» – «Обычай или необычай, но как церковь учит именно так и от ее взгляда на сакраментальность единственно венчания множество девушек и детей пошло с камнем на шее в воду, то уж позвольте и мне печатно размазать об этой симонии церкви, с которою на шее она также печально пойдет в воду, как безмолвные и растерянные девушки, при виде которых ни один батюшка не расплакался». А Соловьев, – нужно заметить, – церковь «почитал» еще больше, чем государство. Но отчего вот так же и с более яркими аргументами, потому что дело было еще очевиднее, я не говорил ему, что, как частный человек, он может ненавидеть таких-то и таких-то писателей, но государство дало ему власть не для проведения личных вкусов, а для охранения своих государственных интересов и соблюдения польз и, смею думать, удовольствий (литература, чтение) мирных обывателей? Так все ясно было! Невероятно, чтобы он не опомнился при кристальной чистоте души своей; чтобы, по крайней мере, не задумался, не стал менее решителен. Хотя как-то он никогда не «задумывался», а все – «решал», всегда только «шел». Думал он о Данте, а в делах – «указывал», «решал» и «подписывал». Таково было впечатление. Конечно, меня ли он не послушал: но гражданский долг обязывал разорвать с человеком, который «на большой дороге режет», а я с ним пил чай. И что поразительно: теперь я вот это пишу, но тогда самая мысль о протесте мне не приходила в голову, и равнодушным знанием я знал: «глупо! просто – чепуха! со стороны – смешно; а он, бедный, так уверен. И ведь не имеет никакого права». Что он не имеет права так поступать, – это я сознавал и тогда. Но он был кристально чист, я его искренно любил и уважал. И просто с ним «пил чай», не возмущаясь, не негодуя. Все мы – слишком частные люди, до бедствия – частные. Идиллия? «рай?» болота, вертеп? Все есть в «матушке-Руси», на все «матушка-Русь» похожа.
Гайдебуров (В. П.), редактор-издатель или, кажется, полу-редактор, полуиздатель (в этом все дело: тут вмешались права других сонаследников отца Гайдебурова, основателя «Недели»), решил обзавестись собственным, личным, другим органом и для этого у кого-то купил или сам основал еженедельную «Русь», и как здесь, в правах основателя, или открытия, или ведения, он зависел от главного управления по делам печати, ю Мих. Петр. Соловьев и решил «понажать его», чтобы он в ежемесячных «Книжках Недели» расстался с г. Меньшиковым и еще (не в столь настойчивой форме) Ник. Энгельгардтом. «Или слушайся, или не живи». Гайдебуров был поверхностно дружен (на «ты») с Вл. Соловьевым, которого за монашеский склад души, «девственно-дантовский», глубоко, с угрюмым лбом, чтил Мих. Петр. Соловьев, хотя последние годы и недолюбливал его публицистики. Но как личность, как ученого, как философа, вне сотрудничества в «Вести. Евр.», – Мих. Петр. стоял к Вл. Соловьеву в положении ученика, удивляющегося на учителя, считая его феноменом нашей литературы и жизни, человеком «старого», «исторического закала», и, словом,
Суровый Дант не презирал сонета, –
звучало в отношениях, точнее, во взглядах строгого государственника «школы Каткова» к пылкому мистику. Соловьев, прежде чем просить Мих. Петр. (за Гайдебурова), решил захватить и меня, вероятно предполагая по моим любящим о нем отзывам, что и обратно я могу на его повлиять. Об этой именно поездке говорят следующая его записка и две телеграммы:
«Дорогой Василий Васильевич.
Списался с Мих. Петр. – и результат: сегодня, 8 ч. веч. (не позже), вы должны находиться у меня в «Англии»[223] для дальнейшего совместного следования к вышеозначенному подсановнику. Так как я обедаю не дома, то если, паче чаяния, опоздаю на несколько минут, подождите меня в читальной, распорядившись, чтобы меня об этом швейцар уведомил при входе моем. Статью вашу передал Гайдебурову. Прилагая забытую вами у меня перчатку[224].
До вечера.
Ваш Вл. Соловьев».
«Лучше, если прибудете в 7? Постараюсь не опоздать. Циркуляр действительно существует. Советую обратиться к Суворину. Рассказать положение и взять под будущие статьи. Завтра письмом. На днях побываю. Придумаем что-нибудь.
Соловьев».
«Завтра пятницу, десятом часу вечера, буду у вас.
Соловьев».
Из всех хлопот наших, как и следовало ожидать, ничего не вышло. По-видимому, весь материальный мир, в том числе и государственности, есть мир каких-то надавливаний и ослаблений, нажимов и отжимов, где можно принуждать и решительно ничего нельзя выпросить. По крайней мере, я совершенно не помню случая, чтобы какое-нибудь мое ходатайство, просьба, нужда о себе или о ком-нибудь были в сфере «службы» и вообще деловых отношений когда-либо удовлетворены. Так что я так и считал, и считаю эту «государственность» каким-то адским местом, «геенной огненной», где люди предназначены вечно «гореть» и страдать, пока не зальют или не согласятся залить весь этот очаг зла, где ничего, кроме «скрежета зубовного», не раздавалось никогда и никогда не будет услышано.
Следующее его письмо относится к статье моей: «Поздние фазы славянофильства. Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев». Первый отдел статьи, о Данилевском, не встретил никакого затруднения при печатании; напротив, вторая его глава, о Леонтьеве, была отклонена по полному незнакомству и публики, и литераторов с этим замечательнейшим из русских мыслителей и стилистов и была лишь много лет спустя напечатана в литературных приложениях к «Торгово-Промышленной Газете», редактор-издатель которой Мих. Мих. Федоров хотя и был чиновником министерства финансов, однако оказался человеком гораздо более чутким и одаренным литературным вкусом, нежели литераторы ex professo:
«Дорогой Василий Васильевич!
Посылайте свою статью о Леонтьеве в редакцию «Московских Вед». Цертелев предуведомлен и согласен. С Ухтомским вожусь, но еще ничего не определилось.
Ни теократии, ни оттисков еще не мог добыть.
И остова нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
Ваш Влад. Соловьев».
По приписке слов из Молитвы Господней, вне всякого отношения к теме записки, видно, до чего Влад. С-в, как сказано в Библии об Енохе, «вечно ходил перед Богом». У него это было «постоянно на уме», – как (позволю отрицательные сравнения) у вора воровство, у картежника карты, у ловеласа женщины: но в каком обратном и исключительном и редком направлении!! «Было на уме» с этою же неодолимостью страсти, врожденной слабости и, словом, вне распоряжения личности и благоразумия. Отсюда-то и вытекло все значение С-ва: можно отрицать все его труды в их подробностях (как я, лично, недалек от такого отрицания, по особым и длинным мотивам, которые объяснять здесь не место); но самую личность его отвергнуть – невозможно, как нисколько эта личность не умалится, не сократится, как бы ни поколебались все эти подробности его трудов. Мне не кажутся его силы (кроме умственных, ученых) громадными: но в этих небольших размерах или, точнее, в этом рыхлом и пухлом объеме его существа была, однако, заткана некрепкими нитями настоящая структура пророка, пророческого духа, даже настоящей небесной пророческой миссии. От этого биография его, весь характер жизни и «жития» и, словом, весь духовный и литературный «портрет» его нимало не походит на другие портреты в нашей общественности и словесности, науке и философии; не сливается ни с которым, стоит одиноко. Именно пророк, хотя в слабом очерке… с придачею этой несчастной пухлости и вздутости, которая так затушевывала благородное существо дела и так многих и не беспричинно заставляла смеяться над его «пророческой ролью». Но нужно было уловлять внутренний нерв, – и тогда лица в отношении его стали бы серьезнее. В пору ту, совсем иную, чем как я сознаю себя теперь, и мне приходили на ум мысли «в этом роде» – и мысленно сам себе я казался иногда валаамовою ослицею, произносящею какие-то не свои, навеянные и нагнетенные «Бог весть – откуда» слова. Словом, самое то время, середина или конец девяностых годов, было как-то приподнято, одушевлено, совершалось страшное психологическое борение внутри общества, и это отражалось конвульсивностью на многих душах, к которым, кажется, принадлежал и я. Написав ему какую-то деловую записочку, я приписал в конце ее слова, которые до того мне самому показались странными, что я (чего никогда не делал) записал их и затем перенес на поля ответного его письма: «Братья мы истинные по духу: ибо закричали о чудесах, когда мир их исключил; убоялись Антихриста, когда мир не боится и Христа, и стали вопиять по стогнам и торжищам… Грехом и горестью воспитал нас Бог в таинственных предначертаниях, упоил гневом и нежностью, и мы пойдем и не утомимся, полетим и не устанем». Последние подчеркнутые слова цитата откуда-то, понравившаяся мне еще с университетской жизни и вычитанная, помнится (тоже как цитата без указания источника), в «Критическом Обозрении», профессорском журнале 1881 – 1882 гг. – Соловьев ответил мне:
«Дорогой мой Василий Васильевич!
Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры – в словах Вашей надписи относительно Царствия Божия. Кто одинаково знает по опыту и одинаково понимает и оценивает эти знаки, залоги или предварения Царствия Божия, – те, конечно, братья по духу, и ничто не возможет разделить их.
Книга Ваша будет для меня теперь желанной пищей, – как следует я ее еще не читал. – К исполнению поручений Ваших приступил. О результатах передам лично. Статья о Гёте очень интересна; жаль, что ее неудобно напечатать.
Будьте здоровы, голубчик.
Ваш искренно Влад. Соловьсв».
К сожалению, тона этого, так горячо и интимно задевшего нас обоих, никогда я не возобновил. Почему? Просто непонятно! Я думаю – суета, мелочи жизни. Очевидно, здесь вскрывался мостик в самую глубь его души, и я имел от нее ключ, и не вошел, и не посмотрел. Страшная потеря в смысле видения, опыта, возможного научения, Но я не писал бы этих воспоминаний и не печатал бы этих, в сущности не имеющих содержания, записочек, если бы не это его письмо и не это вообще секундное прикосновение такими глубокими «днищами» души. Года на письме опять нет, и я думаю, оно относится к 96-му или 97-му годам.
Затем, вероятно, много времени спустя, произошел инцидент со Шперком, о котором я рассказал выше. Книгу «Оправдание добра» Соловьев мне прислал в контроль с секретарем своим – при очень трогательной надписи. Мы были вполне дружелюбны. Потом при личной встрече он просил меня прочесть в ней VII главу, еще которую-то и «Введение». Но я ничего не прочел – от суеты и мелких хлопот, как мне тогда казалось, но, как теперь объясняю и даже ясно вижу, от неодолимого и все сильнее в меня внедрявшегося отвращения к чтению книг. Причина такого дикого и постыдного явления не может заключаться не в чем ином, как в преждевременно раннем чтении (лет с 10), притом совершенно запойном, без оставления себе какого-либо досуга, в воскресенье, на вакации летом, сейчас же утром встав и ночью. От постоянного чтения родные меня называли «книжным червем», т. е. что я ползаю и лежу в книге и что вне книги (чтения) – меня просто нет. Так продолжалось лет 25–30, пока струна не лопнула или, точнее, не начала медленно перетираться; и именно к самому нужному времени (начало старости) у меня вовсе утратилась способность чтения, кроме разве таких совершенно новых и оригинальных книг, как, напр. «Талмуд» или «Кабала» (если бы попалась). Да еще страницы Библии я люблю перечитывать. Но даже журнальную или газетную о себе статью я прочитываю с трудом, не всегда сразу по получении, а иногда на другой или третий день, и не всегда дочитываю. Соловьев, видя, что я совсем ничего не читаю из его книги, даже «Введения», естественно, мог почувствовать себя оскорбленным (как и я бы себя почувствовал). Отсюда – предположение, что я мог сколько-нибудь быть солидарен со Шперком, о дружбе и «слабости» моей к которому он знал: но этой солидарности не было, хотя Шперк имел на меня какое-то такое особенное действие, что я не имел сил и негодовать на него, как был бы должен, обязан. Книгу «Оправдание добра» Шперк взял у меня «просмотреть», и я не думал, что он будет о ней писать рецензию. В сущности, происхождение этой рецензии самое простое и пошловатое: 1) Шперк уже «просматривал» книгу, т. е. материал для рецензии и след. – для заработка (он, с женою и детьми, страшно нуждался в нем) был готов («чем читать и покупать другую книгу»); 2) Соловьева он не любил и не очень уважал, считая его «эстетическим, а не этическим явлением», лицом (см. выше), и 3) имел «зуб» на него (как и на меня) за то, что мы оба не читали (впрочем, Соловьев читал) и особенно что мы ничего не писали о его великих, изумительных брошюрах, где он превзошел Канта, опроверг германскую философию, открыл великие глубины русского духа и, в сущности, где (в поэтико-моральной части) он только перепевал напевы Ницше (года за два до того, как о нем пошла молва в русской литературе, но Шперк «открыл» Ницше действительно сам и самостоятельно). Нисколько он и не скрывал, что будет на нас всех (и на меня) за это молчание нападать и нас пересмеивать.
У него это имело обаяние открытости, борьбы: «Я теперь нищ, и вы не подаете мне копейки; когда я буду богач – я брошу вам камень». В нем была обаятельность начинающего разбойника, и ведь эта обаятельность есть, она бывает. По крайней мере, у меня руки опускались перед нею. Вот два письма Соловьева, написанные на другой и третий день после появления рецензии, которая мучительно задела его и по талантливости имела силу задеть:
«Дорогой Василий Васильевич!
В силу евангельской заповеди (Мтф. V, 44) чувствую потребность поблагодарить вас за ваше участие в наглом и довольно коварном нападении на мою книгу в сегодняшнем «Нов. Вр.» (приложение). Так как это маленькое, но довольно острое происшествие не вызвало во мне враждебных чувств к вам, то я заключаю, что они вырваны с корнем и что мое дружеское расположение к вам не нуждается в дальнейших испытаниях. Спешу написать вам об этом, чтобы избавить вас от каких-нибудь душевных затруднений при возможных случайных встречах.
Считайте, что ничего не произошло и что мы можем относиться друг к другу так же, как в наше последнее прощание на Литейном.
Что касается до Шперка, то, ввиду его молодости, я еще не решил вопроса, что педагогичнее: полная невозмутимость или нравственное негодование?
Будьте здоровы.
Искренно вас любящий Влад. Соловьев».
Письмо это не оставляло сомнений, что Влад. Соловьев действительно предположил, что я, будучи прямо дружелюбен с ним, одновременно за спиною его делаю такие махинации. Прямо я пришел в ужас от этой идеи и, сообразив, до чего было больно ему почувствовать вокруг себя такой обман, – написал ему горячейшее письмо, что ничего подобного, конечно, не было и не только я, но вся моя семья разразилась негодованием на Шперка, изумляясь непостижимой и неожиданной его выходке (он если и грозил походом на нас, то – отдаленно). Письмо мое рассеяло его подозрение, и он ответил мне следующим – последним, какое у меня имеется:
«Дорогой Василий Васильевич!
Слово “участие” относилось к тому факту, о котором я узнал от вас самих, именно что вы (зная Шперка и его отношение ко мне) дали ему мою книгу для каких-то его надобностей, прежде чем сами ее прочли. Эту несомненную обиду я решил вчера предать забвению, а если вы это приняли за подозрение вас в прямом уговоре со Шперком против меня, то даю вам слово, что такого подозрения я не имел и не имею, и прошу у вас извинения, что невольно – вероятно, неясностью своего письма – ввел вас в эту ошибку и причинил вам огорчение.
Я решительно не желаю менять своих отношений к вам, и, следовательно, – все дальнейшее вполне зависит от вас одного.
Искренно вас любящий Влад. Соловьев».
Точно сказать, что это – именно последнее письмо, я не могу: по всему вероятию, порядок недатированных писем мною перепутан. Он был слишком устал, и я был слишком измучен очень тяжелою в то время для меня жизнью, чтобы мы имели энергию вглядываться друг в друга. Его странствующая жизнь, его бесприютность не нравились мне, почти отталкивали меня. В трагическую сторону этого я тогда не проникал. Мне он казался более суетным, чем был, более «литературным», «журнальным», без пророчественной и священнической искры, которая в нем именно была, и была огромна: но я ее не видел, иначе как на секунду и сейчас же усомнившись. На этом именно моем непонимании был основан последовавший затем разрыв, вызванный моею о нем насмешливою статьею по поводу его «Судьбы Пушкина». «О вкусах не спорят» – и под защитой этой древней аксиомы я скажу тот простой факт; что к печатным его произведениям я не имел вкуса, кроме стихов, которыми зачитывался и тогда, и теперь. Склад его ума (на мой вкус, очень может быть, – неверный) и в связи с этим стиль его письма, весь дух его статей, – все, все в них казалось мне непоэтичным, нечарующим, только умным или ученым и, словом, без магии в себе. А по начинающейся усталости и старости я и тогда оставлял к чтению только вещи «с магией». Такими мне кажутся его стихи. Таким мне казалось всегда и все у Конст. Леонтьева (автор сборника «Восток, Россия и славянство»). Находя подобное, я, как ястреб в воздухе, становил боком голову и следил в лазури небесной орла – и любовался, и любил, и наслаждался. В последнем анализе – ведь мы все делаем для наслаждения, даже – умираем за правду. Из этого волшебного утилитарного или эвдемонического круга не выходит и не имеет силы выйти даже и терновый венец. Так и чтения. Так и литературные увлечения. «Не нравится» – это сильнее всякой причины и, в сущности, не нуждается в оправданиях, как и не может быть ничем подкреплено.
Фатальное и краткое это впечатление, в сущности, и легло между нами. Но хуже было и совершенно непростительно, что я за этою мне не нравившеюся («без магии») литературою не почувствовал вкуса и к самому его лицу, что было уже прямою и очевидною ошибкою, ибо в лице его, несомненно, была «магия», это «особенное и неясное, чарующее», к чему можно безумно привязываться. Но оно было самим им глубоко скрыто от мира, «застенчиво» спрятано. Кстати, VII главу его «Оправдания добра» я все же перелистал после его смерти и увидел, что там написано. Мне и раньше о ней говорили (юристы), что «это – совершенная новость в европейской литературе». Не могу цитировать, но скажу только, что там идет дело о «происхождении, генезисе и первой исходной точке нравственного в человеке и в человечестве чувства». Таким исходным пунктом, так сказать, начальною точкою, где впервые «зашевелилась и обнаружилась» эта стихия человеческой природы, – есть стыд, а именно – половой стыд. «Половая застенчивость» есть, таким образом, великое «А», с которого и началась вся последующая лестница нравственных добродетелей и нравственного развития; а самый пол, то, что ранее всего закрыл у себя человек, чего он первого застыдился, есть «А» реально-худых, аморальных в мире вещей. Без цитат все это тускло, но в цитатах читатель бы увидал, до чего все это движется «тяжелою артиллериею». Об этом-то именно пункте юристы мне и говорили, что это «новое слово в европейской этике», – и говорили профессора университета. Бедный Соловьев, который от мира скрывал и свою «магию», хороня ее как дар между собою и Небом. Завтракать – он завтракал и в ресторанах, с «друзьями». Говорил о всех темах открыто, громко. Но вот что в нем есть «дар пророчества», ну хоть какой-нибудь, – это сокровище своего сердца, величайшую радость жизни своей, свое утешение, свою гордость – только однажды он высказал (см. выше) в письме ко мне; высказал – и замолчал, и не «размазывал». Можно ли было бы представить себе, что, войдя на парадный обед, где, однако, собрались все его друзья и «почитатели», он, садясь, сказал развязно, громко и отчетливо: «Господа, вы знаете. Я пророк, во мне есть что-то жреческое и пророческое». «Умер бы от стыда» – если бы сказал. «Зарделся бы от стыда» если бы кто-нибудь об этом, в приветственном тосте, но тоже во всеуслышание, сказал ему и вместе всем гостям. А «наедине, в укрытости, в частном письме» – сказал бы. Это – застенчивость, стыдливость, а – не стыд: явления не только не тожественные, но противоположные, как черное и белое, как добро и зло, как день и ночь, как земля и небо!! Такова и застенчивость половая, в силу которой мы закрываем весь этот интимный и глубочайший мир в себе; закрываем, но не отрицаем, что он есть, и никто решительно не скрывает, – ни Адам, ни мы сейчас, что он проявляется, действует, не мертв. Разве мы скрываем, что у нас есть дети: целомудреннейшие «святые» женщины с гордостью показывают вереницу малюток, «своих» малюток, и показывают их тем, кто нисколько не наивен и знает способ их происхождения. Как и Соловьев «книжку стихотворений» своих дарит, а вот, садясь написать новое, – запирался, бывало, на ключ. И если бы кто-нибудь постучал в дверь, ответил бы или сказал бы вошедшему гостю, особенно чужому и постороннему: «Да – был занят», «писал статью для журнала» (мир суеты, поверхностное); но ни за что бы не сказал: «Был во вдохновении! писал стихотворение». Отчего? Слишком хорошо и – священно. Похоже на алтарь, на храм, а не на базар. Разве бы другу, самому близкому, и только окончив стихотворение, он сказал: «Садись и выслушай» или: «Вот, прочти»?.. Да, другу, близкому, «кусочку души своей». Это – мир интимного, неразрываемого, цельного, «своего я». Так и пол – не несется на базар, ибо он по существу своему есть не базарное явление: отчего нас так и поражает, так заставляет гнушаться собою проституция, как глубочайшее извращение вещей и как обазарнение святых, интимных и дорогих частиц, нашего «я». А думают: «оттого, что это – разврат», что «это по существу такая вещь, которая все пачкает и даже запачкало наш рынок», где биржа, плутовство и грабеж. Не запачкало, а запачкалось около рынка, грязи, суеты, обмана, денег: запачкалось то, что всегда должно быть чисто, свято, уединенно, сокровенно, иметь окружением себе, крыльцом около себя такое «святое» явление, как семья, как муж и дети, родные и родство!! Таким образом, Соловьева, да и не его одного, а тысячи людей, ввела в философский и этический обман самая шаблонная терминология («проститутки грязнят рынок») и необдуманно составленные слова («стыд пола» вм. «застенчивость пола»), вообще – филология. И он тайну принял за преступление. Стихи его, стихи и все стихотворное творчество, «стыдливое», «застенчивое», «при запертых дверях», – вот что пусть опрокинет эту VII главу его «Оправдания добра», о которой я бесконечно сожалею, что не прочел ее сейчас же по получении книги: ибо до того очевидны и вместе так метафизически важны простые истины, ее опровергающие. «Покров Изиды», «Таинства Изиды и Озириса», «Элевзинские таинства»… сколько прозрений в историю он мог бы сделать, если бы не написал или вовремя отказался от этой VII главы. Он увидел бы, что с этого «самого интимного и дорогого человеку» и началась вообще религия, религиозное в человеке, а не пороки и преступления, которые скорее начались «с базара» и «на базаре» – и становятся всего омерзительнее, когда «и самое святое выносится на базар».
Не могу не обратить этих слов в особенности к вниманию молодой и. прекрасной (если не обманет) надежды нашей литературы, сына его покойного брата Мих. Серг. Соловьева Серг. Мих. Соловьева. Он очень, по-видимому, размышлял над этими темами; ему – долго жить, много писать. Тема эта – великая, необъятная. В ней можно совершенно запутаться, войдя не в ту дверь. И мне хочется указать ему настоящую. Все изложенное мною о VII главе моральной философии и есть ответ, который мне тогда же хотелось, но я не мог дать на некоторые резкие, но полные непонимания его упреки в отношении меня, помещенные в письме-статье о любви и поле в «Вопросах Жизни» за 1905 год. «Покрывала Изиды не надо открывать», т. е. подымать его перед миром, показывать, делать находящееся под ним базарным: не надо, ибо тогда тотчас «Изида и божество» превратилась бы в ничто, персть, может быть, – гниль, зловоние. Ей-ей, молитвы и не было бы, начни ее выбивать на барабане; но самому и уединенно, ночью, крадучись, можно и нужно «войти под покров Изиды», «чтобы научиться всякой мудрости». И назавтра сказать, что ничего не было и нигде не был. Так именно хорошо был затаен Нафанаил, «которого никто не видел» – кроме Христа…







