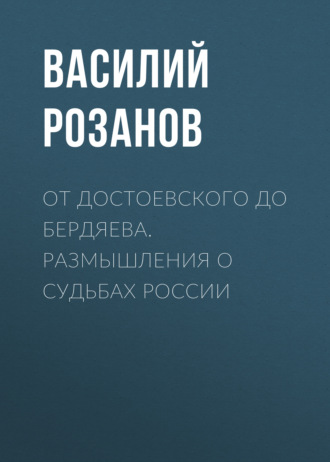
Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
XXVI
И в самом деле, если для других людей земная смерть наступает лишь в относительном, условном смысле, то для гения она наступает в значении абсолютном и совершенном. Являясь промежуточным звеном в истории, каждый человек несет в себе жизнь, принятую от другого, и, умирая, передает ее своему преемнику; один гений только принимает, но уже никому не передает жизнь: она угасает в нем – для вечной жизни в его созданиях. Во всяком случае, из сферы человеческого существа он уходит, теряет свою связь с его образом. Как человек есть грань органического процесса, где он заканчивается, не продолжаясь далее; так гений есть грань и предел человечества, в лице которого оно (частично) потухает. Таким образом, в то время как для всякого иного существа смерть есть только индивидуальное умирание, только упадание отдельной волны в воды океана, который сам остается, – для гения смерть есть родовое, и даже более – органическое умирание: в нем не волна всплеснувшая упадает, а пересыхает сам великий океан. Отсюда понятно то особенное чувство, которое он несет в себе, и особенное и странное ощущение, которое испытывают все, кому случится соприкоснуться с ним. Его внутренний мир не похож на внутренний мир других людей, и судьба его иная, чем их; есть действительно несоответствие в их психическом строе.
Внешним образом это выражается в том, что в гении заканчивается род, его породивший, вся энергия которого без остатка преобразуется в его психическое творчество. Если мы возьмем важнейшие сферы исторического созидания и выделим всех великих людей, трудом которых они воздвиглись, то заметим, что ни в одном из этих людей не было нарушено раскрываемое нами соотношение между силой индивидуального творчества (духовного) и слабостью родового (физического). Именно, всякий раз, когда творчество было безусловно гениально – безусловно пресекался в творящем род его (gens); а когда оно было близко к гениальному – род продолжался, но или только в лице женского потомства, то есть не несущего в себе энергии дальнейшего органического созидания, или если и в мужском, то в чрезвычайно хилом, малоспособном физически и духовно, редко достигающем полных лет и обыкновенно угасающем в первом же колене. В политической истории этим объясняется, почему за всеми великими царствованиями следуют или междоусобия (в случае совершенного прекращения династии в лице великого государя), или чрезвычайное замешательство, ухудшение и даже остановка всех дел (в случае продолжения династии в лице малоспособных преемников великого государя). Достаточно указать на судьбу Греции после Александра Великого, Рима – после Цезаря, средней Европы – после Карла Великого, России – после Иоанна IV и Петра I, чтобы объяснить мысль, которую мы высказываем и для полного подтверждения которой нужны бы обстоятельные исторические исследования, здесь неуместные. Но мысль эта находит еще более подтверждения, если от политического творчества мы обратимся к чисто духовному: Фидий, Рафаэль и Бетховен в сфере искусства, Платон и Аристотель, Декарт и Бэкон, Спиноза, Лейбниц и Кант в сфере чистой мысли, Коперник, Кеплер и Ньютон в сфере точного знания и почти все великие поэты – оправдывают в высшей степени это соотношение, в размерах дарования своего и отсутствия или слабости потомства представляя все оттенки, все переливающиеся степени этого соотношения. Нельзя указать в истории ни на один род, который выдержал бы появление двух гениальных в себе личностей; если он заканчивается высокими дарованиями и их несколько – они только талантливы (семья Бахов в музыке); гений же истинный всегда и совершенно истощает в себе силы своего рода, и они должны быть значительны и ранее нисколько не растрачены в исторической деятельности, чтобы он был действительно велик. Этим объясняется, почему в момент высшего расцвета национальной жизни, когда появляется столько гениального в ней, на историческую сцену вдруг выступают новые роды, ничем особенным ранее не проявившие себя, хотя бы высокие по общественному положению (напр., Кай Гракх, Сулла и Цезарь в Риме), и они совершенно затмевают собою старые деятельные роды (род Фабиев в Риме): эти последние в долгом историческом труде уже настолько истощили свою энергию, что хотя и теперь еще продолжают выделять из себя даровитые личности, но уже не могут, как прежде, вести вперед историю. Ее ведут в этот последний момент и заканчивают гении, в духовных силах которых сосредоточена нерастраченная энергия дотоле неизвестных родов, и она растрачивается в них одновременно и вся, потому что и роды эти, произведя гениальную личность, угасают с нею или вокруг нее, лишь недалеко отойдя от нее во времени.
Есть много мелочных, но любопытных черт и в физической организации, и в частной, внутренней жизни каждого гениального человека, которые все подтверждают только что высказанный взгляд на него. Подобно тому, как в органической природе натуралисты замечают, что жизненная энергия, уже выразившаяся в одной форме красоты, не выражается ни в какой другой ее форме, вследствие чего, например, красота оперения у птиц не совпадает со звучностью голоса; так и в чертах гения, красотою созданий которого мы любуемся, мы видим часто померкнувшей обыкновенную физическую красоту. И если, пораженные этим явлением, мы глубже будем всматриваться в черты его лица, мы откроем в них не только отсутствие красивого, но часто и присутствие чего-то отвратительного, отталкивающего (напр., лицо Декарта или еще Канта). Тусклый, чаще всего неподвижный взгляд, неприятное сложение рта, наконец, как замечают многие, нарушение самой симметрии в строении лица (неполное подобие правой и левой стороны его) – все это вскрывает перед нами самую глубь гения, в котором органический строй человеческого тела уже пошатнулся, ослабел центр его и не сдерживает более в гармонии соответствующих друг другу частей… Все полно смерти и разрушения.
XXVII
Если, вчитываясь в биографии великих людей, мы обратим внимание на возраст, в котором возникли их великие создания, мы с новой стороны увидим подтверждение всего сказанного. Несомненно, что самое выполнение этих созданий и техника творчества есть нечто второстепенное и незначущее сравнительно с самым замыслом их; и в этом отношении представляет величайшую важность точное определение времени, когда возник этот последний по отношению к каждому единичному произведению. Насколько мы имеем в точных биографических данных подобные определения, они относят возникновение всех великих замыслов, исполнение которых видела история, ко времени первой молодости гениальных людей; позднее 30 лет едва ли была создана хоть одна великая идея, задуман политический план или вспыхнул образ художественного создания. С этого времени обыкновенно наступает уже исполнение замысла – то, что мы назвали выше техникой творчества. Гёте и Ньютон, глубина созданий которых, казалось бы, безусловно исключает всякое представление о молодости, в действительности именно в этом возрасте задумали – первый своего «Фауста», а второй – все свои великие теории, и между ними теорию всемирного тяготения; великие же открытия его в математике (теория флюксий, бином и др.) все сделаны были приблизительно на 23-м и 24-м годах жизни. В этом же, приблизительно, возрасте Декарт открыл аналитическую геометрию и принципы новой философии; Бэкон задумал «Novum Organon»; немного старше этих лет Рафаэль и Моцарт сошли в могилу, создав ряд творений, которые впервые шевельнулись в них, в неясном образе, без сомнения в годы почти еще отрочества. Как будто какое-то глубокое и скрытое колебание происходит в организации гениального человека в возрасте, когда обыкновенно наступает для человека время физической (половой) зрелости; станет ли он, в ряду других людей, только продолжателем своего рода или создаст чудные произведения в сфере мысли, искусства или политики – все это определяется в этот момент, все остается скрытым до времени, пока не наступит разрешение указанного колебания. Что обусловливает это решение в одну или другую сторону – мы даже и догадываться не можем. Но вот оно совершается; вся органическая энергия, именно теперь достигшая полного внутреннего напряжения и уже готовая бы передаться в том же виде потомству, вместо этого через какой-то неисследимый акт преобразуется в психическую; и, в одно время, и потухает в нем род, и зарождаются чудные замыслы будущих творений.
Есть только одна черта, которая отличает гениальное создание от всех других, не гениальных, того же рода: оно полно жизни, оно неугасимо живет среди людей, сковывая их мысль своею мыслью, порабощая их чувства в нем разлитым чувством, покоряя их волю, если относится к сфере политики, нравственности или права. Никогда даже не пытались определить, откуда истекает эта особенная жизненность всего гениального. Но после всего изложенного выше это должно быть ясно: оно несет в себе жизнь бесчисленного ряда людских поколений, которые не произойдут больше, которые угасли, не появившись – для вечной жизни в объектированном создании. Тот, в ком произошло это странное, глубокое и таинственное явление, имя кого не сойдет более с уст людей, сам стоит среди них, погруженный в себя, с потухающим взглядом, – и они называют его «гением».
XXVIII
Если бы мы захотели дать себе отчет, что между гениальными созданиями человека есть самое вековечное и наиболее достойное, то, после некоторого колебания, без сомнения, назвали бы сферу религиозного и нравственного. Если другими созданиями гения человек наслаждается и, наслаждаясь, тоскует по каком-то и далеком и близком мире, который ему, однако, не открывается в них, – то, встретив религиозное или нравственное, он вдруг перестает искать иных и закрытых миров, о которых он почему-то знает; начинает любить это религиозное и сливается с ним так тесно своею душой, что всегда почти предпочитает расстаться со своею жизнью, нежели расстаться с ним. Преобразуется ли при этом душа его, или именно оно, это религиозное, и становится самою душой в нем – об этом мы не можем судить; но только история свидетельствует нам всем своим содержанием, что хотя ни в какой религии не говорится ни о чем осязаемом и грубо известном, хотя никому она не обещает никаких благ, и особенно – благ земных, также осязаемых и уже, несомненно, известных – однако целые народы поднимались на защиту того, что в этой сфере они считали истинным, и погибали без какого бы то ни было сожаления о том, что гибнут. Напротив, их лица светились радостью, они благословляли свою смерть за такое дело и умирали с надеждою на какую-то иную и вечную жизнь. В религии то, что наступает для человека за гробом, и есть именно самое значущее и важное; земная же жизнь человека есть только ничтожный обрывок целого, не имеющий вне отношения к нему никакой важности. Равно и все, что он создает в этой жизни гениального или вульгарного, чему хочет и пытается придать значение абсолютного – религиею рассматривается как второстепенное и временное; а главное – она учит – там, за гробом, куда не унесет человек созданий своего гения, куда он уйдет один, оставив по сю сторону все, что его так радовало или забавляло при жизни.
И удивительно, что все эти учения о том, о чем никакое внешнее чувство и никакой предмет не говорят человеку, он принимает с совершенною твердостью и повсеместно. Соберите перед несколькими простыми людьми, вечно жившими только грубым опытом, тесным знанием окружающего, толпу ученых, и если они станут им говорить о том, что земля есть шар, который они объехали кругом, сперва как бы спустившись вниз и потом поднявшись вверх, – слушающие найдут это маловероятным и не поверят, найдут противоречие с этим в своем ежедневном опыте и отвергнут как чудесное и невозможное. Но вот перед эту же толпу людей приходит человек, почти столь же простой, как они сами, и начинает говорить им о том, что, когда человек умрет и все видят его труп, он, в сущности, не умирает, но только переходит в иную жизнь, радостную и вечную; и ia же толпа, которая на уверения ученых упорно и тупо молчала, услышав эти совершенно необыкновенные слова, радостно и твердо говорит: «Да, это так, это будет», хотя совершенно не знает, как это будет, и почему, и где эта удивительная жизнь за гробом. Какое странное различие в восприятии истин равно маловероятных, равно неизвестных из окружающего, и где причина этого различия – подумано ли об этом достаточно?
Итак, мы должны признать существование в человеке некоторого темного инстинкта, где хранятся его религиозные влечения или идеи и который до времени остается как бы безжизненным, но пробуждается навстречу идеям и влечениям, идущим извне. У одних людей этот инстинкт находится как бы в скованном состоянии и его содержание скудно, у других же он полон жизненности и обилен по содержанию: но по чрезвычайной его распространенности в роде человеческом – мы должны думать, что совершенно нет людей, у которых бы он отсутствовал, хотя и есть между ними вполне отвергающие религию. Как у слепорожденных и глухих мы находим органы зрения и слуха, но только недоразвитые и от этого одного не действующие, – так и у людей, искренно и правдиво говорящих, что они не чувствуют в себе ничего религиозного, объективно мы должны признать существование этого общего человечеству инстинкта, но лишь в состоянии зачаточном, болезненно недоразвившемся, который потому и не действует.
Его проявление в истории образует то, что мы называем религиями, но, конечно, рассеянные черты религиозного проникают всю жизнь человека, сопутствуют словам его и поступкам, когда они и не имеют прямого отношения к религии. Каждое доброе чувство к ближнему, радость на чужое счастье, высказывание правды, когда оно почему-либо трудно – все светлое и, мы готовы сказать, истинно жизненное на земле есть религиозное; все то, что успокаивает нашу душу и исполняет ее чувством счастья, совершенного и вечного удовлетворения, – таково лишь в силу религиозной природы своей.
Но это – только черты религиозного, то есть отделившиеся части чего то, что существует и как целое. Природа человеческой души, ее существование за гробом и отношение там к чему-то высшему и безусловному, с чем она имеет какое-то сродство, неощутимую связь – вот что составляет это целое, рассеянные черты которого мы так любим в своей жизни. Любопытно наблюдать, как неодинаково у различных народов, населяющих землю, выражаются эти главные, составные части всякой религии. По мере того, как мы спускаемся к низшим и низшим расам человечества, мы видим у них религиозные представления все более грубыми или недостаточными, суживающимися и затемненными. Как будто то, через что проходит в человеческую душу религиозный свет, становится все меньше по мере того, как мы отходим назад в историю или спускаемся вниз по ступеням развития человеческого рода; и увеличению этого света повсюду сопутствует возрастание совершенства человеческой природы, как духовной, так и физической. Но окончательно этот свет нигде не угасает, и, можно сказать, где он начинается – там начинается человек.
XXIX
На различие в религиях, которое породило столько неправильных отношений к себе, мы должны смотреть как на степени, как на несовершенные усилия слабой природы человека правильно отнестись к тому, к чему истинное отношение существует одно. Их содержимое – то, к чему стремятся все религии, чего они все ищут, – есть одно для всех людей, и одинаково они чувствуют это, но по различию своей духовной организации, по неодинаковому уровню своих способностей не умеют придать единство и общность выражению своего чувства. Но так как правдивость, глубочайшая сериозность есть общая черта всякого отношения к религии, то каждое племя человеческое, вместо того чтобы притворно поклоняться совершенным способом, которого оно не понимает – у себя наедине и скрываясь от взоров остальных людей, поклоняется горестно и несовершенно, но правдиво и сериезно тому же высшему, чему поклоняются и все люди; поклоняется в жалкой и неумелой форме. Тайное и глубокое сознание несовершенства своего поклонения, вероятно, присуще всем низшим религиям, и от этого именно они тщательно скрывают от других народов точное знание себя, окутываются мраком и таинственностью. Если бы кто-нибудь, приобретя это точное знание о религиозных представлениях какого-нибудь племени, сказал людям, принадлежащим к нему: «Только-то вы понимаете о том существе, которому поклоняетесь, – вот все, что я у вас узнал о нем», – они, без сомнения, резко отвергнули бы полноту его сведений, со стыдом и трепетом, но и с ненавистью к спрашивающему, который их мучит за малоспособность, – и в ней они не виновны. В этом отрицании и высказалось бы признание несовершенства своего поклонения, а в этом стыде и трепете – чувство беспомощности своей подняться к высшему и лучшему.
Некоторое подобие этих различий мы можем найти в других сферах человеческого творчества: все люди имеют некоторые геометрические представления (например, что тела природы, кроме длины, ширины и высоты, не имеют еще никакого четвертого измерения), но не умеют сколько-нибудь правильно выразить их; другие, уже наученные несколько, умеют выражать, хотя и не в строго научной форме, ошибаясь и путая, свои геометрические понятия, более сложные, чем те, которые знакомы всем людям; по мере возрастания годов учения и в меру способностей учащихся – эти знания, их точность и обширность возрастают; но и те, которые, отличаясь даже гениальными способностями, всю долгую жизнь свою посвящали изучению математики – знают, что многое в ней остается скрытым от них. Итак, область действительных истин о пространстве и его формах неизмеримо обширнее того, что усвоено и, может быть, что усвоимо человеком. Так и в сфере религии полнота истины скрыта от человека, и даже части этой истины, одни данные в удел ему, он выражает менее совершенно и более совершенно, по мере даров природы, которыми наделен. Быть может, еще ближе подойдет уподобление, взятое из сферы чувства: за то, что близко и дорого дикарю, что ему родное – он, как и высокоразвитый человек, отдает свою жизнь; но выразить свое чувство к нему он не может иначе, кроме как в нескольких бедных словах, простых и неукрашенных, порою бессвязных. Прислушайтесь же к тому, что говорит об этом самом дорогом существе высокоодаренный человек: он окружает его поэзией – то рассказывает о нем вымыслы, то поет его в песне, то мудро рассуждает о его значении. Однако чувство обоих, в силе своей и достоинстве, остается одно.
Поэтому сознание своей ограниченности должно быть присуще каждому религиозному человеку; и вместе – чувство сострадания ко всему, что не может воспринять религиозного, даже и в той несовершенной форме, в какой оно стало уже доступно ему. Полный примирения взгляд на все религии, радость религиозному чувству в другом, в какой бы неумелой форме оно ни выражалось, при совершенно твердой уверенности, что истинная форма такого выражения есть только одна – все это должно стать естественным последствием такого живого отношения к религии и глубокого сознания человеческой слабости.
XXX
Важнейшее различие между религией и между другими сферами человеческого творчества заключается в неодинаковом отношении их к своему объекту. Возьмем ли мы искусство, государство, науку, – в каждый момент своего существования, в каждом единичном своем проявлении, они лишь слабо сознают свое отношение к общим и неподвижным объектам, в них выражаемым: к красоте в самой себе, к благу в самом себе, к истине в самой себе. Главное, значущее в них, есть они сами: данное учреждение или закон, данное познание того или иного предмета, эта статуя, эта картина. Напротив, каждая религия и во всякий момент своего существования бывает полна сознания своего объекта – того Вечного Существа, к которому она относится; и каждый отдельный акт в ней, каждый предмет или явление в ее сфере постоянно обращены бывают к этому объекту, вне связи с ним не имеют вовсе никакого значения. Таким образом, центр, связующий и объединяющий все порознь создания в известной области, слаб повсюду, кроме религии, и каждая такая область является перед нами как мир отдельных и самостоятельных предметов, но только сходных между собою, например скульптура – как ряд скульптурных произведений, наука – как совокупность исследованных фактов и также все прочее подобное. В религии же этот связующий и объединяющий центр могущественно господствует над всеми отдельными ее проявлениями, и о всякой религии мы скажем, что она есть поклонение Богу, совершающееся так-то, но никогда не скажем, указывая на группу предметов (ритуал) или фактов (история), что они суть религия.
Таким образом, в то время, как о других сферах творчества мы еще можем думать, что в них дух человеческий хочет выразить только богатство своего содержания, – о религии мы должны сказать, что в ней дух человеческий своего ничего не имеет – он только ищет, стремится. В ней мы открываем, наконец, объект, к которому направляется психическая деятельность человека, здесь именно наиболее напряженная, самая прекрасная, вековечная. Самый характер этой деятельности здесь настолько изменяется, что нам странно назвать ее «творчеством», как мы называем ее всюду: действие объекта становится так сильно и настолько ясно, что мы называем ее «восприятием».
Но здесь мы достигли границы как предмета, который исследуем, так равно и самого исследования. Вечное солнце, скрытый центр жизни, под далеким лучом которого некогда впервые шевельнулось вещество особенно и своеобразно и затем потянулось к нему куда-то, с каждым шагом приближения становясь все оживленнее и прекраснее – этот центр нам открывается, наконец, в религии как объект ее. Без какого-либо перерыва, следя за рядом восходящих существ, развивающихся одно из другого, мы, наконец, достигли грани его – человека, на котором цепь органического восхождения прерывается; но, достигнув этой грани, органическая энергия не останавливается, а, преобразовавшись в психическую, является в человеке как сила по-прежнему движущая и устрояющая, но уже не его самого, а его создания. Следя и здесь за восхождением, которое продолжается, как и прежде, но только с иными внешними чертами и в иной сфере, мы отмечаем как предварительную ступень его – образование человеческих рас, и затем в последней и предельной из них – кавказской, находим историю. В этом новом и своеобразном явлении природы процесс восходящего творчества выражен особенно ярко и резко, и в нем появляется черта, которая впервые бросает свет на общий смысл всего восхождения, на его вероятный конечный исход: каждое поднятие по ее ступеням, всякий акт психического творчества сообразно мере своей сопровождается ослаблением организации, из которой он исходит; человечество тает, восходя куда-то и по мере того, как восходит. Находя различия в силе и красоте творчества, мы отыскиваем высшую грань его, непереступаемый предел – в гениальном; и, присматриваясь к нему внимательнее, видим, что в нем завершается история и оканчивается человек: первая не восходит более и физические черты второго расшатываются и гаснут. Сравнивая различные сферы, где проявляется гений, с целью отыскать высшую между ними и в ней снова открыть нить восхождения, мы останавливаемся на религиозном, как высшем на земле и драгоценнейшем для человека. Более чем где-нибудь, достигнув этой сферы, человек обнаруживает беспокойство, силится освободиться от чего-то тягостного, сбросить с себя что-то, и лишь настолько, насколько не успевает в этом, остается еще неудовлетворенным. Чувство окончательной удовлетворенности есть самое замечательное и совершенно исключительное, что приносит с собою человеку религия, и этот факт полон самого глубокого смысла. Великий Гёте, счастливый и спокойный, каким мы привыкли считать его, сказал однажды, что если собрать все минуты его жизни, когда он был счастлив, то их едва наберется несколько часов. Какое грустное сознание, какая глубокая тайна всей жизни человека высказана в этих немногих словах: как беден и жалок, как слеп представится нам этот прозорливец-гений, если мы сравним его с каким-нибудь убогим странником без имени, который, кажется, должен бы вечно проклинать судьбу свою и вместо этого показывает нам веселое лицо свое, говорит, что у него есть что-то, вследствие чего он никогда не может быть несчастлив.
Нам остается сказать только несколько слов, чтобы закончить мысль свою. Если в других областях творчества только созидание, но не восприятие созданного вызывает в большей или меньшей степени угасание физической организации человека, то в сфере религии не только созидание, но и всякое очень сильное восприятие созданного сопровождается подобным угасанием. И здесь лежит объяснение аскетизма – этой особенности религиозной жизни, которая такою глубокою и резкою чертой отмечает всякое повышение религиозного чувства и так странна для всякого внешнего наблюдателя, так необычайна в истории. Аскетизм, налагаемый на себя человеком, есть лишь смутное предчувствие глубочайшей тайны, заложенной в существо его, только предварение вечной и необходимой судьбы его на земле. Достигнув своей цели, процесс достижения прекращается; когда она появляется – средства становятся более не нужны и рассыпаются: таков общий закон всякой целесообразности, и он не нарушается в человеке, как и нигде в мироздании.
На этот исход человеческого развития мы не должны смотреть с грустью, но радостно и с надеждой: природа целесообразности такова, что в ней последующее никогда не бывает низшее сравнительно с предыдущим, и цель всегда лучше, нежели какое-либо из средств. Вот почему всякое сожаление о разрушении последних есть только ошибка чувства, не руководимого мыслью. Нечто подобное тому глубокому явлению, которое совершается в природе, когда органическая энергия преобразуется в психическую, совершается, без сомнения, и в момент окончательного угасания физической организации человека. В чем заключается это явление и какая иная и высшая форма существования, нежели психическое, наступает для человека за этим угасанием – об этом мы ничего не можем знать; но все аналогии в природе заставляют предполагать ее, и об ней говорит религия как о чем-то светлом и радостном.
Скажем еще несколько слов об отношении объекта религии к объектам других сфер творчества. Истина в самой себе, которую ищет человек в знании; красота в самой себе, которую он выражает в искусствах; добро в самом себе, частицу которого неполно и несовершенно осуществляет в государстве, – все это при сколько-нибудь внимательном анализе обнаруживает себя как свойство чего-то, а не как самостоятельное существо. И здесь, нам думается, лежит объяснение слабой связи этих сфер творчества со своими объектами, которые все суть только признаки. Если мы станем искать, что же связует в себе эти признаки, что является существом безусловно истинным, безусловно благим и высшим, нежели всякая красота, – то мы найдем, что, по общему сознанию всего человечества, оно есть то самое, на что указывает ему религия. Таким образом, объект этой последней является, в своих вечных и безусловных атрибутах, объектом и всех иных сфер творчества человека в истории, и что бы последний ни совершал, к чему бы он ни стремился, зная или не зная, он всегда, в сущности, стремится к одному. Религия поэтому есть объединяющий центр человеческой жизни, и она остается таковою даже и тогда, когда ее имя не произносится. Можно идти к предмету и не видя его; и все те, которые восставали когда-нибудь в истории против религии, насколько при этом искали истины – приближались к ней. Но эта смесь истинного и ложного есть всегда свидетельство ограниченности человека: те, которые были наиболее свободны от этой ограниченности, в какой бы сфере они ни трудились, – всегда чувствовали этот общий центр их; от этого величайшие художники были религиозными (Рафаэль, Мурильо); высшие произведения зодчества суть храмы (Парфенон, готические кафедралы); и те, которые были наиболее мудры из людей и раскрыли для человечества самые глубокие тайны мироздания, в какое бы время и среди какого народа они ни жили – всегда были религиознее своего времени и своего народа (Аристотель, Ньютон, Фарадэй). И можно вообще сомневаться, был ли в истории хотя один человек, который при несомненном величии духовных даров своих, и в особенности при величии мысли, – в то же время был бы не религиозен.
Мы коснулись внутренней стороны процессов природы, руководимые одним явлением в ней, самым глубоким и таинственным – явлением красоты. При этом мы обошли молчанием проявления ее в холодной, безжизненной природе – самой темной в мироздании, наиболее далекой от человека и всего менее для него постижимой со своей внутренней стороны.
Было бы несогласно с требованием осторожности, если бы, оканчивая это исследование, мы снова не оговорили той степени достоверности, которою обладает оно; эта степень крайне недостаточна – она гораздо ниже той, какая всегда почти может быть соблюдена при исследовании внешней стороны природы. Но в той среде, где вращалось наше исследование, и не остается ничего другого сделать, как только, введя свою мысль внутрь изучаемого предмета и продолжая свободно и правильно раскрывать ее – смотреть: точно ли отвечают формам этой раскрывшейся мысли внешние наблюдаемые формы самого предмета. В случае их соответствия, есть высокая вероятность думать, что мысль, избранная нами для объяснения предмета, действительно выражает его скрытую, внутреннюю природу.
Эту степень вероятия, оглядываясь на пройденный путь, мы можем признать за мыслью, положенною нами в основу объяснения двух великих сфер природы – органического мира и человеческой истории. Сила целесообразности, являющаяся в первом как органическая энергия, зиждущая, устрояющая и совершенствующая его в частях и в целом, – во втором является как психическая деятельность, которая, нарастая во времени (в силу целесообразной природы своей), становится творчеством. Таким образом, две объясняемые сферы природы, запечатленные одинаковою чертой – присущим им развитием, являются носителями одного и того же начала, но которое проявляется в каждой из них в различной форме. Глубокая соотносительность между органическою энергией и психическим творчеством, которую мы проследили фактически на явлении красоты в природе и во всех важнейших, всеобщих явлениях истории, заставила нас признать это единство; а нарастание во времени этого общего для органического мира и для истории начала, в связи с законом возрастания энергии всякого явления по мере приближения его к своему источнику, побудило нас признать это начало за целесообразность.







