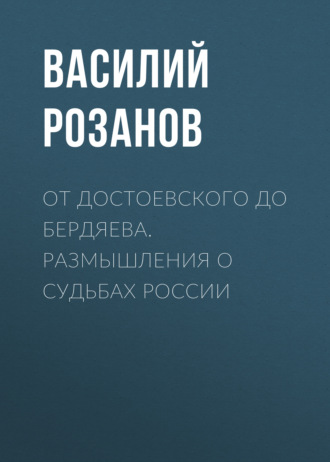
Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Довожу из Бердяева, и посмотрите, как хорошо все дело у москвичей, если откинуть злые словечки:
«Для интересующего нас типа религиозного сознания характерна неутолимая жажда возврата (подчеркивает Бердяев), бегство от современности в материнское лоно Церкви, вечное (дальше я подчеркиваю) обращение в христианство, которое никогда не может быть завершено. Творческие силы этого течения надорваны вечным покаянием мысли, самоопределением, отрицательной реакцией против своего прошлого, против интеллигентского сознания. Представителям этого типа религиозной мысли кажется смелым и дерзновенным их возврат к христианству, к православию от интеллигентского неверия. Они почти любуются (то «надорваны», то «любуются». – В.Р.) тем, что стали православными, церковниками, конкурируют друг с другом в степени своей ортодоксальности и церковности, детски радуются этому своему новому положению в мире. Но внутри самого христианства они не обладают смелостью почина, они лишены творческой силы. Они модернисты не потому, что вступают на путь религиозного творчества, а потому, что не могут победить в себе раздвоенности современных людей. Но самолюбие их направлено на то, чтобы быть как можно более ортодоксальными, как можно более верными древним преданиям. Они хотели бы постепенно принять все историческое здание не только Церкви, но и церковно-бытового и церковно-государственного строя, эстетически запугивая себя и других уродством всего нового, современного, творимого человеком… Люди этого религиозного типа роковым образом лишены религиозной цельности и особенно жадно ищут цельности в возврате к старой ортодоксальности, к былой органичности. Они вечно осматриваются, озираются назад, убегают от себя и своего времени и этим обессиливают себя, не могут найти в себе твердой точки опоры для творческого движения вперед. Это течение обладает довольно высокой философской культурой и отличается большой сознательностью, даже слишком большой. Возврат к православной цельности и к православному примитивизму в этом течении насквозь сознательный, надуманный, философский, культурный, умственный. Наивности переживания и наивности мысли в этом течении нельзя найти. Наивно и непосредственно переживать можно лишь свое новое, современное, впервые творимое. Старое же, былое, сотворенное другими, можно пережить лишь сантиментально, рефлективно-сознательно»…
Конечно, от себя и вновь создавать можно живее; но ведь «создашь» на час, создашь личное уродливое, – если дело касается таких великих вещей, как создание религиозное, как сотворение церковное. Отсюда совершенно правилен принцип традиционности, преемства в Церкви, в государстве, да отчасти в искусстве, в литературе, во всем крупном и коллективном. Ведь послушаешь Бердяева, – придешь к такой чепухе, что каждое поколение «для свежести и правды» должно сочинять новую религию, ибо это будет тогда «свое и энергичное творчество»; послушать его, – и «христианами даже нельзя быть», ибо что же «все повторять старые истины из Евангелия». Словом, мы тогда очень далеко уйдем, только это будет все «дальше 11-й версты». Нет, все это – слова и пустые слова, сказанные без осторожности и почти что на ветер. В этой коллективной массивной области о «перемене» можно думать не под впечатлением, что «мне хочется пофилософствовать», или «у меня есть талант к философии», а лишь в случае необходимости, неизбежности, нужды. Бывают случаи в истории, что жизнь начинает резатъ. Ну, тогда «переменишься», закричишь о «нужде перемен». Не скрою правды, которую не могу назвать только «личной», по «пристрастию», – потому, что сам о ней много пишу. Мне представляется и даже я утверждаю, – а подтверждение этого в криках, воплях из общества, – что в христианстве или в Церкви есть только один опасный пункт: это – семья во всем необозримом множестве слагающих се черт, из коих только частности и подробности – развод и незаконнорожденные дети. Где-то я недавно прочитал, что в Германии до 8 000 000 девушек брачного возраста остаются в каждом поколении безбрачными. Вот это «вопрос». Дети внебрачные большею частью убиваются, – а когда на это раз было указано, то престарелый протоиерей Дроздов в Земщине нашел силу и правду только сказать: «До чего люты родители безбрачных детей: выкидывают их в помойные ямы». До того он, «аки младенец», ничего не понимает психологии детоубийства. Ну, это, кажется, – дело; потому что кровь, потому что убийство. Сколько я понимаю в 60 лет и после десятилетий размышления о положении Церкви, других опасных пунктов в ее сложении, управлении и принципах нет, – или все остальное слишком легко устранимо и поправимо.
О московском славянофильстве – немного – я договорю в другой раз.
О типах религиозной мысли в России
Печатающиеся в «Русской Мысли» статьи П. А. Бердяева «Типы религиозной мысли в России» представляют, и в особенности в дальнейшем представят, собою выдающееся явление религиозной и философской мысли в России. Автор берет свою тему в ее живом трепете сейчас. Конечно, это умаляет ее значение, так сказать, в «историографическом» отношении, – в смысле «перспектив назад», «сравниваний» и т. п. Но, правду сказать, «живой трепет крыл» и «публицистика сейчас» тоже имеет свои права, – и в особенности в данной-то теме она имеет исключительные права и преимущества. Мы хотим «сейчас» верить или не верить, и что нам до того, верили или не верили, и почему не верили или верили люди до нас.
В этом отношении статьи Н. А. Бердяева до некоторой степени можно рассматривать, как «заключительное слово» к бывшим в Петрограде Религиозно-философским собраниям. Он на них мало участвовал, – появившись в Петрограде лишь к концу их. Но он был ближайшим другом или, во всяком случае «своим человеком» у всех вождей тогдашнего религиозного движения, – со всеми видными представителями тогдашнего «церковного обновления». Идеи их не были для него «внешними», чем-то «со стороны идущим», чем-то лишь вычитанным из книг или прочитанным в книжках нового журнала. Нет, это были идеи, о которых и до каждого отдельного собрания и после каждого отдельного собрания он вел беседы, «засиживающиеся за полночь», с авторами докладов, в частных квартирах, у себя на дому, в дому Мережковских и т. д. Собрания тех дней, происходя в зале Географического общества, у Чернышева моста, были общественными и обширно посещаемыми, но в то же время они были и глубоко домашними, личными, частными собраниями по тесной домашней дружбе, связывавшей главных представителей этих собраний, постоянных их «докладчиков» и самых видных «ораторов» на них.
Но, избегая грубоватого, не в данном случае нужного, языка, мы сказали бы, что Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, А. В. Карташов, – тогда блестящий молодой представитель Петроградской духовной академии и теперь профессор Высших женских курсов в Петрограде, – в тени совсем только-что начинающие А. А. Блок, В. Я. Брюсов, – зрелые и чуть-чуть незрелые Н. М. Минский и г-жа Вилькина, – все это были люди не только «одного корыта», но, нужно сказать теснее, – «неразделимого корыта». И вот к ним-то совершенно тоже «неразделимо» примыкал Н. А. Бердяев. В. А. Тернавцев, – ныне управляющий Синодальной типографией, – дружественно примыкал к ним, почти сливался с ними, но, в сущности, не сливался, а лишь обширно хлебал из того же, однако внутренне чужого, корыта. Подразделение это и необходимость такого подразделения вытекает из следутощего. Весь поименованный кружок лиц, центрально руководивший собраниями, состоял из литераторов, живших всецело и исключительно литературными и журнальными интересами, в литературной и музыкальной традиции, с чаяниями, надеждами и, словом, «всем кругом плавания» в литературе и только в литературе, в журналистике и только в журналистике. Какое же было отношение их к России и связь их с Россией? Они занимали в ней определенную точку, – залу у Чернышева моста, – выйдя из которого нанимали извозчика и доезжали до своей квартиры, проезжая тоже по петроградским улицам. Но – и только, и это уже окончательно. Но Россия в ее правительственном механизме и в трудностях этого механизма в ее управлении, в матерьяльной жизни, в ее сословиях и хронологии этих сословий, в ее царстваниях, в ее быте, даже в ее домашнем и семейном укладе, была чем-то, узнаваемым лишь из «газетных телеграмм» и из исторических, а преимущественно тоже литературных, мемуаров, а не чем-то таким, что закрепилось в воспитании, что горит в живом сознании и в ощущении. Поэтому-то мы и сказали, что обширно хлебая из их корыта, Тернавцев «не принадлежал к их корыту», потому что Россия для него массивно существовала, огромно существовала. С добром или злом своим, все равно; Россия для него была и перед ним стояла как огромная сила, «которую не поворотишь», с которою «надо считаться», которую никак нельзя «обойти». Те были – воздушные; он – стоял на земле». Те были все – авиационные, начинали или вернее продолжали вековую российскую умственную «авиацию», смотря на все с воздуха и сверху, препятствий не встречая, ибо летели «над домами». Тернавцев же жил «дома» и знал, что «в дому» все жмет, и что из дома нельзя выйти иначе, как по определенной лестнице, и тогда выйдешь на улицу с определенным именем. Все это было у Тернавцева, сравнительно с ними, сутью и особенностью психологии, – более чем быта; но все-таки отчасти было и последствием быта. Хотя и не исчерпывает вопроса, но все-таки в вопросе играет свою большую роль, то обстоятельство, что все перечисленные люди, длинный их ряд, были лицами определенной социальной группы, именно «журнальной братии», имевшей в журналистке все источники жизни и полагавшей в журналистике все цели жизни, планы жизни, удачи и неудачи. Вообще все плавание – «журнальное». Это «журнальное плавание» при некоторой неосмотрительности, при небольшой даже переоценке себя, весьма легко было принять за «пророчественное плавание» и призвание, наконец, даже за «жертвенное призвание и плавание». Маленький нажим правительства, кой-какие притеснения по цензуре с журналом (тогда ими издавался «Новый Путь») – и «жертва» уже готова, и пророк уже «вопиет», в гостиной, в салоне, в редакции, отраженно – в зале Географического общества. Тут серьезное смешивалось с комическим. Но, чтобы заметить это комическое, нужно было быть человеком практической сметках. Откуда же ее взять «чистому литератору»? Тернавцев, никогда не пролагавший свои пути в «журнальное море» и, хотя человек больших способностей, по-видимому, не имевший к писательству специального дара и жара, имел совершенно иные скрепы жизни, иные затруднения для себя, иные преодоления перед собою. И, слушая этих ораторов, и улыбаясь им, – улыбаясь своею гениально-лукавою улыбкою, он помнил и ни на минуту не мог забыть, что «обязательство уплатить 1-го числа за квартиру» он покроет из какого-то другого «источника» и об этом источнике нужно «очень и очень подумать». «Я, положим, пророк, – а сапоги все-таки надобно купить». Эти окаянные сапоги, хотя и представляют ужаснейшую прозу, но совершенно непреодолимы для нашего климата и для условий городского существования в XX веке. И Тернавцев это помнил. И к «авиационной школе» Мережковских не принадлежал.
Но, «как и все», он был хорош с Бердяевым, и Бердяев пишет и о нем, как «о своем человеке». «Валентин Александрович, с его апокалиптическим жаром»… Но о Валентине Александровиче всегда надо помнить (пишу без преувеличения), – что это вполне гениальный человек, – гениальных мыслей и гениальных слов, – но «не для журнала». Какого-то нет таинственного дара «положить на бумагу все». А «апокалиптики», «вещего» и прочее и прочее – сколько угодно. И таинственный взгляд и лукавая улыбка.
Но Н. А. Бердяев, человек именно этих «собраний», – их духа, их психики, их надежды. – не дожил до замечательнейшего русского явления вот этих истекших 16 лет XX века: до возникновения в Москве, – возникновения и крепкого сложения, – молодого славянофильства. Это славянофильство сейчас же стало слагаться и крепнуть после прекращения петроградских Религиозно-философских собраний, – «не по своей воле», и после закрытия органа этих собраний, «Нового Пути». Я сказал: «Не дожил». Конечно, физически он «дожил», так как сам жив и славянофильство процветает: но он «не дожил» духовно и умственно, так как остановился и застыл в духовной фазе именно Религиозно-философских собраний, – и даже его громадный философский труд, появившийся в этом году «Философия творчества» (философия собственно религиозного творчества) можно рассматривать, как завещание отчасти и отчасти как результат, как зрелый, обдуманный и систематический результат, именно этих тогдашних петроградских собраний. Он пришел на них поздно и мало в них участвовал. Но именно он зрело и окончательно их обдумал, – именно он ими оказался сильнейшим образом возбужден и дал кое-что «лучшее», именно более закругленное и окончательное, нежели что было в этих собраниях, в своей громадной философской работе. С этой точки зрения, т. е. в смысле «историографическом», труд его в высшей степени благороден, – заслуживает внимания, оценки и большой благодарности всех участников тогдашних собраний.
Но «молодое славянофильство» началось позже, хотя и сейчас после 1903–1904 года и в нем сам Бердяев не принял никакого участия. Даже корифеи молодого славянофильства, – все еще юноши в 1903–1904 году, первые свои литературные труды, первые свои мысли, первые свои работы прислали из Москвы именно в журнал «Новый Путь».
П. А. Флоренский, В. Ф. Эрн, С. Н. Булгаков, можно сказать, «вошли» или «начали входить» и в «Новый Путь» и даже в Религиозно-философские собрания в тот самый момент, когда из них вышли или выходили прежние участники.
Пока все «закрылось»… Зашумела японская война, всплеснулась революция: все завертелось в водовороте, скрылось… И выплыло – с далеко разбросанными членами: Мережковские и Философов ушли в радикализм, «заветы» «Нового Пути» как будто рассеялись, в Москве возникло книгоиздательство «Путь», с прекрасным идеалистическим направлением в религии и в философии. Но вот и в «Пути» выделились два подразделения, хотя незаметно спорчивые: левое, руководимое князем Е. Н. Трубецким, около которого рядом стоит и Н. А. Бердяев; и более крупное правое течение, которое выражают собою главным образом П. А. Флоренский, В. Ф. Эрн и С. Н. Булгаков. И вот это-то последнее течение и образует собою, сложило собою молодое славянофильство.
В настоящее время это самое крупное умственное течение в Москве, вне каких бы то ни было сравнений. Сила его заключается в притяжении. Все юное, в буквальном смысле слова и «возрождающее», и «возрождающееся» – льнет сюда, прилипает к нему, тянется, ищет. Это нравственное притяжение основывается на замечательном сложении самого кружка. Он и не литературный, не журнальный, не ученый, хотя и литературный, и журнальный, и ученый, но качествам работ всех членов, по явному литературному и ученому их призванию. Всего правильнее его было бы назвать философско-поэтическим кружком. Но и это – ясно: потому что главный центр и главная связующая всех нить заключается просто в некоей философской дружбе. И, можно сказать, без имени Платона, возник «Платоновский кружок» людей, связанных дружелюбием тем, работы, интересов, полным единства духом, и всецелою преданностью Церкви, и России, горячею памятью и благодарностью к старому московскому славянофильству» с именами Киреевских, Хомякова, Аксаковых, Данилевского, Страхова, Ап. Григорьева. Таким образом, это церковно-русское движение свободно-интеллигентской окраски. Я меняю имена и определения, и их именно надо менять, потому что явление чрезвычайно сложно и в него входят бесчисленные световые полоски. Даже кое-что входит от «Нового Пути» и «Религиозно-философских собраний»: именно, дух молодости, свежести, обновления. Но в то время, как и «Новый Путь» и «Религиозно-философские собрания» обновлялись бесспорно западным духом, их «предтечи» были западные атеисты, западные мыслители, западные мистики, западные символисты и декаденты, и имена Ницше, Верлена, Метерлинка, Гауптмана, Бодлера, Гюисманса, – особенно имя Ницше, – были «своими именами»; в Москве своими начали избирать других, а наконец и окончательно окрепли совсем на других именах: Киреевских и Хомякова, и наконец и всего тверже и уже вполне окончательно – преподобного Сергия, «всея России чудотворца». – Огород, пожалуй, и один: да овощи на нем выросли совсем разные. «Прикосновение» было, – но оно и кончилось 1903–1904 годом. Московское славянофильство и «когда-то» Религиозно-философские собрания резко разошлись, потекли в совершенно разные стороны, хотя, пожалуй, исток, хотя бы внешним образом, у них и был один. «В первый момент» один. Теперь самая память и «Нового Пути» и «Религиозно-философских собраний» слабо хранится. Явление буквально растаяло, испарилось. Напротив, московское славянофильство в полном расцвете и с каждым днем крепнет, именно благодаря главным образом своему нравственному духу. И вот, конечно, в высшей степени интересно увидеть, что именно о нем говорит человек, поставивший крупный «надгробный памятник» Религиозно-философским собраниям и давший в «философии творчества» завещание от них России.
Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева
В предыдущей статье я отнесся чуть-чуть резко и насмешливо к религиозно-философским собраниям в Петрограде 1903–1904 годов и к журналу «Новый Путь» Перцова и Me режковского. И это справедливо, – и справедливость этого я чувствовал в те годы, хотя и участвовал сам и в собраниях и в журнале, – и притом любя, горячо участвовал. Потому что их было за что любить и уважать. Правда, от Мережковского всегда Гюисмансом попахивало, – а что такое «Гюисманс» – это знал сам Гюисманс и о нем знал Мережковский. В Мережковском всегда было что-то милое и детское, и в этой игре его в некоторую «чертовщину» (сюда относятся его идеи об антихристе) было именно то, что сам заводящий «чертовщину» ее очень боится, а все окружающие его нисколько не боятся. Между тем, вводя это «ведовское» (от «ведьма», «колдун») начало и в собрания, и в журнал, и всюду, где он сам появлялся, от «смахивал рукой» тот ужасный трезвый реализм, тот отвратительный научный позитивизм, в котором задыхалась Россия перед этим. И более чем кто-нибудь другой из участников собраний (по старшинству перед ним), я знал, что такое это задыхание, ибо гораздо дольше их полз в этой философской углекислоте, где умирает все идеальное, где умирает все религиозное. И вдруг – «третий завет», «религия Святого Духа», вечное сопоставление Христа и антихриста – применительно ко всем вещам мира сего, применительно к событиям политическим и литературным. Я сказал: «Гюисмансом попахивало от Мережковского». Навсегда нужно запомнить одну вещь. Около Мережковского нельзя было внутренне немножко не шутить. Но столь же справедливо и то, что нельзя было с ним «совсем шутить». В нем было что-то «ведовское», чуть страшное, чуть-чуть необыкновенное. Сказать, что он «совсем то же, что такой-то сотрудник журнала и газеты», – было невозможно. Прямо на обоняние чувствовалось, что «ну, черта тут нет, а какой-то хвостик его все-таки колеблется». В нем, в его книгах и статьях, а главное в его человеческом существе был этот «остаточек» или «некрупное начало» иных и вещих элементов. Ни о ком из присутствующих в зале нельзя было сказать и предположить, что вон он «возьмет и хлопнется оземь, да как завопит вдруг»… И с Мережковским этого не случалось, вернее, не случилось. Но непререкаемо для всех было, что с ним подобное может случиться. И вот этим в себе, «загадкою» в себе, большого или маленького, сильного или бессильного, от и притягивал очень многих к религиозно-философским собраниям. Этого его действия, в котором содержится и общественное и историческое начало невозможно отрицать. После всех смехов и шуточек над Мережковским, «нечто останется». Его нельзя пересмеять и вышутить до полного и окончательного «конца». «Что-то останется», что-то «было» и «есть».
Бердяев, не называя лично Мережковского, но, без сомнения, имея в виду целую группу лиц, с ним во главе, так начинает свою характеристику «религиозных типов в России»:
«Для духовной жизни России за последние пятнадцать лет знаменательно возникновение и развитие религиозно-философских течений, – искание веры и опыта ее оправдания. Традиционное мировоззрение позитивизма и материализма претерпело серьезный кризис и пережило крах в духовнопередовом слое русской интеллигенции. Россия вступила в XX век с религиозными вопрошаниями, с готовностью направить свою духовную энергию на религиозно-философскую мысль. В широких слоях общества все еще продолжало господствовать традиционное интеллигентское мировоззрение, и старый позитивизм не потерял еще кредита. Но не этими количественными критериями определяется центральное и существенное в национальной духовной жизни. Творческая энергия мысли окончательно ушла от старых направлений и перешла к новым религиозно-философским течениям. Это должны признать и враги этих течений. Но ложно было бы утверждение, что русской религиозной мысли начала XX века ничто не предшествовало в России XIX века. Достоевский, Л. Толстой и Владимир Соловьев предопределили направление русской передовой религиозной мысли в XX веке»…
Характерно для опрометчивости, неполноты и даже до некоторой степени для легкомыслия Н. А. Бердяева, что он как будто никогда не слыхал о И. В. Киреевском, Хомякове, Н. П. Гилярове-Платонове, – которые уже никак не меньше религиозным ростом Вл. Соловьева и Л. Толстого, не говоря уже о Достоевском с его «едва касаниями (хотя и глубочайшими) перстами» церковно-религиозного вопроса в его точности и определенности. Да и ранее: а Лермонтов? А Гоголь? И еще первый из всех – малороссийский ходебщик Сковорода? Видно, что пишет все-таки журналист. Бедный журналист.
«Эти большие, самые большие русские люди поставили темы, над которыми наше сознание теперь работает. Мы уже далеко ушли от их учений, но всегда должны вспоминать их образы, когда обращаемся к своим истокам. Именно они произвели сдвиг в русском сознании и направили мысль нашу на новый путь».
Это – основательно. Об «израиле» русского народа все-таки приходится сказать, что «пророки в нем не оскудевали». И всегда шла ниточка, хотя бы маленькая, где взывалось: «Господа, нельзя же все спать и спать, или только все жениться… Где-то есть пустыня, где-то есть небо». Это никогда не прерывалось.
Бердяев продолжает:
«Русская религиозная мысль вращается вокруг христианства и для нее существенно и характерно лишь то, что связано с христианскими темами и вопрошаниями. Только эти течения имеют творческое будущее в России. Религиозная мысль в России имеет много оттенков. Но некоторые формы религиозной мысли имеют лишь переходное значение и для религиозного сознания являются элементарно-зачаточными. Развитое и раскрывшееся религиозное сознание не может не подойти вплотную к христианству и не болеть христианскими темами. Это чувствуется даже в теософских течениях».
Говоря о множественности у нас типов религиозного мышления, Бердяев, однако, ставит во главу всех их то самое молодое московское славянофильство, которое возникло после 1903 года. Тут, хотя и кратко, следует отметить личность М. А. Новоселова. Когда-то в давние-давние годы толстовец и радикал, отрицатель России и совершенный отрицатель Церкви, он ясною и правдивою душою отшатнулся от этого движения, по существу злого и разрушительного, и стал на совершенно обратный путь – созидания, поддержки и укрепления всего русского и церковного. Сколько помнится, он сосредоточил свою деятельность в маленьком городке Торжке, – недалеко от Москвы, начав здесь издавать серию прекраснейших книжек, ороииорок и листков под именем «Религиозно-философской библиотеки». Для этой библиотеки трудится множество лиц. На почве этого сотрудничества, но гораздо более на почве личного общения с его светлой и ясной душой, – хотя и не сложной, – с ним сблизилось множество молодых учителей и учительниц околомосковского района, многие студенты, курсистки и т. д. И около того времени, когда «голые москвичи» толкнулись было в религиозно-философские собрания и «Новый Путь», по оба они закрылись, – они как бы выйдя из опустелой храмины – наружу, случайно набрели на М. А. Новоселова и началось просто общение, дружба. Новоселова нельзя не любить простой непосредственной любовью. Он – такой человек. И вот около его плеча и началось слагание «московского славянофильства», хотя сейчас оно гораздо шире, неизмеримо шире самого Новоселова и всех его преднамерений. Но его удивительно чистый и ясный характер, и таковой же чистый, хотя неизмеримо более сложный характер П. А. Флоренского, почти главы и вождя московского славянофильства, – соделало то, что цементом для людей идейного движения стала именно нравственная, именно сердечная почва. Точнее – душевная почва, почва душевности. Вот этот-то кружок людей Бердяев и выдвигает в первый ряд:
«Основным среди всех типов религиозно-философской мысли в России является все-таки тип православной религиозной мысли, который выражается в разнообразных попытках возродить православие. Более всего меня интересует психология религиозной мысли. Для православного течения характерно стремление к религиозной серьезности и к исторической монументальности: оно ищет корней и вековых основ религиозного сознания, боится человеческого произвола и подмены религиозно-подлинного надуманным и искусственно взвинченным».
Но разве это – не основательно? Что может быть печальнее, – нет, что может быть страшнее новейших историков религии, – какой угодно и где угодно, всех религий и в тайне вещей ни одной религии, – которые излагают свою тему и рассуждают о своей теме, не имея ни единого зернышка в себе религиозной веры, религиозного чувства, и с тем вместе какого бы ни было понимания религии. И причина одна: что на Западе уже коренным образом потеряна связь с «исторической моментальной религиозностью», т. е. с фактической молящейся церковью. Зрелище это поистине ужасно и зрелище это предусмотрительно для русских.
«Но эти благие устремления воли не спасают возродителей исторически-монументального православия от искусственного настраивания себя на лад старинных чувств, от упадочного эстетизма в жизненных оценках, от бессознательных или полусознательных измен. Всего более это чувствуется в самом ярком, талантливом представителе нашей православной мысли – в свящ. П. Флоренском, книга которого «Столп и утверждение истины» должна быть признана самым значительным явлением в этом течении. С. Н. Булгаков, свящ. П. Флоренский, кн. Е. Н. Трубецкой, В. Эрн, Волжский и другие – это уже если не новое христианство, не новое религиозное сознание, то, во всяком случае, новое православие, новое в православии».
Не забудем, читая все эти «цветочки раздражений», что говорит человек, ревнующий о неудавшихся религиознофилософских собраниях ввиду полной неудачи московского славянофильства.
«Им не удается до конца стилизовать себя под старый, архаический тип исторического православия, хотя они видят свой point d’lomneur в том, чтобы не быть модернистами. Вопреки своим желаниям и эстетическим вкусам они все-таки остаются православными модернистами, но раздвоенность их воли и их сознания делает их модернизм не творческим. Это – явление совершенно обратное тому, какое мы видим в католическом модернизме. Там исконные католики пленены современным духом, ищут новой жизни и новой мысли. У нас».
«У нас» наоборот: и все-таки являются «модернистами». Тут есть та доля пристрастия и раздражения, которая, будучи замечена у судьи, лишает его права судить.
В последующих страницах своего труда, характеризуя С. И. Булгакова, Бердяев указывает в нем «подкупающую серьезность и искренность». Вот качество, которого не достает Бердяеву. Как писатель, как мастер характеристик, наконец – как подвижный ум, он блестящее Булгакова, хотя и не так учен, как он. Но он слишком «новый человек» и уже слишком порвал с «монументальной историчностью». Везде он работает «один» и «сам», везде он работает «не с Россией». У него та же «авиация», как у Мережковского: мысли везде летающие и ни к чему не прикрепляющиеся. Как он упоминает, он «собирается писать книгу об Якове Беме», старинном мистике. В то же время он вчитывался и перечитывал книгу Величковского об оптинском старце о. Амвросии. Как он не оглянется на себя, что в нем уже есть только религиозная заинтересованность «разными типами религиозной веры», но нет веры; на самом деле и совершенно – нет религии, иначе как воспоминания о чем-то былом, о чем-то когда-то испытывавшемся. В виду этого печального личного религиозного опыта как он может претендовать на москвичей за то, что те придерживаются «почвы», что не теряют связи с действительностью? Москвичи правы, путь их мудрый. Собственная Бердяевская «философия творчества» под углом этого зрения представится оправданием личного произвола, «развязыванием» со всякою религиею, а не «связыванием» с какою-либо религиею. И как он tie поймет, что это «развязывание» приводит не последнем исходе к той же убивающей углекислоте позитивизма, «реальных знаний», «материальных интересов», из которых только что начала выбиваться горькая русская душенька, тоскующая русская душенька. Это – индивидуализм, со всем его отчаянием и пагубой.
В дальнейшем мы остановимся на его полемике с С. И. Булгаковым.
Колокол. 1916, 26 августа. № 3080







