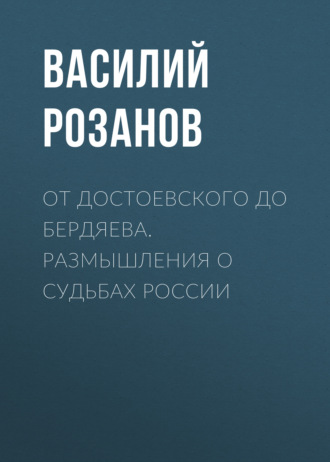
Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Кстати, Леонтьев переслал мне, при заочном знакомстве с ним в 1891 г., маленькое письмо к нему Влад. С. Соловьева, как имеющее косвенное ко мне отношение. Вот оно:
«Очень рад, дорогой Константин Николаевич[211], что Розанов пишет про вас: насколько могу судить по одной прочтенной брошюре[212], он человек способный и мыслящий. Если поступят разные дела, связанные с народным голодом, я окончу интересующую вас статью[213] к 15 ноября, так что наклейки, пожалуй, опоздают. Но это не существенно. Будьте здоровы.
Душевно вас любящий
Влад. Соловьев.
СПб., 3 октября 1891 г.».
Вот ответ Соловьева мне на вопрос: не будет ли он чего-нибудь иметь против напечатания мною целиком[214] писем Леонтьева:
«28 ноября 1892. Москва,
Пречистенка, д. Лихутина.
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Пользуюсь первою свободною минутой, чтобы ответить на ваше любезное письмо. Разумеется, я ничего не имею против напечатания вами касающихся меня писем покойного К. Н. Леонтьева. Быть может, я отыщу несколько его писем ко мне, весьма интересных, и тогда пришлю их в ваше распоряжение.
Из замечаний ваших по поводу вероисповедного вопроса я вижу, что моя действительная точка зрения по этому предмету осталась вам неизвестною. Изложить ее в письме не нахожу возможным. Если когда-нибудь Бог приведет встретиться, то в разговоре это можно будет сделать и легче и скорее. А пока намекну в двух словах на сущность дела. Ввиду господствующей у нас частью фальшивой, а частью благоглупой и во всяком случае нехристианской папофобии, я считал и считаю нужным указывать на положительное значение самим Христом положенного камня Церкви[215], но я никогда не принимал его за самую Церковь, – фундамента не принимал за целое здание. Я также далек от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женевской[216]. Исповедуемая мною религия Св. Духа[217] шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий, она не есть ни сумма, ни экстрат из них, – как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих отдельных органов[218].
Этот намек, хоть и темный, убедит вас по крайней мере в том, что ваши замечания, справедливы они или нет сами по себе, во всяком случае не имеют никакого отношения к моему образу мыслей. В надежде на возможность более пространного объяснения в будущем остаюсь с совершенным почтением
Ваш покорный слуга Влад. Соловьев».
После этого, довольно дружелюбного, письма и разразилась (с 1 января 1894 г.) наша грубая и ненужная полемика.
* * *
Знакомство, на этот раз личное, возобновилось позднею осенью 1895 года, по инициативе Соловьева и через посредство Фед. Эдуард. Шперка. Мотивом его, бесспорно, было то чувство любопытства к людям, вещам, странам и стихам, но в особенности к людям, какое было у Соловьева. Генрих Мореплаватель вечно плавал, открывая новые земли. Нужны ли они ему были? Нисколько. Что же влекло его? Призвание, талант, порода его души. Есть люди интересные, живут «по одной лестнице», а всю жизнь – не познакомятся. У Соловьева, напротив, было какое-то «томление духа» (Экклезиаст) по человеку… Его предсмертный труд – «Разговор под пальмами»[219], столь грустный по тону, столь безнадежный – давно, может быть с молодости, капля по капле зрел в его душе. «Конец всемирной истории», «ничего не нужно», «ничего невозможно» – как с этими мыслями не побежишь куда-нибудь, к кому-нибудь? Замечу касательно «Чающих конца», и в особенности близкого «конца», – что, во-первых, психология их впервые воочию объясняет нам настроение христиан I века, когда «Конца» ожидали вот-вот, сейчас, завтра; во-вторых, что между тем первым ожиданием и теперешним совершилась, без особенной уторопленности, вся европейская цивилизация и, в-третьих, что идея «Конца», как и другая родственная идея о «жизни будущего века», продолжении бытия нашего по ту сторону гроба, сотворена была и страстно пронесена по земле людьми одиночками, которые видели, что личное бытие обрывается сейчас у ног их. Есть монахи по форме, а есть монахи по существу, – даже среди семейных людей, всегда в таком случае меланхолически-семейных, встречаются эти монахи по существу. «Загробное существование при котором теперешнее, здешнее и не очень нужно (идея «конца»), всецело создано ими; а «ангельские лики», облака реющих в пространстве «душек», каковых они узрят по ту сторону гроба, едва ли не есть «приложенное в вечность», перенесение на неопределенный «конец» тех подлинных реальных душ, от рождения которых они неблагоразумно (по моему взгляду) воздержались здесь. Вот отчего библейское еврейство (в котором этот монашеский чин все же встречался, но приблизительно в миллионной доле, сравнительно с временами новой Европы) вовсе почти не знало идеи «конца», ни идеи «существования там, за гробом», и просто об этом ничего не думало. Невеста, не успевши выйти замуж, умерла на глазах жениха; какие грезы вспыхнут у него о «встрече там»… О, и будучи мужем, он будет думать о «встрече там» с 40-летней подругой своей: но совершенно иначе, без страсти, без непременности, без яркости, без разрисовки. Именно – как евреи, которые не отрицали «будущего века», но признавали его тем вялым признанием, которое почти равняется «нет».
Вл. Соловьев, с идеею «Вечной Женственности» и с «тремя взглядами» (см. длинное его стихотворение об этом «самом важном событии моей жизни»), был по существу, по таланту, по призванию – монах, с тем рыцарским, деятельным и мечтательным оттенком, как это выразилось на Западе. С тем вместе темперамент и вообще вся психологическая природа Соловьева, внука русского священника и сына такого коренного «русака», каким был С. М. Соловьев, может хорошо объяснить возникновение католического культа «Мадонны», который, конечно, коренится не в естественном рассказе о Богородице, а вот в этих не часто попадающихся, но чрезвычайно мощных и талантливых задатках и влечениях человеческой природы. Этою стороною религиозного романтизма своего едва ли не более, чем богословскими трактатами, Соловьев сблизил православие с католичеством, и сблизил его реальнее, более цеп ко для православия – ядовитее и неодолимее. Ибо в то время как к публицистическим и богословским усилиям его общество осталось равнодушно, во всяком случае не бежит им навстречу, под его поэзией, и в частности под этими нежными и как-то вечно правдивыми лучами его поэзии, заходила волна. Сонные воды Руси проснулись и зарумянились от дрожащего, почти и несуществующего света его мечты, этой «Розовой тени» его биографии.
Но я отвлекся. Генрих Мореплаватель все отыскивал новые земли, а Вл. Соловьев все знакомился с новыми людьми, и черед естественно дошел до меня, с которым он полемизировал и не мог не иметь, поэтому, некоторой любознательности. Он быстро и чрезвычайно доверчиво подружился с замечательным по даровитости, простоте и энергии молодым человеком, Феод. Эд. Шперком, сыном первого директора института, экспериментальной медицины в Петербурге, который около этого времени вышел, не кончивши курса, из университета и стал заниматься литературою. Сам Шперк до того был искренен, открыт, а с тем вместе любознателен, предприимчив, верил «в звезду свою», что и всех, с кем соприкасался, делал таковыми же в отношении себя. Нужно заметить, при замечательном уме своем и непрерывном «устном» вдохновении Шперк до того не умел выражать на бумаге своих мыслей, что ничего нельзя было понять из того, что он печатал то в брошюрах, то в периодических, нечитаемых изданиях («Педагогический Листок», «Гражданин»). И это казалось мне, да и другим, чем-то необъяснимым в нем. Потом, какими-то чудесами, он выработал в себе и способность изложения (почти перед самою своею смертью). Но он был очень раздражен, что никто на «литературу» его не обращал внимания, брошюр его не разбирали; как человека, – любили и уважали его, а как писателя – ни во что не ставили. В нем, как очень много претерпевшем на печатном поприще, развилась неприязнь, конечно временная и капризная, к «ничтожествам, печатавшимся до меня» (веря, и страшно серьезно, в «звезду свою», Шперк печатно высказывал, что не было философии и философов до него, Шперка: и в это почти верил!!)… Едва он усвоил способность сперва посредственно, а затем хорошо и, наконец, превосходно излагать свои мысли, как посыпались его укусы, сильные, больные, наглые, на все стороны. «Ежегодный сизифов труд» – так озаглавил он свою статейку об ежегодной библиографии Як. Ник. Колубовского по русской философской литературе. Замечательно, что у Колубовского он не только перед этим бывал, но передавал мне, что редко встречал такого привлекательного русского человека, как он. И нимало этого мнения не изменил после своего отзыва о библиографической его работе, которую назвал бездарною, исполненною ослиного терпения и лишенною какого-либо философского чутья компиляциею. Это была просто отместка за то, что Колубовский в нем самом, Шперке, видел только претенциозного юрода. Также он лично знал Волынского, бывал у него и кончил тем, что в отзыве о книге его «Русские критики» грубо осмеял, что «этот жид от всех русских писателей и публицистов требовал жидовского паспорта и, у кого не находил такового, того предавал казни в своей нелепой книге». Это было тем чудовищнее, что сам Фед. Шперк по матери происходил от евреев и очень долго любил их, уважал, считал выше древних греков: пока один печальный эпизод его биографии, в конце концов бывший причиной его преждевременной смерти, не заставил его с такою же силою возненавидеть их. Но при всех этих диких, страстных и, мне кажется, безнравственных выходках личная обаятельность этого молчаливого, застенчивого и вечно погруженного в думы юноши была так велика, что я чувствовал в себе точно паралич при порывах на него рассердиться. Бранить его, конечно, я бранил, но без всякого внутреннего негодования. Он точно летел к «звезде своей» (к своему будущему) и ничего не замечал вокруг. Все он оскорблял, все обличал. Но кто знал (как я) длинный путь глубокой скорби, которым он прошел, и видел, до чего он прост и ясен в душе, до чего он любил все «милое и незаметное» (его термин) в жизни, в людях, в литературе, в стихах, до чего он привязывался ко всякому чужому несчастию, чужой неудаче, чужой болезни или нужде и за всем этим ухаживал, как сиделка за больным; до чего в нем отсутствовала поза и «театр», до чего будущее «величие Шперка в литературе» занимало и влекло его как подлинное величие, не ради самолюбия, а ради внутренних качеств, и до чего он действительно изумительно даровит, проницателен и вдохновенен, – тот просто чувствовал… ну, именно паралич перед желанием осудить его. Так и я много раз (перед концом жизни) говорил ему, что «между нами все кончено», что, «раз человек не признает никаких моральных законов, – что же с ним делать», «что я не хочу его ни видеть, ни говорить», но кончал тем, что ни с кем не говорил так безустанно, как с ним. Удивительный человек, и непонятно, что бы из него вышло. Только для меня очевидно, что он был рожден для огромных новых мыслей; что, отдаваясь иногда по капризу злу, он кончил бы страстным вдохновением к добру… А может быть, впрочем, в нем вовремя умер духовный разбойник, не понимаю, растериваюсь. Только одно он давал впечатление: «сила, сила идет»… Да он так и говорил; когда я упрекал его за бесстыдную выходку против Соловьева (см. о ней ниже), он смеялся цинично, восторженно («моя звезда»): «Что же, это – талант, а талант хочет действовать; а что там Соловьев попал под удар или кто другой – просто это меня не занимает. Я был вправе написать, потому что был в силах. И что я поступил хорошо, это очевидно из того, что я написал хорошо». На Соловьева он напал, но неожиданно и будучи дружелюбен с ним потому, что – как характеризовал его раньше, после первых ли шагов знакомства с ним – «это есть явление эстетическое, а не этическое» (в жизни, в обществе, в литературе). И с этой именно своей точки зрения на него как личность он напал и на его «Оправдание добра», озаглавив заметку: «Ненужное оправдание». Логика его: «правда проста и самоочевидна, добро в защитах философов не нуждается; простые люди его так знают: а Соловьев написал неуклюжую иезуитскую книгу, где на ста страницах доказывает, что белое есть белое или что белое не очень бело», и пр. Соловьев сам нашел нападение сильным («талантливым») и отвечал на него едва ли не пространнее, чем было нападение.
Вот письма Соловьева ко мне, относящиеся к началу личного знакомства.
«Царское Село, 17 ноября 1895 г.
Многоуважаемый Василий Васильевич!
По чрезмерной рассеянности в житейских делах я забыл название вашей улицы и номер дома, а бумажка, на которой записал их Шперк, потерялась, разумеется, еще раньше. Перед бегством своим в Царское Село хотел справиться в контроле, но не успел. Теперь пользуюсь свободной минутой, чтобы вас достать через контроль. Кроме желания продолжать знакомство, имею еще маленькое дело.
В известном вам словаре[220] черед дошел до Леонтьева. Лично я с величайшим удовольствием предложил бы написать о нем вам, но уверен, что это не было бы принято ни вами, ни, главное, редакцией «Словаря». Некоторая нетерпимость этого последнего обнаружилась для меня по поводу Декарта. Я предложил двух лиц, несомненно наиболее компетентных в России: Страхова и Любимова, но оба были отвергнуты. Страхов, конечно, и сам бы отказался. Думаю, что в настоящем случае вы тоже не взялись бы написать статью о Леонтьеве, удобную для «Словаря», и притом словаря более или менее западнического. Отдать нашего милого покойника на растерзание людям, его не знавшим и предубежденным, было бы нехорошо. Итак, приходится написать мне самому. Но при этом нуждаюсь в вашей помощи, во-первых, для установления точной биографической рамки, во-вторых, для пересмотра его книг, которых при себе не имею, и, в-третьих, для литературы. Итак, не будете ли вы добры написать мне, в какой из двух вечеров на будущей неделе – четверг (23) или суббота (25) – лучше мне к вам приехать? Адресуйте: Царское Село, Церковная улица (угол Московской), дом Мердера. – Отправьте заказным. Пренебрежение к учреждению заказных писем несовместимо ни с покорностью Провидению, ни с уважением к власти государственной. Если Провидение многократно являло нам примеры почтовой неисправности, то, очевидно, затем, чтобы мы принимали достойные нас меры предосторожности, не утруждая Высшие Силы требованием помощи сверхъестественной. С другой стороны, если мудрое правительство учредило и поддерживает институт заказных писем, то, значит, он необходим, а так как в законе не указаны случаи его применения, то, значит, мы должны считать его необходимым во всех случаях. Между людьми смиренными и людьми гордыми существует вообще различие, что первые отправляют письма заказные, а вторые отправляют письма, не доходящие по назначению[221].
Душевно преданный вам Влад. Соловьев».
И устно, и в нескольких письмах я настаивал на том, чтобы Соловьев написал в «Словаре» несколько страниц, «если можно – даже шесть», а если не будут давать, то все же как можно больше из того, сколько будут давать, например пять или четыре. Удивительно, что дотянулось именно до шести страниц, сколько я и положил как maximum, почти невероятный для меня самого. Статья должна была выйти исключительно хороша как литературное произведение, чтобы редакция «Словаря» отвела столько столбцов писателю вовсе без успеха и имени и притом относившемуся с такою непримиримою враждою к прогрессу и западной цивилизации, которых «Словарь» служил таким ярким и фактическим выражением и подтверждением. Леонтьева можно охарактеризовать почти в двух строчках:
I) гениальные силы, 2) ушедшие на безумную мечту. Кто эту мечту» его, его программу отбросит в сторону, как безвредную по полной ее неосуществимости, тот непременно привяжется и будет очарован им как человеком, писателем и мыслителем. Ни Соловьев, ни я не имели его в виду как политика»; ибо сами были очень плохие, вялые и недаровитые политики и потому чрезвычайно любили его как личность и талант, как писателя. Но все же – шесть страниц убористой печати – целая журнальная статья! Тут я мог увидеть, до чего Соловьев добр, и мягок, и уступчив, когда настояния другого имеют явным источником любовь к третьему: сам он был все же слишком усталым писателем и многотемным человеком, чтобы написать столько и так, сколько написал, без боковых возбуждений. И происхождение этой статьи, действительно лучшей по полноте и законченности характеристики Леонтьева, я вписываю среди немногих вши среди отсутствующих своих общественных заслуг. Добавлю еще, что Соловьев был слишком робок, как бы застенчив и перед грубоватою редакцией «Словаря», конечно, только враждебной к Леонтьеву, не стал бы настаивать на помещении слишком большой о нем статьи. Самое большее – вышло бы столбца три, и статья давала бы «сведения», как обычно, энциклопедиям, а не целую философско-литературную характеристику. Вот письмо его, без даты, относившееся, очевидно, к этому времени:
«Спасибо, дорогой Василий Васильевич, за доброе письмо или, вернее, письма. Множество писания для печати помешало мне ответить на предыдущее письмо и поблагодарить за приложенные к нему материалы о Леонтьеве, – да и теперь могу написать только несколько слов. Искренно желаю вам и семье вашей всего лучшего в новом году.
Очень жаль Страхова, и даже что-то жутко. Не найдете ли возможным внушить ему, – так как против вас он ничего не имеет, – мысль о «христианской кончине живота», для чего потребуется между прочим и примирение душевное со всеми ненавидимыми им – от них же первый есмь аз. Раньше этого непосредственное мое обращение к нему было бы нецелесообразно и даже опасно.
Статья о Леонтьеве должна быть готова 7 января. Около этого времени я заеду к вам, известивши телеграммой, чтобы прочесть. Тогда поговорим и об Ухтомском.
Душевно преданный вам Влад. Соловьев».
Страхов в это время заболел – раком… Он худел, чуть-чуть слабел: но, не зная существа болезни, не особенно беспокоился. И напомнить ему «о христианской кончине живота» было решительно невозможно, не открыв существа болезни, т. е. не отравив черною отравою нескольких месяцев жизни, какие ему остались и какие он мог все же провести «ровно», без смятения и муки. Кому нужно ставить людей в положение Ивана Ильича (у Толстого), для чего это нужно? Если жестокая природа нагнала на человека такие скорби, не дадим врагу победы по крайней мере над духом его. «Только души его не коснись», – говорит и Бог дьяволу, предавая во власть его тело Иова. Я, можно сказать, и руками и ногами отталкиваю самое существо таких болезней, как рак, т. е. отталкиваю мысль, чтобы они были сколько-нибудь заслужены благородным страдальцем, человеком: но, уже подчиняясь им как факту, как могиле, зачем же еще «печатать в газетах» об успехах врага?! Пусть приходит как вор и ворует нашу жизнь, ворует у друзей Друга, у детей отца, у матери – ребенка: но ни копейку на рекламу его «побед», а главное – самому человеку всяческое облегчение, напр., хотя бы вот в этом виде устранения предварительного страха. Совершенно не для чего утолщать смерть этим страхом: она и без того жирна, толста, сыта, самодовольна… Ну и пусть… Смерть и болезни в отношении бедного и благородного существа человека, и без того страдающего от бедности и социальных неустройств, есть чудовище имморальности: и человек, даже уже в ее пасти находясь, пусть мечтает и живет, как жил, смотря в лазурь Неба и все еще надеясь, предполагая и замышляя. Не забуду, как Страхов за три дня до смерти едва слышным, коснеющим языком (я должен был подставить ухо ко рту его) говорил: «Ужасные ошибки!..» – «Какие, Николай Николаевич?» – «Да напечатали на обложке: «Из истории русского нигилизма» – такие-то и такие-то годы, а надо другие. Недосмотрел»… И отлично. Думать об этом гораздо лучше, чем о раке, который ест нас и доест, и пусть будет сыт: а мы будем сыты и литературою, и поэзией, и наукой, надеждами и ожиданиями. Мы слишком вправе надеяться и будем надеяться. Мы трудились…
Оставляю эти темы. Конечно, я сейчас же передал Страхову о желании Соловьева помириться с ним. Ссора эта (из-за Данилевского и славянофилов) была такая же неумная и ненужная, как у меня с Соловьевым, как вообще большинство литературных ссор. Собственно, для настоящего неуважения к человеку может быть почва только в неуважении к его деятельности, именно к аморальным ее чертам, сводящимся к двум: лжи и определенной, фактической жестокости. Угнетение человеком человека или внутренняя фальшь всей натуры – вот что может заставить не подать ответно руки человеку, протянувшему ее. Страхов и Соловьев вначале и очень долго были друзьями, причем Страхов по необыкновенно кроткой натуре своей, а также по изумительной образованности и осторожному уму был «почитателем-наставником» Соловьева. Последний по впечатлительности своей натуры, вмещавшей много воска, был способен воспринимать, и даже жадно воспринимать, эти «учительские» влияния. Можно было бы всю сочинениях отыскать множество следов и, наконец, прямых признаний, хотя и очень кратких, большею частью в шутливой форме, – как он радостно, бывало, шел навстречу этим влияниям на себя. Так он, между прочим, питал к концу жизни «слабость» к старцам византийского пошиба, а в ранние годы гимназии «препарировал лягушек по образцу Базарова». Вечно жаждая любви к себе, «обожания», он чуть ли не чаще еще вспыхивал сам влюбленностью и «обожал» других: черта, которая пусть не заставит никого улыбнуться, ибо не есть ли это благороднейшая эллинская живучесть и подвижность, великая нервность и отзывчивость, вечная взволнованность, достоинства еще более редкие, чем мудрость, и гораздо человечнейшие, нежели видная ученость. Мы любим в себе «гордые достоинства»: между тем вот эти скромные и человечные едва ли не важнее. Со Страховым он разошелся жестко, неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с ним так неумело, что ранее стоял в застенчивом положении ученика. И с Данилевским, и со Страховым нужно было разойтись (это Соловьев чувствовал, это я теперь чувствую), ибо их «святая простота», как и вообще наших славянофилов, прикрывала и стояла щитом около позорнейшей русской действительности, уже именно злой и именно фальшивой. Они были похожи на добрых старушек-домовладелиц, у которых «заняло помещение» полицейское управление, притом самых недвусмысленных нравов. Но старушки-то эти были добрые и благородные, и нельзя было «класть охулку» на самый их дом, их имя, на старые гербы их, нельзя было кричать: «У Страховых, Данилевских, Аксаковых дело нечисто, – обирают, шпионят, насилуют». Нужно было строго разделить кабинетный идеализм и житейскую нечистоту, к ней прицепившуюся, как паук с паутиною к орлу. В письме Соловьева к Страхову (последний читал мне его) он, мотивируя первый шаг своего похода против автора «России и Европы», писал: «Нельзя истребить вшей, не пожертвовав полушубком, в который они забрались: и как за спину Данилевского прячутся гады и гадкое, то надо опрокинуть его авторитет и научную, даже моральную, компетентность». Мне эта параллель с полушубком не кажется сильным аргументом: в зиму примиришься и со вшами, только бы не замерзнуть. Нужно, однако, для оправдания Соловьева вспомнить то время, когда он открыл этот поход, середину царствования Александра III, когда «Россия и Европа» и идея особых культурно-исторических типов стала, притом официально почти, аль-кораном нашей охранительной политики, жесткой внутри и строго замкнувшейся извне. Мы прели в своем четырехосном (о четырех осях) культурно-историческом типе (теория Данилевского), мирясь с начавшимся голодным вымиранием народа и худосочием центральной России, рабством церкви, униженностью печати и, словом, всем, что шло авангардом впереди заключительного апофеоза китайской и потом японской войны, которая неожиданно сорвалась, как у Кречинского его брильянтовая булавка… «Свадьба Кречинского» есть наша историческая пьеса… Раннее, гневное, доблестное выступление против Данилевского и Страхова, которое я лично считал в ту пору нравственным падением Соловьева, на самом деле было полно гениального предчувствия будущих громов и провалов, было истинно орлиным заглядыванием за горизонт «текущих дел», в которые были погружены все мы, «писавшие, служившие и разговаривавшие». Но, повторяю, Соловьев это сделал как-то неуклюже и аморально, причинив бездну страдания ни в чем не повинным людям (полушубок) и едва ли достав скорпионами своего красноречия тех «вшей», которые умирают исключительно от персидского порошка, т. е. в переводе – от прекращения доходов, лишения жалованья и уменьшения милостей начальства, а никак не от «грома и молнии» патетической публицистики. Страхов был глубоко и «окончательно» разочарован в Соловьеве и на предложение мое и «наше» (семьи моей) сказал: «Ничего из этого (т. е. свиданья с Соловьевым) не выйдет». И он прибавил несколько жестких слов о Соловьеве, о его избалованности успехами в обществе и в печати, при которых человек не помнит простой правды. Но по мягкости согласился с ним свидеться. Соловьев и он обедали у меня: и аут уже Соловьев не обращал никакого внимания на хозяев, весь предавшись примирительному порыву своему и ходя около Страхова, как нянька около больного ребенка – больного раком – он знал!! Страхов отвечал тем любезно-равнодушным тоном, который связывает отношения в вялый узел, не держащий крепко людей. Не забуду, как в прихожей Соловьев одевал Страхова: именно как нянька ребенка и еще точнее – как сестра милосердия больного. Мне не пришло на ум, что «вялый узел» отношений можно было затянуть крепче, еще и еще заставив их встретиться. Но и сам я жил уторопленно-смятенною жизнью в те дни, и Страхов так быстро подходил к могиле, что «укрепление дружбы», обычно рассчитываемое на долгую жизнь, ни перед одним из нас не встало даже вопросом.
Следующие телеграммы и письма все без дат, и я не могу восстановить года, когда они писались:
«Христос Воскресе, дорогой, хотя слишком мнительный Василий Васильевич!
Не был у вас только по трем причинам: 1) всегда имею больше работы, чем времени; 2) почти всегда хвораю; 3) ездил в деревню. Сегодня, несмотря на крапивную лихорадку, еду в Москву.
Посылаю вам свое последнее издание.
К Москве пробуду не долго. Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет и поздравление с праздником вашей супруге.
До свидания на Фоминой.
Душевно ваш Влад. Соловьев».
Следующее письмо и две телеграммы относятся к хлопотам, связанным с «Неделею» или «Русью», изданиями В. П. Гайдебурова (Гайдебуров И., малый, в противоположность большому – отцу, основателю «Недели»), Его теснил М. П. Соловьев, бывший главноуправляющим по делам печати, и никак не хотел разрешить ему, кажется, издания «Руси» или соглашался разрешить на каких-то драконовских условиях. Подробностей, о чем мы хлопотали, я уже не помню, но совершенно ярко помню следующее, что считаю положительно историческою чертою тех 90-х годов.
Сухой, высокий, строгий, юрисконсульт при канцелярии военного министерства, всю жизнь свою изучавший Данте и итальянское искусство, Соловьев вовсе не был «службист», не был чиновник, не мог быть, а может быть, и не мог бы быть государственным человеком. Во всяком случае, на литературу он смотрел «с высоты Данте и итальянцев» и почти ничего не уважал из «текущего», в то же время безмерно любя красоту слова, красоту вообще, искусство вообще. Так как пресса, т. е. в особенности газетный мир, пожалуй, является противоположным полюсом «спокойного искусства», – то он ничего в ней не ценил и в высшей степени был склонен трактовать се и в идейном и в людском ее составе, как Сципион Африканский какие-нибудь полчища кельтиберов или нумидийцев. Он видел в ней только политическое значение, вернее, возможность политического значения и к этому последнему относился с крайнею враждою, будучи защитником сильной государственности приблизительно «по примеру Сципиона Африканского». Вообще ближе Сципиона Африканского, новее Данте – он ничего не понимал и был сущий младенец, сердитый на вид и кротчайший в душе, – в отношении всех его окружавших явлений. Помню, еще служа в военном министерстве, он меня чрезвычайно сухо принял, когда я в одно из воскресений пришел осмотреть его знаменитые миниатюры (2 огромных тома рисунков гуашью) на Данте и на «Гимны Богородицы» – Петрарки. Но уже при следующем свидании мы говорили, как друзья. Редко кого и в то время, и в последующее, до самой его смерти, я так любил и уважал. Образ его, сухой, высокий, с жесткой щетинистой бородою, коротко подстриженною, с коротко остриженными волосами на голове, в бедном пиджаке, среди квартиры-музея, где всякая вещица, всякая подробность была кусочком, или напоминанием, или воспроизведением древности и искусства, – навсегда останется в моей душе каким-то «алтарем», куда я подходил с наслаждением, страхом (строгий хозяин) и веселостью. В беседе с ним все дышало культурою, образованием; сведения его по истории, по литературе были необозримы. Всю жизнь провел на этом!! Он был несравненно радикальнее и либеральнее меня, – сказав мне новое насмешливое, напр., об Александре I («притворявшийся гуманист, который заставлял стоять перед собой в солдатском фронте даже родных братцев») и о Щедрине («Ну, этот, бывало… Вот новая книжка «Отечественных Записок» – и, смотришь, целый угол какой-нибудь святыни-гадости старого уклада нашей жизни отвалился, как его и не бывало»). Щедрина я не любил, Александра же почитал: и всякий поймет, как ново мне было это слушать. Замечательно, что он совершенно не любил и не ценил К. Н. Леонтьева, византийца и старовера: Соловьев именно стоял на почве Сципиона Африканского и Данте, т. е. Европы и просвещения, презирая, напр., все специально-русские суеверия и не чувствуя ни интереса, ни любопытства, напр., к нашему сектантству. Странная, обаятельная (для меня), жестокая и беспощадная «вообще для людей» натура.
Беспощадность его вытекала из совершенного презрения «к нынешним». Совершенно непредвиденно для себя и случайно (в министерство г. Горемыкина) он из тихих канцелярий военного министерства был выдвинут на пост главноуправляющего по делам печати и, дотоле вовсе не зная этого мира, вошел сюда спокойно, как бы сейчас положив кисточку с гуашью. Оглянулся. Какие-то ему непонятные люди, чинуши и «газетчики», которые вечно о чем-то хлопочут и чего-то добиваются, когда можно так спокойно прожить, лет 20 разрисовывая поля около терцинов «Divina Commedia». Я думаю, в душе его, младенчески чистой и прекрасной, пронеслось ужасно много насмешливого при виде «сих окружающих», насмешливого и гневного. «Посмотрим, как эти карасишки будут жариться». Во всяком случае, получилось буквально столпотворение вавилонское, буквально сумасшедший дом, а отчасти и адское пекло – от столкновения этого жесткого, неуступчивого мечтателя, может быть, фантазера, «государственника» и эстета, с миром суеты, грязи, страстей, самолюбий и в глубокой почве своей с миром страшной силы и страшного правосознания. Вот уж Мальштрем… в стакане воды нашей худосочной прессы. Из «шагов» этого государственного мужа я отмечу следующие: 1) как мне передал, всего недавно, один его друг, он при упоминании собеседником слова «жиды» поправлял неизменно: «Еще говорите так – жидишки»; 2) и в то же время, разрешив г. Пропперу издавать второе дешевое издание «Биржевых Ведомостей», создал, можно сказать, либеральноеврейский «Свет» (популярная газета Комарова); 3) и все это, продолжая свято хранить образ великой русской государственности, византийских колоколов и культа Девы Марии. Каша!.. Вот такую «кашу» месил он и во всем. Не могу забыть сосредоточенной его серьезности, как бы «собранных воедино» всех внутренних сил, с какими он собрал «комиссию» в подведомственном ему учреждении, предложив ей заняться рассмотрением вопроса: «сколько букв нужно считать в нормальном печатном листе». Он открыл, видите ли, Америку: недостаточную ясность в законе, дающую возможность «ускользать гадам» и «жалить змеям». По закону без предварительной цензуры имели право выходить книги, содержавшие более 10 печатных листов: и выходили! Но листы ведь могут быть большие и малые, с 40 000 букв в каждом, и с 30 000, 20 000, 15 000 и пр. «Лазейка! воры!» Какой-нибудь радикал мог выпустить «Конька-Горбунка», набрав ее крупным шрифтом детских букварей, всего по 10 тысяч букв в листе, в объеме большем «десяти печатных листов», и тогда цензор не просмотрел бы произведения Ершова. «Караул! грабят!» – воскликнула цензура, догадавшись: а «догадку» эту, никому раньше не приходившую на ум, преподнес ей мудрый рисовальщик Данте, целый месяц по поводу этого ходивший угрюмее ночи. «Открыл, накрыл и вперед не будет. Государственная заслуга».







