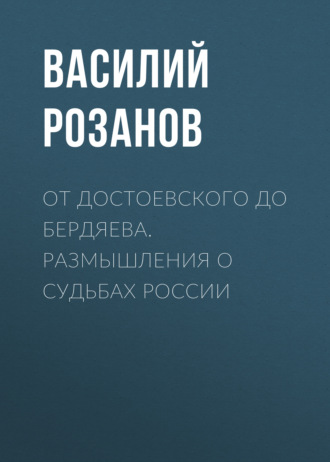
Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
XIV
И так во всем в истории; так для всего, и так же для нас было бы в отношении к церкви нашей, если бы мы не были около нее посторонними людьми, «иноплеменными воинами, призванными по чужому делу на долгую, скучную ночь»[188]. Мы возвращаемся вновь к частному вопросу, который вызвал все эти рассуждения: следует ли церкви допустить верующим в нее отступание от цельности христианской жизни? следует ли стране, входящей[189] в состав церкви Восточной кафолической, допустить пропаганду в своих пределах католичества и протестантства? Конечно – нет; и не только пропаганды, но и очень беззастенчивого выражения своего особого утверждения, какой-либо яркости, сияния на солнце, которое над нивою, Богом взращенною, Богом сохраненною должно сиять только для этой нивы.
Что за непонимание истории требовать противного? Что за усилие, чтобы церковь наша, выражая некоторое утверждение, вошла и в смысл того, чего жизнь и сущность есть только отрицание этого утверждения. Если бы православие отпало от католичества, выделилось из него как ветвь, – возможно было бы ей, умирая в истории, возвратиться в единичных своих членах, верующих, к древнему стволу, к ветхому корню их всех и ранее питавшему. Но что значит для православных стать католиками? Какой смысл присоединиться церковно к Западу? Не иной, как чтобы повторять за другими «нет, нет», в то же время угасив в себе всякое «да», к которому это «нет» могло бы относиться. Истина, на семи Вселенских соборах установленная, показалась недостаточною для слабоверного Запада: они ее дополнили[190]; слова Спасителя – не точными: они их переделали[191], запретили их произносить вслух верующим[192]. Что делать нам: они усомнились, мы не сомневаемся; если с ними усомнимся и мы, в чем же усомнимся, наконец, в каком предмете веры? Не остается никакого, не остается его для самого католичества, которое в точном историческом смысле есть только мятеж против православия, и с его исчезновением должен пропасть, как шум удара ветра в дверь, когда нет более двери. И вот почему перед шумящим ветром она не должна раствориться; не для того она, для чего он; есть сокровище у ней свое особенное, и к нему приникнув, его охраняя, она до остального не имеет дела, к его усилиям – глуха, к его страданию, нужде – слепа, на его вопросы – нема.
XV
Отрицанием отрицания, однако не впавшим в какой-нибудь положительный смысл, является и вторая форма религиозного сознания на Западе – протестантизм. Когда начиналась реформация, никто ее не хотел: ни император, один из самых могущественных и мудрых; ни папа, один из самых уступчивых, «терпимых», ни сколько-нибудь влиятельные слои общества[193], ни, наконец, сам Лютер – и она, однако, совершилась. Против расчетов мудрых, против усилий сильных, Бог бросил – отколовшуюся церковь под топор грубого монаха; и на три века обрубок, им оставленный от криво выросшего дерева, всеми принимается за юный, зеленеющий, чистый первоначальный его росток. И народы, кажется, ждут, когда же пень зацветет и они сорвут с него плод… Идея лютеранства есть самая бедная в истории; не было мысли, более ее скудной; движения в истории, столь очевидно нелепого. Эта религия «Unser Fater»[194] боится какой-нибудь еще молитвы; когда нужно помолиться о дожде во время засухи, не находя в Евангелии слова «дождь», она произносит только «Unser Fater»; когда мать томится над умирающим ребенком, от себя о ней она помолиться не умеет, не смеет, она может только повторить «Unser Fater»; и мы опасаемся, нет ли неточности в Евангелии и не «Unser» ли «Fater» произносили каявшийся мытарь, бивший себя в грудь, разбойник висевший на кресте, каявшаяся грешница. Это – религия рабов. И какой, же, в самом деле, свободы, сознания безгрешности движения, правоты роста мы можем ожидать в обрубке дерева? Он мертв; мертвы религиозно страны «на которые он налег своим бессмыслием; как искажены в своем развитии те другие, о которых мы сказали, что от церкви они отпали, и с тех пор тысячи отпадений, постоянный прилив антагонизма, борьбы испытывают в себе.
XVI
«Пийте от нея вси», каждый день мы слышим на литургии слова Спасителя, Его завет людям, – и в этих словах слышим осуждение католицизму; «Тимофее, сохрани предание», читает нам дьячок Апостола и здесь осужден протестантизм. Антихристово, анти-Апостольское – чем мы виноваты, в чем мы грешны, чаю это только есть на Западе и рвется к нам, чтобы разрушить Апостольское, Христово, что есть у нас, чем мы, во всем прочем нищие, обладаем? Но вот оскопившие себя, нажив себе тысячи внешних сокровищ, приходят и соблазняют нас этими сокровищами, чтобы мы их уныние, тоску, преступаемо разделили. Боится грех остаться в мире один; ему нужно соучастие; как и первому отпавшему ангелу, едва Бог сотворил человека, уже потребен был тот человек в общение. Дух неутолимой пропаганды, столь общий враждующим между собою сектам Запада, есть именно последствие их непрямого отношения к оставленной людям истине, или потери к ней всякого отношения. Ибо, обладая истиною, человек уже обращен к ней одной, ее видит, ей радуются, и хотя сорадуется приобщению к себе всякого другого, но не скорбит и один, находя в предмете обладаемом совершенное удовлетворение. И печать истинности несокрушимую мы видим в том, что Восточная кафолическая церковь ни в какие времена и ни в каких странах не являлась пропагандирующею, – исключая немногих – спорадических явлений, без внутреннего их в себе значения, без силы и успеха. Она насыщена сохраненным союзом своим с Богом – заветом новым, который исполнила; как и древний еврейский народ, совершенно удовлетворенный подобным же союзом, заветом ветхим, не искал никого принудить или вовлечь к себе в общение. Нам укажут на церковь юную, апостольскую, ей приписав «пропаганду»; но там было «евангелие», «благовесте» – подобное тому, как если бы, получив великую радость и не в силах будучи скрыть ее, я вышел на площадь и вскричал о ней. И это вовсе не то, что с известием темным, мыслью таимой бежать сквозь чащи, леса, пустыни и, отводя в сторону человека от человека, ему внушать эту мысль, передавать эту весть, и нудить его ответить на эту весть «да» и ненавидеть его, когда ответ замедлен, и убивать отвергшего эту весть, и бежать снова и снова, далее и далее, чтобы приобщить к себе хоть одного, кого-нибудь, где-нибудь, на смертном одре, в болезни, в тягости, обещая всяких наград, пленяя воображение, маня сердце, запугивая совесть, или, наконец, «сокрушая ребра». Конечно, этот темный, мрачный дух известительства не имеет ничего общего с апостольским благовестием, и кто не узнает, где он был и кем несется теперь в Китай, Японию. Индию, и ярче, чем туда, настойчивее чем туда – к нам на Восток, в страны нетронутого православия, всюду отрекаясь от чистоты какого-либо утверждения[195], принося жертвы в языческих храмах конфуцианцев[196], склоняясь перед статуями Будды[197], признавая греческий обряд[198], только бы их, преступных и несчастных, народ принял в общение с собою, и по их указанию, их подобию исказили бы себя в одном, им нужном, отношении.
XVII
И вот она, церковь великая делами и малая верою; и нас манит она не истиною утверждения своего, не крепостью веры, но благами земного устроения, которые она сообщила всем народам и имела бы силу сообщить нашему[199], всякому. Как обширна история этой церкви, как цветущи ею охваченные страны; не вникайте в слагающие звуки этой истории, прислушайтесь к общему их аккорду: как о многом, как долго здесь рассказано, и «неужели немое молчание»[200], она спрашивает, «вы предпочтете ожидающим вас рассказам, их величию и поэзии»? Но какая поэзия и даже какой рассказ о толпе поселян, собравшихся в храме молиться, и, однако, разве молитва их от этого дурна? Что сказать о городе, в котором ничего особенного не случилось, и как много можно поведать о том, который разграблен, опустошен, стены его разрушены, воины побиты, жители уведены в рабство и в нем долго, мучительно томились? Быть рассказанным – это не цель для человека; для него цель – быть правым, быть рассказанным, значит всегда почти эту правоту потерять, о ней мучиться, ее восстановить. Как обильна в истории фактами реформация, и, между тем, она только срубила то, что нужно было срубить; как стучал топор, сколько ветвей падало, и шум, и крики кругом, – и, однако, это хуже, чем когда, не зная топора, дерево растет в тиши, видимое Богом, нужное человеку. О нашей, в частности, истории было сказано[201], что она беднее событиями, чем всякая плита на Римском форуме – и это ее гордость; православие скудно фактами – это милость к нему Божия; оно не искажалось – как это рассказать? не каялось, не пыталось восстановить истину утверждения своего – какая тут повесть? оно молилось; молитва его у Бога; что нужно от него людям?
XVIII
Свое особое утверждение понять глубоко, ярко выразить, все к нему привести – это одна забота его в истории. Мы возвращаемся к главной форме терпимости, которую хотелось бы удержать противникам творческой свободы, к терпимости внутри самой церкви к безверным, которые как ослабленные струны в расстроенном инструменте хотели бы и не звучать, или звучать как-нибудь, и занимать положение, звуку, а не меди струны, принадлежащее.
Конечно, есть свойства и в меди, которые она может, и, в силу природы своей, влечется выразить: тяжесть, и блеск, и твердость; но не здесь она может их выразить, и, ради их, – здесь она не может быть пощажена. Пусть это стоит страда кия живым струнам; их радость немая или хаотическая, пусть она стала бы возможна, могла ли бы заглушить страдание хаоса или молчания всех остальных струн? – И не важно, что их только, но – и страдание мастера, изготовившего чудный инструмент? Что за мысль для куска мела чертить фигуру, не геометром предположенную, но которую, дурно обтесанный, он хотел бы чертить кривым углом своим? Ведь и планете, нами обитаемой, быть может, хотелось бы, сократившись в орбите – пасть на солнце, или, растянувшись в ней – удалиться в темь пространств; и, однако, она удерживается в путях своих, и мы живем, дышим, радуемся и вот обсуждаем вопросы. Почему, когда меня мать носила в утробе, ей было не выкинуть на третий месяц что-то среднее между червяком и человеком; но вот я родился через девять месяцев, развился, вырос и ни разу законы моей жизни не спутались, не замешались? Мне было бы больно, если бы эти законы спутались; нам было бы больно, если бы законы планеты нашей нарушились; почему, все это сознав, мы одни хотели бы путать законы, и, одаренные разумом, чуткой совестью не хотим докончить секунды закона для другого, когда этот другой века хранил для нас все законы? Что за гнусное чувство нами овладело, как будто после девяти месяцев наши матери выкинули каких-то червяков, и им хочется ползать, а не жить, жевать землю, а не благословлять солнце.
XIX
Так мало ожидается от нас, так к малому мы нудимся, так хорошо то, к чему мы нудимся, и мы не хотим этого исполнить. Почему так больно нам это понуждение, и образы тюрьмы, запора[202] одни мелькают перед нами, когда нам говорят о законе; почему не образ храма, где ведь также не смеем мы повернуться иначе, чем все, и делаем то, что другие – одно лучшее, что нам приличествует, что приличествует месту. Почему не хотим мы свято взглянуть на природу, на себя: тогда все понятно, понятна невозможность хаоса, безволие к дурному. Как широки пути бесстыдного – неужели они привлекают нас? как узок путь совести – неужели он путает нас? Неужели свобода бесстыдного – это радость, связанность совестливого – тюрьма, «особо устроенный каземат»[203]. Но совесть не моя только, не твоя, не мимо идущего человека, есть в истории, но также и совесть нашего времени, моей страны, народа, к которому я принадлежу. Разве каждый из нас не несет на лице своем обезображения, какое есть в этом времени, стране, народе; мне оно больно, и, как каждый, я его не хочу, я его вправе не переносить. Ни – в целом народе, стране, времени; ни время, страна, народ – во мне. Мы все братья, истинно, религиозно братья, а не потому, что живем в одном доме, ездим по одной дороге, из одной лавки берем хлеб. То есть все блюдем друг друга, и еще более – друг в друге блюдем один закон. Что говорить о страдании, о возможной тесноте – она радостна, как радостно всякое лишение, которое я переношу для другого: сперва оно больно, и я хотел бы от него уклониться, но когда исполнил – забываю о боли и радуюсь, что не уклонился. Как мало то, что нас пугает, перед великим, что нас ожидает. Свобода[204] испытана нами и оказалась безвкусной: ею пресыщенный, как часто человек сваливается в могилу, предпочитая ее темь и сырость дыханию этой безрадостной пустоты[205]. Свободен – и один в мире, это человек XIX века; счастлив ли он, велик ли, чего ожидает, на что надеется – не нужно спрашивать. Итак, без этой ненужной свободы, переплетясь ногами и руками друг с другом, биением одного сердца живущий, снова шумящая листва, на костях древнего Адама поднявшаяся и от Адама до наших дней данный человеку закон почувствовавшая – это ожидается от человека, к этому, судя по совершившимся и неудавшимся путям, он клонится.
XX
Не для меня одного проговорил Синай, прозвучала Нагорная проповедь, но и для моих – со мною связанного кровно рода людского. Его грех несу я в себе, его наказание чувствую в костях моих; и как свой член болящий ненавижу, здоровый – люблю, ненавижу или люблю всякого человека, через которого радуюсь или скорблю. Его свободы болеть – нет для меня; как моего права гноиться – нет для него; на иной планете, или на этой же, но по иному закону, чем я, созданный там только свободен он от меня. Странного права заблудиться, дикого счастья лететь и веять как ветер – ненужно, для бедствия, для радости – этого нет у человека. И растение знает закон свой; животное боится его нарушить; даже камень прошенный, – и тот не смеет забыть свою бедную параболу.
Один ли человек брошен в природе без закона? Но вот, поняв себя так, одного себя в природе считая свободным, не себя только, но и самую природу он осквернил беззаконием. Закон – это далекое что-то, что я могу и не признать; что кокетливо клонит к себе мою волю, и эта воля может капризно от него уклониться; и этот каприз именно есть главный закон, которого коснуться не смеют другие, хотя бы и божеские. И не касаемые, в своей темной свободе, мы сходим в землю; и живые между нами, кажется, не живее мертвых; бессильно отвислая челюсть не смеет укусить, боится улыбнуться; и руки опущены, едва дышит грудь; только пищеварение совершается, по горло не глотает, и, кажется, нужно будет сделать фистулу, чтобы как-нибудь, на сколько-нибудь времени поддержать – не жизнь, но бытие – единственно свободного в природе существа. Что ты не идешь, бедный: так много дорог перед тобой; почему не играешь, когда руки не связаны, и задевает, играя, тебя крылом птица, лапой лесной зверь, и все смотрит тебе в глаза, царю своему, ожидая ответной улыбки на игру, жизнь, радость свою – и не находит.
К лекции г. Вл. Соловьева об Антихристе
Замечательно, что последняя лекция г. Влад. Соловьева, которая была и так и сяк, но во всяком случае не была гениальна, вызвала множество заметок, статей, полустатей, большею частью смешливых, но нельзя не отметить, что слово и тема лекции столь странного содержания как-то привились, и вот что они привились, показывает, что в самом деле как будто «в воздухе антихристом пахнет». В шутку или не в шутку, но газетный фонограф не может не отметить звука, который в него попадает. Только что появившиеся мартовские книжки журналов «Жизнь» и «Ежемесячные сочинения» тоже излагают и критикуют лекцию почтенного нашего философа. В одном из них заглавие статьи просто коробит: «Новорожденный антихрист». «Тьфу, пропасть не к ночи будь сказано».
Именно «не к ночи»… Есть день и есть ночь. Ну, христианство, положим, – день, тогда, значит, возможна и есть – ночь? Напишем с больших букв – и станет яснее: День и Ночь, как Христос и Антихрист. Крайняя недостаточность лекции г. Соловьева состояла в том, что его «антихрист» подражает Христу, копирует, и даже в мелочах; например, он не только благ, милосерд, но и также бесстрастен, в смысле совершенного отсутствия в нем наших бедных земных страстей. Так как мы все подражаем или усиливаемся подражать Христу, то «антихрист» (все – по Соловьеву) будет самый удачный из христиан. Но тогда непонятно, где же они разделятся и почему разделятся… А «антихрист» – разделение. Нет, неправдоподобно и как-то неостроумно.
День и Ночь, как несовмещающееся и равно-божественное, – это лучше. Но кого же, спросит читатель, привлечет «ночь»? Как кого привлечет: да мы все уже сейчас любим ночь и ее особый мистицизм и, увидев в окно кабинета, что небо «вызвездило», бросаем книгу и, захватив шляпу, идем гулять. Лермонтов на такой прогулке сочинил истинную «антихристову песнь»; вслушайтесь – какая тоска:
…Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сиянье голубом.
Отчего же мне так больно и так трудно,
Жду ль чего, жалею ли о чем?
Я преднамеренно написал «богу» с маленькой буквы, хотя печатается это слово в сочинениях Лермонтова – с большой, ибо здесь, как уже вы там хотите, но, во всяком случае, говорится не о «Христе, распятом при Понтийском Пилате», т. е. не о твердо известном историческом Лице. Чувствуете ли вы мою мысль? Я хочу сказать, что если сразу прочитать стихотворение Лермонтова и в упор спросить: говорится ли зло о Христе и даже есть ли это стихотворение, так сказать, евангельское по духу, – то вы сразу ответите: «нет! нет!» И я скажу – «нет», и тут-то и поймаю как вас, так и Лермонтова: о каком же тогда он «боге» говорит и с такою раздельною (заметьте!) чертою:
Жду ль чего, жалею ли о чем?
Бедный мальчик, – потому что ведь он написал это юнкером, в каком-то странном смятении «ждет» еще «бога» и «жалеет» об оставляемом «Боге». Ведь смысл стихов, неясный и автору, именно таков, этого невозможно оспорить. В этом отношении Лермонтов поразителен. Например, кто не знает его стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива».
Тут удивительны его подробности, обстановка, в которой или от действия которой, от гипноза которой у поэта «навертываются» слезы, проходит умиление по душе. (Прислушайтесь, ну и ради Бога скажите – неужели это «от Матфея или Марка»:
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо качает головой.
Теперь я пропущу строфу и прямо кончу:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я смогу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.
Опять я пишу «бога», когда печатают «Бога», – ибо снова непререкаемо очевидно, что он видит в небе не «распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна»). Да и вы сами, раз я вас подвел в упор к вопросу, ответите: «Конечно – нет, конечно – какой-то другой и уж, следовательно, конечно, с маленькой буквы «бог». Теперь дальше слушайте:
…Студеный ключ, играя по оврагу
И погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу… –
вот эта-то «таинственная сага», непонятная самому сновидцу и таинственно ворошившая его воображение, и есть тема так прозаично и, можно сказать, бульварно прочитанной лекции Соловьева. Дело в том, что Лермонтов всю свою жизнь тревожился обонянием какого-то «еще бога», бессильный и самый ранний абрис которого он назвал «демоном», а позднее, любя то же самое, изображая все ту же самую тему, стал называть его «богом» и начал умиляться. Это-то и поразительно. Есть День и есть Ночь, и Ночь имеет второе и совершенно противоположное, но также умиление в себе, молитвы в себе, слезы в себе, но которые мы никак не называем «христианскими молитвами», как называем все и, не колеблясь, «христианскими молитвами и стихотворениями» – «Иоанна Дамаскина» и «Грешницу» гр. А. Толстого. Вы чувствуете, что я хочу сказать: что есть категория слез, кротости и ярмо любви к богу, которые не относятся к «Распятому при Понтийском Пилате», и эти слезы выступают на ресницы не после чтения Евангелия, не после посещения церковной службы, но вот когда
…Волнуется желтеющая нива
Или:
…Звезда с звездою говорит.
Теперь я приведу еще поразительное наблюдение, между прочим, связываемое мною с многочисленным теперь писанием о необходимости преобразовать среднюю школу и поставить ее на свои специальные европейские ноги. «Свои специальные европейские ноги…» Удивляло и удивляет меня следующее: во все века существования европейской истории собственно поэзия в ней, т. е. краски и струны, порыв и восторг, ритм речи и рифма:
Эта милая шалунья… –
не умели и не умеют связываться и, очевидно, и не сумеют никогда – с Евангелием и с «распятым при Понтийском Пилате». (Несвязуемость и противоположность до того очевидны, что священник на исповеди всегда спрашивает или советует: «не пишите стихов и не читайте романов», и это – не ошибка, не бестактность, поверьте! поверьте!) Я знал одного очень образованного директора гимназии, воспитанника бурсы и духовной академии и очень долгое время бывшего потом профессором в Казанской духовной академии. Он мне говорил, что не читал ни «Анны Карениной», ни «Войны и мира» и знал только кое-что о Севастополе у Толстого; и это – просто по отсутствию духовной нужды, по отсутствию влечения. «Вот я второй раз перечитываю «Творения Иннокентия» (Таврического) и с тем же удовольствием, как в первый раз». Между тем этот, уже седой, директор был не прочь протанцевать в семейном кругу, был скорее веселый человек (хоть и очень серьезен, очень «умствен»), и вообще ни аскетического, ни монотонно-семинарского в нем ничего не было. Просто «я не люблю романа и не интересуюсь романом, а стихи для меня – рубленая солома». Но не думайте, что это личная особенность: все Средние века не имели поэзии иначе как какой-то бездушной, нервозной, и главная их поэзия есть поэзия камня (архитектура, готика) и вымысла невозможного и несуществующего (сказание о св. Граале), а не поэзия как любовь и слезы к бытию и факту; когда же появилась там поэзия земного, земных отношений и чувств, и особенно чувств живых, как у провансальских трубадуров, то она и вызвала крестовый поход и истребление веселой поэзии и веселого настроения при папе Иннокентии III и короле Филиппе II Августе. Но перебросьтесь в новые века. Шекспир вечно писал, и, кажется, поэтично: что же в нем и духе его и образах писаний есть от «Распятого при Понтийском Пилате»? – Ничего!! Да, солнце европейской поэзии полно такого заснутия (заснул и забыл), – уж простите за новоизобретенное нужное словцо, – заснутия христианства, что просто дрожь наводит: у него есть «ведьмы», «Калибан», «Ариэль» (а Иисуса и ничего Иисусова – нет, нет и нет!) То же у Гёте и Шиллера, которые чем угодно тревожатся, но не «Писанием», и, напр., Шиллер написал «Юноша из Саиса», «Церера», «Гимн радости», а не написал «Юноша из Лорето», «Св. Варвара Великомученица», «Радость отшельника» и пр. Самые темы показывают, чем люди были заняты, и это суть первые люди, первые солнца европейской поэзии. Таким образом, вся европейская поэзия за какими-нибудь бледными и искусственными исключениями, вроде «Грешницы» и «Иоанна Дамаскина» Толстого, уже сейчас есть (Анти-Иисус, т. е.) Анти-Христова песнь; и это было бы еще с полгоря, но беда, и настоящая, начинается с факта, что ведь, напр., у Шиллера есть чарующее благородство, у Гете – беспросветная глубина, у Шекспира – живописность, жизнь, глубина же! Я не читал «Потерянного рая» Мильтона, но мне запомнились где-то когда-то прочитанные слова, что, собственно, ярок и обаятелен там – сатана, а о Боге – мало и бледно. Значит, тоже вроде «Демона» Лермонтова. Вот несколько штрихов, которые я не могу здесь развить, но мог их богато выразить и орнаментировать Вл. Соловьев, раз уже он взялся за эту тему. Мысль «христианского искусства» глубоко занимала все великие умы в Европе, но подите в Эрмитаж и пересмотрите всю школу итальянцев, испанцев и голландцев: и как ни часты там библейские и евангельские сюжеты – просто этих картин нельзя внести в церковь? Не станут молиться помнящие о «Распятом при Понтийском Пилате»; но ведь художники-то, рисуя, молились на свои сюжеты, образы, молились в воображении, и вот опять выскакивает строчка Лермонтова:
И в небесах я вижу бога… –
до очевидности «бога» с маленькой буквы, если нельзя внести в церковь. Вот вам и загадка. Вот вам и тема для Соловьева. Все время существования Европы, кроме Дня Христа, была какая-то «ночь» – бог, к которой, не называя имени, неслась вся европейская поэзия, живопись. Я просто констатирую факт, и даже меньше – только подчеркиваю то, что, в сущности, каждому с первого класса гимназии известно, ибо кто же не знает, что Савонарола чувствовал потребность жечь картины, а исповедники советуют не читать романов и стихов… И ведь что романы; никак нельзя отрицать, что в романах этих, вообще запрещенных к чтению и «грешных», есть страницы изумительного тоже умиления, кротости, нежности, доброты. Сказать, что все романы злы и построены на началах злости и пробуждают в читателе злость, – просто чепуха. Но если там есть «добро» и вместе с тем – читать их есть «грех», значит, есть какое-то «второе добро», «еще Бог» (И уж конечно, если это не от Иисуса и не Иисус, – значит, анти-Христово).
Значит, мир, как об этом и учит совершенно непререкаемо само христианство, разделяется уже сейчас на «царство Христово» и «царство анти-Христово»; а что, говоря это, проповедники нимало не ошибаются и только выражают собою Евангелие, очевидно из весьма принципиальных слов Христа: «Царство Мое – не от мира сего». Шекспир, Гёте, Шиллер, Лермонтов до такой степени «от мира сего», прилепились к нему бесконечно и с невыразимым умилением разрисовали его, что до последней степени ясно, что они точно ставят вне таинственного «Царства Его». «Царство Его» – и нет Дездемоны, нет Офелии, – это очевидно! Но тут начинается раздирание нашего, по крайней мере моего, сердца: я люблю Дездемону! Люблю и люблю! И люблю не тогда, когда она сделается монахиней, а люблю в привязанности ее к Отелло, сейчас и такую, как она есть, без покаяния. И тут, насколько я люблю землю, уже во мне, значит, самом начинается антихрист, и насколько мы вообще любим наших жен – Дездемон, наших дочерей Офелий, и вообще милое, ласковое, улыбающееся и грациозное на земле, – мы вне «Его царства» и во власти… ну уж применим термин – «анти-Христа». Вот вы и разбирайтесь. Да ведь и соответственно этому прямо есть слово к нам: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 26). Вот ясное разделение Христова и анти-Христова. Нет, святые отшельники Фиваиды и Соловок, убегая в ледяные и знойные пустыни, знали что делали. Но…
…Генрих! Генрих!
Это кричала бедная Гретхен в тюрьме, и вот, на месте Фауста, я уж лучше бы с антихристом остался, но эту возлюбленную женщину в такую минуту и в таком месте не оставил бы. Просто есть пункты и секунды, и притом вовсе не случайные, а вечные (принципиальные), когда бедное мое земное, а, пожалуй, даже и небесное «я» принуждается, – и принуждается совестью и законом ее, – последовать не «царству не от мира сего», но «царству мира сего» и, следовательно, открыть в себе, в каждом нашем «я», то разделение Дня-Ночи, которое так дурно уловил г. Вл. Соловьев в «Книжках Недели» и в зале городской думы.







