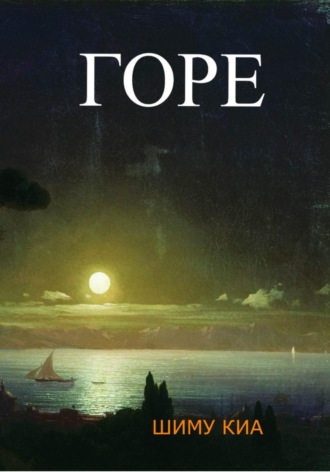
Шиму Киа
Горе
Я медленно опустил пистолет и еще раз взглянул на мольбы Коломана. Он бился в истерике, прося о пощаде. В мире была одна стабильная вещь- унижение пьяного труса перед смертью. Злость уже не так охватывала меня: сзади за плечи ее сдерживала та самая фраза. Я выкинул пистолет куда-то в сторону. Поднял Коломана, посмотрел в его глаза. В них была радость жизни. Такую радость не описать, ее нужно видеть: когда веки поднимаются вверх, стремясь благодарить небеса, брови расходятся в разные стороны, впуская в себя все самое прекрасное от мира, зрачки расширяются, изображая удовольствие, а в уголках глаз большими озерами виднеются слезы, губы дрожат, нос постоянно шмыгает, а щеки, как меха, раздуваются. Однако эта радость никак не отозвалась в моей душе- даже эхо не пролетело. Я все так же подавленно смотрел на него, но теперь моя спина была оголенной и красной- ее держала вера Вайолетт. Но злоба еще кипела внутри. Я с гневом сжал кулак и ударил пьяницу по щеке. Это первичная мягкость кожи и последующее твердое сопротивление кости поглотили все то, что бурлило в желудке все эти ничтожно быстрые десять минут. Коломан обессиленно упал на пол и лежал без памяти.
Все застыло. Оно с ужасом следило за сценой, не двигаясь на своих местах. Сейчас действующими лицами были только три персонажа: я, Коломан и мир. Остальные словно превратились в куклы, которых поставили на прилавок магазина в самых странных позах страха, ужаса и сомнения. Вместе с ударом из меня вылетело какое-то черное-черное чернильное пятно и осталось на месте прикосновения злости и унижения.
Силы быстро покинули меня. Я ощутил неожиданную слабость и нарушение координации. Ноги стали не ватными, а шерстяным: они постоянно покалывали и ощущались неприятно мягко. Руки тянули тело вниз, глаза вмиг закрылись. Я упал, и на этом мир отвернул свои очи от нас, оставив нашу жизнь нам самим.
XIX
Тихий звон мелодии, аккуратно и нежно бродивший по комнате, легко дергал меня за уши. Игриво хихикнув, музыка убегала куда-то в темную пустоту. Мне не хотелось вставать, осознавать, что мир со своими душевными проблемами вернулся, но больше погрузиться в сновидения не удастся. Нехотя я открыл глаза и увидел перед собой белый потолок. Не те серые тучи у меня в квартире, а белоснежные облака надо мною. С пробуждением я лучше уловил тихую игру на фортепиано. Музыка теперь не была игривой, а выпускала из себя все чувства, которые не вмещались в шкаф, запертый сердцем. Возможно, это были даже воображаемые нотные станы. Удивительно, как с воодушевлением мелодии свет в комнате становился ярче и теплее. Я даже испугался от той мысли, что за моим окном сейчас настоящее величественное Солнце, еще недавно отдавшее свою мощь лицу Вайолетт. Моя квартира в одиноком космическом плавании душевного спокойствия не чувствует себя одиноко.
Я, приложив немало сил, сел на кровать и понял, почему потолок был таким белоснежным, а звуки фортепиано нежно бродили вокруг. Комната Вайолетт. Знакомые книги, крепко спящие на полке и громко сопящие своими бумажными носами, позади выключенная лампа, переставшая быть светилом комнаты, а в самом уголке, словно маленькая кукла сидела за музыкальным инструментом Вайолетт. Во время игры ее плечи незаметно поднимались, руки плавно плавали по клавишам, чувствуя расположение каждой ноты, глаза строго следили за происходящим, и все тело девушки полностью погрузилось в мелодию.
Я встал с кровати и чуть снова на нее не свалился: ноги предательски слабо себя ощущали. Несмотря на мягкость матраса, скрип пружин уловили чуткие уши Вайолетт. Игра прекратилась, свет притих, бледный лик обернулся.
–Не вставай,– она обеспокоенно поспешила ко мне, шурша платьем,– тебе нельзя. Отдыхай. Ты слишком много сил потратил на чужое горе,– она нежно коснулась моих плеч.
–Что произошло потом?– я смотрел очарованно, как Вайолетт аккуратно укладывала меня снова на кровать.
–Мы отнесли тебя ко мне в комнату. Ты потерял сознание из-за переутомления. Мама так перепугалась, что чуть вслед за тобой не упала. Когда все успокоились, мы стали думать, что делать с ним. Лувр сказал, что разберется, взял его, лежащего без сознания, и унес на улицу. Больше не приходил.
–Сколько же я пролежал?
–Меньше половины дня. Я все еще волнуюсь, что ты не восстановился. Отдыхай.
–Я всю жизнь отдыхал. И успею еще на старости лет належаться,– я попытался встать.
–И куда ты пойдешь?– удерживала меня девушка.
–К Лувру.
–Неизвестно, где он. Когда настанет время, Лувр придет, и ты пойдешь вместе с ним. А сейчас отдыхай.
–Но остались еще две фотографии. Надо их скорее найти…
–Одна,– я взглянул на нее.
–Одна?
–Одна,– она посмотрела в сторону подоконника, и ее глаза заблестели на миг.
Я проследил за ее взглядом и замер. Подоконник был варварски разбит, изодран. Маленькие кусочки штукатурки лежали на полу, будто бы стекла разбившегося стекла. Там, где сидела Вайолетт была черная-черная дыра, поглощающая взгляды своей пустотой. Острые контуры разбитого подоконника сделались зубами скал, все еще отчаянно старавшихся защитить сокровище, что лежало за их спинами. Но внутри- ничего, и вместе это выглядело печальным и жалким зрелищем уже убитого, но все еще пламенного огня, которого силой старались потушить. Рядом с тем местом, где я сидел в ту самую ночь, особенно выделялись маленькие темные влажные точки, не успевшие еще высохнуть. Но особую боль передавало лицо девушки. Она, глядя на пустующую дыру под окном, не могла уже увести глаз. Ее кончики губ слегка дрожали, маленький носик не шевелился, а руки невольно сжались в кулак.
–Так здесь была спрятана часть…,– осторожно сказал я.
–Именно поэтому это место так было дорого мне. Оно меня держало тут,– подавленно молвила Вайолетт, выделяя каждое слово по отдельности.– Но теперь мне нечего беречь. Он определился со своей жизнью, так что, видимо, пора отпустить.
–Постой,– передо мной возникла ужасная мысль,– если у тебя больше нет фотографии, то ты…
–Больше не увижу его…,– грустно улыбнулась девушка.– Больше меня ничего не держит здесь.
–Ты собираешься уходить?
–Не знаю. Все же что-то, да еще цепляется за меня.
Вайолетт помогла своему драгоценному другу, позволив ему уйти… Лувр знал, на что идет, и все равно продолжил свой путь, несмотря на горечь разлуки. Я боюсь, что, теряя все самое ценное, он в итоге останется с одной лишь целью и голой жизнью, а перед ним откроется мир, который вряд ли сможет принять его так, как Пивоварня…
–Ты разве не испугался, когда шел прямо на него?– Вайолетт смотрела на фортепиано, вяло махая ногами: кровать была очень высокой, и ее ступни висели над полом.
–Я даже не заметил, когда он достал пистолет. Уже и не помню, что тогда чувствовал…
–А на меня ты нацелился…,– осторожно вылетел незаконченный вопрос из уст девушки. Она испуганно дрогнула.
–Рука не опускалась. Наверно, адреналин завел тело, но не разум. Я попросту не осознавал, что делал,– нужно было быстро придумывать различные отговорки, чтобы не совершить очередную ошибку.
–Значит, тебе не впервой…
–Да,– Вайолетт обернулась.– Не впервой.
–Что же ты пережил…
–Многое,– я смотрел на нее и надеялся, что в моих глазах она все прочитает.
–Ты же мне не расскажешь, да?
Я облегченно выдохнул.
–Прости. Мне трудно о таком вспоминать.
–Ничего. Я тебя тоже понимаю. Ведь у меня немало скелетов в шкафу.
–Ты ведь куда больше мучаешься, чем я.
Она ничего не ответила. Невыносимо было смотреть на ее старательные попытки сдержать слезы. Мне так хотелось обнять ее, поддержать и ответить ей такой же лаской, какой она приютила меня в ту самую ночь, когда весь мир казался столь красивым и злобным, элегантным и безжалостным.
–Его же можно увидеть, коснувшись,– я неожиданно присел на кровать. Вайолетт удивленно посмотрела на меня. Я постарался сделать наиболее воодушевленный вид, чтобы подбодрить ее и посмотрел в ее глаза, которые она тут же спрятала.– Если он прикоснется, то ты сможешь видеть его.
–Лувр не сделает этого.
–Почему? Он же любит тебя! Ему будет невыносимо не видеть тебя!
–Нет!– Вайолетт криком прервала мой бессмысленный лепет.– Он не сделает этого. Он больше не заглянет в наш дом…
–С чего ты взяла? Лувр обязательно вернется…
Девушка посмотрела на меня. В ее глазах не было слез. Она серьезно взирала мне в душу, пытаясь безмолвно все объяснить. Если бы хоть одно слово вылетело из ее рта, слез бы уже было не остановить.
–Вы же…,– мой чертов язык продолжал нести чушь, не собираясь подчинятся приказам сознания. Но это был последний выхлоп моей сердечной помощи.
Вайолетт тихо встала и, шурша платьем, села за фортепиано. В молчании разбитой комнаты ее руки незаметно нажали на клавиши, и осторожная мелодия темными ветками разрослась по стенам. Я сидел, опустив голову, и тихо проклинал себя за то, что не остановил Лувра. Именно из-за моей глупой инициативы страдает Вайолетт. Если бы я не дал ему ту фотографию, если бы не подарил жизнь, не даровал смысл, то все бы не пришло к такому печальному исходу. Эти цепи, что связывают девушку с Пивововарней, раскололись по моей вине. Те, кто живет в Раю, не способны существовать в грешном мире. Дав им возможность обрести свободу, я не научил их жить. Именно на мне лежит ответственность их будущей гибели, ведь она неизбежна…
Девушка тихо играла весеннюю и солнечную композицию, пока по ее щекам текли слезы. Радостные ноты весело бегали по убитым горем телам несчастных горожан Пивоварни. Зимнее цветение, с виду невероятно красивое и манящее, но такое безжалостное и неумолимое, наконец, достигло пика своего коварства. Когда лепестки этого холодного цветка смогут потянуться к солнцу, наступит всеобщее молчание в память о тех, кто стремился к мечте…
Затем в мелодию проникли грустные мотивы философских размышлений о вечности, и в то же мгновение в комнату ворвался яркий солнечный свет, особенно подчеркивающий пустующую дыру на месте подоконника, где хранилась стабильная жизнь и огромное прошлое, которое в один вечер исчезло и осталось в памяти маленькой пианистки, чьи плечи дрожали уже сильнее не только из-за игры, но и из-за громкого плача.
Казалось бы, как прекрасен этот контраст белого и черного, но я хотел в этот момент умереть от стыда и совести, ведь весь обряд, весь концерт был ради того, чтобы обвинить меня, надеть на мою голову тонкий венок из листков бумаги, где на каждом обороте написано по одному моему греху, что сотворил я в своей жизни… Это уже не было исповедью, а настоящим распятием, после которого люди не возведут меня до статуса Сына Божьего, а проклянут и станут желать моему уродливому лику всех самых ужасных пыток в подземном мире. Но самым страшным наказанием станет вечное клеймо позорника, оставшегося в памяти людей образом наихудшего творения Всевышнего…
А затем к солнечному свету прибавились и прежние радостные ноты, усилившие плачь Вайолетт. Я лег на кровать, посмотрел в потолок, и он показался мне ослепительным и ярким, так что пришлось закрыть свои глаза и погрузиться в мимолетные образы всех тех, кого я встретил в Пивоварне. Они стояли в одном четком строю, протянувшись вдоль проспекта, на котором стояла моя квартира. Начинался путь с Площади. Назад пойти я не мог, поэтому стал медленно шагать и вглядываться в лица каждого жителя Пивоварни и встречал вместо приветливых глаз разочарованные и гневные лица, осуждающе качающие головой. Я смотрел в глаза каждому, кто стоял в ряду, не смея отвернуться. В груди болело все сильнее, но стоило последнему в строю остаться позади, как все отпустило, ведь конечной точкой проспекта стала моя квартира. Без подъезда. Одинокая дверь, находящаяся между двумя трехэтажными домиками, а за ней- небольшая серая коробочка. Я зашел в нее и на полу увидел тетрадку, открытую на последней странице, на которой было написано…
Музыка стихла. Я проснулся.
Давящая тишина, воцарившаяся вокруг прервала тот шум, что творился в голове. Я открыл глаза и стал слушать. Тихие всхлипывания девушки осторожно дергали за струны безмолвия, не тревожа покой спящих книг на полках. Эта музыка была куда приятней той, которую играла Вайолетт. Здесь я мог не стыдиться себя, ведь мне тоже хотелось плакать. Но внутри какая-то толстая веревка затянулась возле сердца, не позволяя ни одной соленой капле упасть на мягкую, помятую и чистую простынь кровати. Я уставился в потолок, а солнце, как на зло, светило все ярче и ярче, отравляя мою душу, безжалостно терзая горло.
Половица скрипнула. Снова легкое шуршанье платья, будто бы бурление речушки, приближалось. Снизу-вверх на меня глядела Вайолетт. Еще красная в области глаз она безмолвно требовала встать, и в ее тишине звучали строгость и серьезность. Я озадаченно встал, и девушка подала мне руку. Ее тонкие пальцы опустились на мою тусклую ладонь, и легкий порыв повел меня из комнаты. Мы спустились вниз. Лилии не было. На улице, казалось, снег искрился еще ослепительнее. Вайолетт неожиданно побежала, увлекая меня за собой. Скрипя снегом, мы мчались в сторону моей квартиры, серой и неприятной. Во всей ее ауре была удивительная решимость, огонь, что растапливал окружающие снежинки, а снег с гололедом боязливо отступал, давая нам дорогу. Мы прибежали к моему подъезду и остановились. Вайолетт тяжело дышала, даже задыхалась.
–Зачем?– я хотел помочь ей, но она лишь отмахнулась.
–Там… Лувр…,– она слабо указала на дверь.
Я протянул ей руку. Она раздраженно отошла и грозно посмотрела на меня.
–Иди,– все еще тяжело дыша, говорила Вайолетт, и из ее рта большими клубами вылетал пар.– Сопроводи его.
–Куда?
–Иди!– она топнула ногой.
Я зашел в подъезд, но оставил дверь открытой. Медленно ступая вверх, нервничал. Чем ближе приближалась эта противная мне серость, тем хуже становилось внутри. Почему-то я понимал, что мне будет неприятно общаться с ним, будто бы между нами вдруг оказалась вина, и вот ее мы не можем поделить. Дверь. Вокруг нее струилась черная дымка плохого исхода. Если бы я не открыл ее, то, может быть, все пошло бы по-другому?
С закрытыми глазами я переступил через порог. Комната оказалась пустой. Однако глаза меня обманывали. Я чувствовал чье-то дыхание, какой-то невидимый силуэт следил за моими движениями, остерегался контакта со мной. Кровать была никем не тронута, окно закрыто. На столе лицевой стороной лежала тетрадка, привычная и обыкновенная. Но в ярком свете зимнего солнца я заметил тонкий блеск ровного шва. Еле видимая нитка небрежно переплетала толстую кожу моей тетради, и только эта халтурность в работе того, кто зашил мои рукописи, помогла мне понять, что мои труды кто-то трогал. Я перелистывал исписанные страницы, пытаясь найти хоть какую-нибудь подсказку, позволяющую мне узнать вора. Но все было чисто. Ничего не написано, ничего не исправлено. Один лишь шов, который, может быть, всегда был, но до этого момента оставался незамеченным. Я взял лежащую рядом ручку и осторожно проткнул шрам тетради. Внутри пусто. Пустой каркас, не имеющий ни цвета, ни надписей. Голая тетрадь без обложки, безобразная, скучная, невзрачная.
Я заглянул на кухню. Ничего, кроме неуютной серости и сырости. Никаких звуков.
Тихое шуршание. Я обернулся. Вайолетт стояла над истерзанной тетрадкой и дрожащими руками держала ее в руках. Девушка посмотрела на меня отчаянными глазами, и по ее виду стало понятно, что все упущено. Последний шанс остался позади, а стрелки часов не останавливались.
–Все потеряно…,– дрожал и ее голос.
–Еще есть шанс…,– подавленно проговорил я.
–Ничего нет… Он умрет… Умрет!– она упала на пол в слезах. Ее крик оглушил квартиру.
А в моей голове почему-то играл тихий оркестр. Я давным-давно слышал какую-то классическую мелодию, которая вспомнилась именно в этот печальный момент.
Вайолетт била руками пол, пытаясь до кого-то достучаться. Из ее слез уже нечему было выходить, слишком многое было выпущено. Я присел рядом с ней и просто наблюдал за ее самым страшным, самым опустошающим и ужасным горем. Все в моей серости являлось безмолвием, а в тот момент и подавно каждая вещь грустно наблюдала за печально опавшей звездой, не отводя взгляда.
Мы обернулись. Дверь закрылась.
XX
Я выбежал на улицу. Куда же бежать? Где же он? Куда он мог направиться? В моей голове возник дом Ньепса, и я тут же помчался в сторону Площади. Я ведь чувствовал, что не один, так почему не доверился своему нутру? Почему я снова избежал контакта с самим собой, доверившись реальному, когда весь этот город- самое настоящие опровержение всего правильного и реального? Опять я- тот, кто собирается заниматься писательством- не закрываю глаз, не признаю того, что эти устои мира могут быть нарушены, могут быть ложными и что существует вокруг меня все самое необыкновенное, все самое странное и магическое. Я хотел стать взрослым, но при этом остаться с детским воображением, а в итоге превратился ни во что. Перебежчик, странник, что приходит в чужие города и ломает все построенное и настроенное. Черт подери, хватит уже гнаться за реальным, хватит хвататься за чопорность окружающих интеллигентов, пора стать собой, признать, что мне противно то общество, к которому я стремился, что я стремлюсь не к обществу, а к людям, что я хочу стать нереальным! Отпустив все плохое, я не стал хорошим, а лишь наоборот, утратил ощущение своего присутствия в этом мире. Следя за теми, кого не видят, вместо того, чтобы помочь им, моя гнилая натура дала им видимый огонь, из-за которого они горят, и их фитиль вот-вот кончится. Пора перестать сжимать им горло, надо позволить им жить! Нет смысла их учить, они не научаться, надо дать им возможность существовать, чувствовать и мыслить, и только тогда эти невидимые люди, которые живут не просто вокруг, а в самих нас, приведут наши души к той истине, о которой сказано так много, которую так никому и не удалось найти…
Стоя перед парадной дверью в дом Ньепса, я нерешительно держал ручку. Холодный чугун, из которого была сделана дверь будто бы говорила, что здесь мне не место. То, что я ищу находится не тут. Я отошел от двери. Хотел уже побежать обратно к Вайолетт, но оступился. Все было правильно… Надо идти дальше! Я рванулся к Площади, тяжело дыша. Холодный ветер резал легкие изнутри, нос будто бы проткнули тысячами иголок. Но я бежал, уже не помня зачем, и ноги держали меня, уверенные в своем ходе, все тело просто отдалось их темпу, их надежности и правоте цели, к которой они мчатся.
Площадь была на удивление многолюдна. Счастливые и пьяные жители Пивоварни в пышных куртках различных цветов радовались снегу: дружно играли в снежки, делали снежных ангелов. Вокруг была суматоха, перемешанная с радостью, и, кажется, один я суетливо ищу глазами невидимого человека без лица, спрятавшегося среди толпы, находящегося на грани полного отчаяния и смерти. Несмотря на то, что стрелки часов уже далеко ушли от минуты спасения, никто еще не отменял чуда. Когда человек осознает все, начинает по-настоящему видеть окружающий мир, время чудес только настает. Здесь не работает предусмотрительность и рациональность, здесь царят вера и любовь. И среди всех людей, проходящих мимо меня, все никак не попадалось одно размытое лицо, страшное и угрожающее своей аурой, но, я уверен, сейчас оно в размышлениях. Глубокие думы охватили голову человека, живущего чувствами, и в этот самый момент нужно как никогда спасать его от дурного поступка. Но как я увижу невидимку? Как я должен почувствовать то, чего нет?
Отдаться нутру… Закрыть глаза и попросту идти вслепую. То, чего ты не видишь, нужно искать с закрытыми глазами…
Так я пробежал Площадь бесчисленное количество раз, и настолько устал, что обессиленно упал на одинокую скамейку. Мне нужно было отдышаться, иначе такая беготня меня доведет до гроба быстрее, чем Лувра.
Люди беспечно проходили мимо меня, а вместе с ними мимо меня пролетала и их спокойная неспешность жизни. Они будут прожигать каждую минуту в наслаждениях, иначе в настоящем земном Рае невозможно. Человек по природе стремится к наслаждению, поэтому ему никогда не постичь ни единства, ни идеала. Из всего человечества, большинство великих личностей или изначально предавались удовольствиям, ведомые удачей, или после достижения величия портились, давая себе возможность расслабиться. Единицы из всех миллиардов, что заполонили несчастную планету- великомученики- нашли то, чего искали. Они нашли успокоения. После мучений раздумий и насилия обыкновенные терпящие люди обрели свое счастье, пережив внутреннее горе. Именно их нужно ставить пример человечеству, но те, кто распоряжаются картинами вывешивают в галереях иллюстрации наслаждения и греха, прикрываясь чистотой искусства и силой человеческой мысли. И как среди этой тонны сена на самом деле найти драгоценную иголку? Удача…
Вдруг поток толпы незаметно рассеялся, и передо мной предстал Лувр, сидящий напротив. Он с фотографией в руках был виден всем: люди оглядывались на его размытую физиономию, не веря своим глазам, но все равно проходили мимо, ничего не говоря. Его четкий силуэт отражался в стекле уличного фонаря, ветер облетал безликого стороной, а снег под его ногами ломался. Он был виден… Виден! Теперь уже я не верил своим глазам и молча наблюдал за неподвижным силуэтом Лувра, не имея пока сил встать.
Тут мимо прошел пьяный мужчина, который, пройдя около безликого, вдруг остановился и повернулся к нему.
–Да ладно… Ты?– он некультурно указал пальцем на Лувра. Тот лишь медленно посмотрел на него.
–Знакомы?
–Как же! Конечно, знакомы! Разумеется, знакомы!– незнакомец обрадованно сел рядом с Лувром, обняв его одной рукой за плечи, а другой держа бутылку спиртного. И в этом красном и уродливом от пьянства лице я узнал черты Алексея. Размытые контуры щек, вздувшийся подбородок, распухший нос окончательно сделали из вдумчивого следователя свинью из общего свинарника.
–Советую вам так не цепляться, иначе произойдет что-то страшное,– мрачно проговорил Лувр, отодвигаясь от пьяницы.
–Это же ты тогда заходил ко мне домой с мистером Ридлом?
Безликий удивленно посмотрел на него.
–А я ведь сразу тебя заметил,– игриво махал пальцем Алексей.– Да только не был уверен, что ты существуешь. Настолько лица остальных стали размытыми из-за алкоголя. Да…,– протянул следователь и разлегся на спинке скамейки.– Наш дар- это наш камень преткновения… Так почему же ты ничего не говорил тогда?
–Не моя работа,– коротко отрезал Лувр.
–Да уж, Ридл куда разговорчивее тебя. А ведь знаешь, мне даже сначала показалось, что ты тот самый мой спаситель.
–Почему вы так в этом уверены?
–Уже не уверен… Ты не он. Тот куда задорнее, у него нет цели, есть предназначение. Он похож на дикого зверька, который живет чувствами и инстинктами, но никак головой. Ты куда более походишь на всех людей, которые сейчас ходят вокруг. Такой же вдумчивый, такой же серьезный, такой же скучный. Тот был простым и непокоримым, а ты…
–Так может я- это он!– вдруг воскликнул Лувр, ткнув себя пальцем.
–Да говорю не он!– отмахивался бутылкой Алексей.– Я ведь уже все сказал: ты- человек, он- зверь. Только звери по-настоящему связаны с Богом, потому что следуют его законом без лишней мысли. Обретая ум, мы стараемся стереть ту землю, на которой и обрели разум. Стараемся вечно избежать правил, заглянуть за стену, после чего слепнем и рассказываем красивые байки. Все просто в этом мире. Человек прост, как классическая мелодия. А животные не такие…
–Как не такие? Они еще примитивнее нашего!
–Животное бы не стало возмущаться. Оно приняло бы правду такой, какой она есть и продолжила бы заниматься тем, чем занимаются все ее сородичи. Человечество миллионы лет жило только потому, что жило одинаковыми правилами, следовало законам и под взором божьим создавало дозволенное. А вот сейчас мы отрываемся от всех традиций, стараемся найти запретное, торопимся, но наши деды столько раз твердили, что с терпением приходит ум. Все уже написанное, мы лишь перефразируем старое! Животные куда приличнее в этом плане: никто не знает, что сделает разъяренный тигр, но всем известен его быт и повседневная жизнь. Эта непредсказуемость в фактах- прелесть! А человек то и дело, что стремиться к постоянному нарушению и разрушению…
–Бред!– возмутился Лувр.– Это просто пьяный несвязанный бред! Тебе прямая дорога в психбольницу!
Алексей вдруг громко рассмеялся, чуть не упав со скамейки. Противный рокот, похожий на трель пулемета, раздался на всю Площадь. Все обернулись, но видя, кто смеется, отворачивались и продолжали заниматься своими делами. Лувр недоуменно глядел на следователя, сжимая в руках фотографию.
–Чему же ты смеешься…
–О!– старался заглушить смех Алексей.– Боже! Прости! Ох… Просто вдруг пришло осознание, а вдруг это все шутка!
–Какая шутка…,– ошеломленно, не своим голосом проговорил безликий.– Какая к черту шутка?!
–Да понимаешь, ведь ты сейчас был так похож на моего спасителя. Так похож, да и сейчас тоже похож. И я подумал, а вдруг это просто с моей головой проблемы? Вдруг я просто вешаю на всех подряд маску этого спасителя, которой просто нет? И ведь правда,– Алексей снова засмеялся.– все шутка! Все смех!
–Да что же ты такое!..,– хотел было замахнуться Лувр, но обессиленно опустил руки.
–Его нет, понимаешь? Нет! Это я старый псих попросту выдумал все это! Придумал! Нет того, у кого нет цели. Все бред! Ты прав! Бред! Просто бред! Ха-ха-ха!
Алексей заливался смехом, Лувр со страхом смотрел на него, и все это зрелище было до того ужасное, до того жуткое, что я просто отвел глаза, наблюдая, как остальные также игнорируют огромную проблему, сидящую на скамейке в самом центре Площади.
Следователь еще пару минут не мог остановиться, но затем успокоился и стал охать и ахать от раздутого живота.
–Ох! Ну и хороший же ты собеседник. Да еще такой интересный! Смотри, не исчезни,– снова игриво Алексей указал пальцем на Лувра. Затем он достал из кармана пачку сигарет и протянул одну безликому.– Будешь?
Лувр посмотрел на белую сигарету, которая ядовитым оттенком выделялась на фоне яркого и чистого снега, и взял ее.
–Огонька?– предложил Алексей.
–Нет… Спасибо.
–Ну! Бывай! Будь здоров!
Алексей весело встал и, пошатываясь, направился в неизвестную сторону Пивоварни, распевая на ходу различные неприличные песенки.
Лувр сидел молча на скамейке, держа в одной руке сигарету, а в другой фотографию. Я решился встать и подойти к нему. Он, не поднимая головы, громко вздохнул и проговорил:
–Шутка… Я- шутка…
–Нет,– я сел рядом с ним.– Никакая ты не шутка. Шутка быстро забывается, от шутки громко смеются, а ты не такой. Ты живой и долго врезаешься в память остальным. Ты настоящий.
–Теперь настоящий. А вдруг я придуманный?– он взглянул на меня, и я поразился: в размытом бульоне виднелись очертании сухого лица, подавленного и хмурого.– Ведь столько проблем принес один только я. Меня создали, чтобы убивать. Я- убийца, а тут еще и жизнь свою заслужил…
–Всегда заслуживал. Любой из нас заслуживает жить.
–Даже те, кого я убил…
–Ошибки свойственны молодости,– я пристально взглянул на сигарету, зажатую двумя пальцами безликого.
–Когда я был молодым?– Лувр взглянул наверх.– И небо такое серое… Размытое оно и блеклое, а ведь тоже ненастоящее…
–С чего это ненастоящее? Самое настоящее.
–Не понимаешь ты ничего. Нет его. Оно над головой, но потрогать мы его не можем. Живая картина. Если бы ее не было- ничего не поменялось бы.
–Людям было бы плохо…
–Каким людям?– вдруг громко спросил Лувр.– Каким людям? Тем, что вечно смотрят под ноги? Они даже глаз не поднимают, привыкли глядеть в пол, пытаясь найти на дне золото. А небо кому сдалось? Метеорологам?
–Тем, кто мечтает.
–Нет таких. Если б люди мечтали, они бы не выглядели бы так жалко, так реалистично и по-настоящему.
Я молча глядел на вытянувшуюся фигуру безликого. Его грудь из-под пальто живо поднималась вверх, а руки крепко сжимали фотографию, но куда крепче сигарету.
–Жив ли я?– вдруг спросил Лувр.
–Конечно, жив.
–А жив ли ты?
Я промолчал. Мимо нас пролетел ветер.
–Как думаешь, пойдет ли сегодня дождь?– Лувр все еще пытался спрыгнуть с поезда.
–Зачем ты все бросил?
Безликий медленно посмотрел на меня.
–Проверить, настоящий ли я.
–Через боль?– неспешно в душе моей разгоралось пламя.
–Один из самых действенных методов ощутить свое нутро- это причинить себе боль.
–А другим она зачем нужна-то?
Лувр ничего не ответил.
–Зачем она Вайолетт? Ей же это не нужно. Ей нужен ты. Так зачем ты бросил ее?
–С ней все было не по-настоящему…
–Да оставь ты эту реальность!– я встал со скамейки и сверху-вниз глядел на Лувра.– В этом городе все ненастоящее, и ты тоже! Оставь же ты все это, вернись обратно!
Безликий молча опустил голову, сменяя взгляд с фотографии на сигарету. Он беззвучно стоял перед мучительным выбором, не показывая с виду, насколько тяжело что-либо принять.
–Есть огонек?– Лувр взглянул на меня.
–Нет,– я испуганно взглянул на него, но в голосе звучало надежная твердость.
–Жаль.
–Не делай глупостей.
–Я просто собираюсь согреть руки.
Я подозрительно взглянул на него.
–Какой же ты все-таки зануда…
Лувр встал и стал рыскать по карманам.
–Прекращай,– я протянул к нему руку, но он грозно отбил ее.
Из кармана безликий достал зажигалку и собирался зажечь сигарету, но я накинулся на него. Тут же сильный удар отбросил меня. Голова закружилась и в глазах потемнело. Я видел над собой серое невзрачное небо, и на фоне скучных туч появилось лицо безликого с сигаретой в руках. Из его рта вылетел клуб дыма, и тут же он закашлялся.
–Дрянь. И зачем вы такое в рот суете?– кашляя, проговорил Лувр. С каждым словом из его рта вылетала черная дымка, улетавшая вверх, к серым тучам. Затем он прошел дальше и сел на лавочку, стоящую напротив. Я с трудом перевернулся.
–Подожди… Дай руку…
–Извини, ты сам полез,– хрипло произнес Лувр.– Все шутка… Бред. Если я существую, то мне будет больно умирать, если все мое существование заключено в этой бумажке, то я буду биться в мучениях. Но если меня нет, то я просто исчезну. Если я существую независимо от мира, то от меня останется только эта сигарета, и ничего больше.
–Дай же… руку…,– болезненно молил я, не имея сил ползти.
Лувр поднес горящий пепел к краю фотографии, и белоснежная бумага тут же вспыхнула ярким красным цветом, оставляя за собой безжизненный серый песок, разлетавшийся по ветру. Пламенная граница все росла, а с ней исчезала белая пленка. Большая часть снимка была уже сожжена и тут же разлетелась по миру. Потрескавшиеся части единой фотографии разрушались и падали, как небоскребы в вечную пустоту, так и не достигая дна. Яркие вспышки искр среди черного пепла тут же гасли, сжигая последние белые пятная. Лувр молча наблюдал, как постепенно его фотография исчезает, распадаясь на пылинки, во всем его теле не было никаких эмоций. Он пусто наблюдал за горением своей жизни, не предпринимая ничего. Безмолвно любовался огнем и так же сухо следил за опадавшими черными кусочками. Вместо сердцевины виднелось бесформенное и размытое лицо Лувра.



