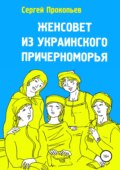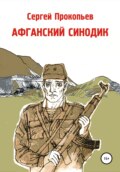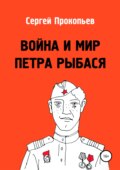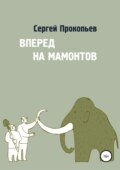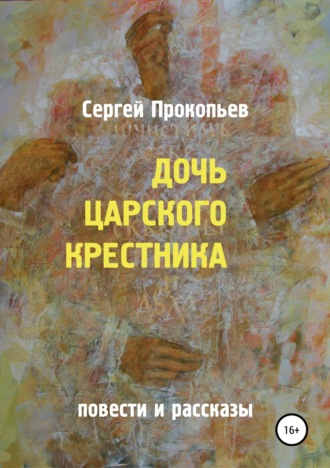
Сергей Николаевич Прокопьев
Дочь царского крестника
Иллюзион под названием жизнь
Уже через пару месяцев Варя работала с Гешей номер. Поехали по городам и весям развлекать почтенную публику. По истечении трёх с половиной лет они тихо-мирно расстанутся. Неугомонный, влюбчивый клоун присмотрит новую партнёршу – молодую, яркую, пышногрудую блондинку.
– Пора тебе, Варя, самой вставать на ноги, – скажет на прощанье. – Ты талантливая, должна быть на первом плане, а не в паре с кем-то…
Обещание Геша-клоун сдержал – многому научил Варю. Она приготовит свой номер фокусника-иллюзиониста, начнёт выступать с ним в цирке на сцене. Конечно, не Игорь Кио с распиливанием женщин пополам, освобождением себя от пут на руках-ногах в закрытом сундуке под куполом цирка, эффекты скромнее, но ловкость рук тоже нужна. Да ещё какая! И шарм, когда руки прекрасной женщины достают из ничего километры лент, голубей, сырые яйца…
Но самые поразительные иллюзионы ставит жизнь.
Гастроли в Белоруссии, небольшой городок, в течение пяти вечеров после Вариного выступления из первого ряда встаёт коренастый мужчина с роскошным букетом белых хризантем и передаёт без слов и записок артистке. Труппа хихикает: «Опять твой с букетищем заявился». На шестой вечер поклонник ухитрится пройти к ней в грим-уборную.
– Вам не надоело смотреть одну и ту же программу? – кокетливо спросит Варя, принимая очередной букет.
– Вы меня не узнали?
– То есть – как это не узнала! Вы меня завалили цветами!
– Я не об этом. Меня зовут Олег. Помните целина, совхоз «Советский»? Я помогал растапливать кизяк…
Бог ты мой! Как она маялась каждое утро, пытаясь приготовить еду для дочки практически на открытом огне. Топливо – сделанный из отходов жизнедеятельности животных кизяк. Вёл он себя непредсказуемо: разгораться не хотел, а занявшись, стрелял в кастрюлю кусочками. И сама мысль, что не уголёк от дров попал в еду, портила аппетит…
Как-то бьётся Варя с неподатливым кизяком и вдруг слышит:
– Давайте, помогу!
Солдатик, проходя мимо, увидел Варины мучения.
– Помогите, – сказала Варя.
Солдатик ловко справился с кизяком. После этого каждое утро приходил в нужный час исполнить функции кострового. Возился с кизяком совершенно безвозмездно. Ни намёка не сделал красивой одинокой женщине на более близкое знакомство. Молча растопит, раскланяется и уйдёт. Пару слов если и скажет… Скромный солдатик. Но вдруг в расстроенных чувствах найдёт её днём на ферме:
– Нас отправляют в Семипалатинск, – доложит упавшим голосом. – Спасибо вам.
– Это вам спасибо.
– Вот мой адрес, весной демобилизуюсь, – с этими словами солдатик протянул сложенный листочек, – приезжайте ко мне в Тюмень с дочкой. Насовсем. Я буду вас ждать, – и, помедлив, добавил: – Всю жизнь.
«Наивный мальчик», – подумала женщина…
В грим-уборной произнёс примерно то же, что в Казахстане:
– Я здесь в командировке. Завтра уезжаю. Вот мой адрес, телефон. Я не женат, и ни разу не был. Очень хочу видеть вас и вашу дочь в своем доме.
Варю снова звали замуж.
И в третий раз заколебалась на перепутье: идти – не идти… На одной чаше весов – нет к нему никаких чувств, вообще никаких. Но с другой стороны – ты не восторженная девчонка, которой принца подавай. Помяла жизнь, шишек набила-наставила. В сорок лет какая бы ты ни была эффектной женщиной – всё одно бабья осень. И зима не за горами. Так и подошла к мысли: а почему не притулиться к надёжному человеку. Олег вон какой однолюб… Не значит – на шею безоглядно вешаться. Съездить в гости, присмотреться…
Никогда не жалела, что пошла за Олега. Помогал с реквизитом, руки золотые не только по разжиганию кизяка, помогал ставить новые номера, что-то постоянно придумывал… И любил её… Прожили рядом без полугода двадцать восемь лет. Но ни разу не заполнилось сердце щемящей нежностью, что испытывала к Мише…
Олег чувствовал холодность жены, но не попрекнул ни разу.
Когда Олег тяжело заболел, больше года ухаживала за ним. Оплакала на похоронах и превратилась во вдову на рубеже семидесятилетия.
Одна осталась во всей России. Дочь в двадцать шесть лет поехала в Австралию познакомиться с отцом. Рок семьи – женщины уезжают в Россию, а мужчин влечёт чужбина – дочери не коснулся. На зелёном с кенгуру континенте познакомилась с местным англичанином и вышла замуж. И будто мстя за женщин своего рода, свою дочь, Варину внучку – Джейн, будет всячески ограждать от русского языка. Английский станет родным для малышки. Ни слова русской речи в доме. Джейн будет изучать французский, итальянский. Но не русский.
– Ты хотя бы какие-то наши песенки детские ей пела! – говорила Варя по телефону дочери.
– Зачем?
Одиноко жила Варя и как-то написала в газету земляков-харбинцев «На сопках Маньчжурии» в рубрику «Откликнитесь, земляки». В списке была Леля Панина, другие одноклассники по Бухэду, знакомые по Маньчжурии, но открывал его Михаил Фокин.
Полдня плакала, получив ответ из Омска. Шесть лет, оказывается, он жил в России, в Сибири, свободным, на «целину» приехал в 1955-м, а женился только в 1961-м. Она не могла насмотреться на фотографию, что была вложена в письмо (на обороте надпись карандашом: «1960 год»). Миша в гимнастёрке, возмужавший. Но тот же, тот, который целовал её на поляне среди огоньков, дарил «моей любимой» кукушкины башмачки… Те же лучистые глаза, она помнила их всегда, видела, стоило лишь подумать о Мише…
Не судьба. Всё не судьба. А ведь как раз в июле-августе 1991-го целый месяц гостила в Одессе. Подруга по цирку пригласила на юбилей. Гуляли по Дерибасовской, ходили в Одесский оперный театр, ездили в Аркадию.… Не столкнулись. Каких только встреч не происходило в жизни, а главной – увы…
Одна была поразительнее, чем с Олегом, практически невозможная с точки зрения вероятности. Всё равно, что две песчинки в пустыне, разбросанные ураганным ветром в разные стороны, вдруг снова бы оказались рядом через много-много лет.
Это случилось ещё во времена СССР, она летела в Австралию к дочке. В Москве, в Шереметьево-2, предстояло просидеть ночь, чтобы рано утром лететь на континент с кенгуру. Народу в зале ожидания набралось под завязку, занял место, не сходи – иначе останешься в вертикальном положении на долгую ночь. Сидит Варя, рядом женщина дремлет. Вдруг Варин взгляд упал на руки соседки, со скрещёнными пальцами они покоились на животе. Варя увидела кольцо, и её обдало жаром: не может быть? Не может этого быть?!
– Бога ради, простите! – коснулась пальцами плеча женщины. – Откуда у вас это кольцо?
Соседка достала носовой платок, промокнула им лоб, было душно, и принялась рассказывать историю из прошлого, которую Варя знала не хуже её.
В Дальнем они с Андреем женились без фаты и «горько», но кольцо жених подарил – золотое, с насечками. Это была самая большая драгоценность, кроме бесценной дочери, привезённая из Китая на «целину». Пригодилось золото в казахских степях. Поехала Варя в соседнюю немецкую деревню покупать продукты. Без денег. Кто их платил в совхозе? Зашла в дом. Немцы в деревне жили с Поволжья, их выслали в Казахстан в сорок первом году. Немке кольцо понравилось, дала за него сколько-то денег, а главное – мешок продуктов: картошки, муки, гороха… Посадила за стол. И часа два рассказывали друг другу о себе, одна – о жизни в Маньчжурии, другая – под Саратовом, обе – о мытарствах в Казахстане. Плачет одна, успокаивает другая, а то и вместе разревутся.
Женщины, что с них возьмёшь.
Расплакались и в Шереметьево-2. Немка сняла кольцо… Варя вспомнила в этот момент её имя – Рита.
– Возьми, оно твоё, – соседка вложила кольцо в ладонь Вари.
– Спасибо, Рита! Вы ведь Рита? Правильно?
– Да, Варя!
– Вы меня тоже помните!
Женщина заулыбалась, взяла кольцо, повернула его к Варе внутренней стороной, по которой шла надпись, нанесённая китайцем-гравёром: «Варя Андрей».
Обручальное кольцо вернулось на безымянный палец хозяйки через тридцать пять лет. А по истечении недели увидит Варя в Австралии и того, кто вручал свадебный подарок. На далёком континенте только и смогут они сказать друг другу несколько малозначительных фраз. И с отцом Варя повстречается не лучшим образом. Доживал он свой век в хорошем доме престарелых. Выглядел ухоженным и одиноким, внучка навещала крайне редко, звонила только по праздникам. Для правнучки родным человеком не стал. Варя готова была досмотреть отца в Австралии или забрать к себе… Но он резко пресёк её попытки предложить себя… Не сказал дочери на прощание – «прости за всё». Не сказал в ответ на её «прости, папа» – «и я тебя прощаю».
«Выходил один на путь»
Такие встречи, соединяющие с прошлым, подарит Варе судьба. Лишь с тем, кто всегда жил в её сердце, свидания в земной жизни Бог не дал.
Варя с нетерпением ждала писем из Омска от жены Миши, будто это были и его весточки. Посылала в Омск свои изделия – пристрастилась на пенсии делать куклы. Хорошо учили в конвенте рукоделию – её куклы участвовали в международных выставках. Варя устроила в доме рабочий уголок с портняжным инструментом, швейной машинкой… Мишино фото, увеличенное компьютерным способом сыном соседки, висело над столом.
«Сбрендила старушенция, – скажет кто-то. – О спасении души надо молиться…»
Да, кстати, внучка Джейн однажды позвонит Варе из австралийских вечнозелёных далей.
– Бабушка Варья, добрый дня. Я учу русский.
«Мать не против?» – едва не сорвался с языка Вари вопрос.
– Здравствуй, Женечка! Здравствуй, солнышко!
– Я буду разговаривать русский, петь с тебя: «Выходил один на путь…» Я молодец к языкам… Молитвы читай твоя: «Господьи помилуай, Отче наш…»
«А зачем тебе?» – захочет спросить, но удержится Варя.
– Ты теперь необязательно учить английский, говорить со мной, когда я приеду в Россия…
Дочь царского крестника
Повесть
«Унывать – бесу волю давать», – говаривал отец Марии Николаевны. И не давал воли бесу. В советских лагерях сидел, в японской тюрьме томился, в двадцать два года к расстрелу приговаривали. И дочери наказывал «не унывать», следовать этой жизненной позиции.
Земли клочок под дачу Мария Николаевна взяла отнюдь не в то благословенное время, когда бум начался, о котором языкастый народ сочинил горько ироничную присказку: перестройка дала умным – кооперативы, дуракам – дачи, остальным – журнал «Огонёк». В данной триаде Мария Николаевна относилась к читателям «Огонька». Участок под дачу не взяла, когда стали нарезать всем и вся, по той простой причине, что было время, что наработалась на земле досыта. В далёком 1954 году приехали с матерью из Китая по зову исторической родины. Советский Союз бросил кличь эмигрантам: приезжайте целину поднимать. Всего шестнадцать лет исполнилось Маше-реэмигрантке, когда она стала целинницей, запрягли в целинном хозяйстве как большую – так что успела наработаться на совхозных полях. Поэтому дача ассоциировалась отнюдь не с шашлыками, вином и ароматами роз, а с посевной, прополкой, уборочной.
И вдруг с выходом на пенсию захотелось быть владельцем клочка земли, где ты волен высаживать, что хочешь, а земля в ответ будет благодарно одаривать овощами, фруктами и цветами.
Одним словом, потянуло к земле. Мария Николаевна человек думающий, думая об истоках тяги к земле, решила – отцовские гены взяли своё. Материнские как раз наоборот, их земля не манила к себе ни в молодости, ни в каком другом возрасте. Мама была другой закваски. Тогда как отец по роду-племени из крестьян. Но тоже не сразу к земле прилепился, подался в далёкие двадцатые годы XX века на передовой рубеж прогресса – в машинисты паровоза. Была, конечно, уже авиация, но она ещё повсеместное распространение не имела, тогда как железные дороги прокладывались по всему Земному шару. Отец Марии Николаевны жил с родителями на одной из станций Китайской Восточной железной дороги, если говорить короче – КВЖД. Его родители, когда за так называемой Великой Октябрьской революцией началась Гражданская война, решили, что от большевиков ничего хорошего им не дождаться, снялись с обжитого места, а жили они на Урале, и поехали навстречу солнцу. Люди были решительные и рисковые. Всю Россию до Дальнего Востока промерили на подводах со скарбом. Лошади в хозяйстве были, подводы – тем более. И дошли до Приморья. На краю земли бросить якорь, думая, что досюда советская власть не достанет. Она пусть с запозданием на два года, всё одно пришла к берегам Тихого океана.
Предки Марии Николаевны были из настырных. Раз сказали советской власти «нет», значит, никаких компромиссов. Снова нагрузили телеги добром и перемахнули границу с Китаем, тогда она никем не охранялась, на ближайшей от Владивостока станции Китайской Восточной железной дороги, Пограничной, осели. Была надежда, советская власть явление временное, а как падёт, можно будет скоренько границу в обратном направлении миновать. А пока стали землю возделывать, она была хоть и китайская, а не хуже, уральской и дальневосточной.
Однако сын Николай, будущий отец нашей героини, скептически посмотрел на сельскохозяйственную технику, все эти плуги, сеялки, веялки и другую механизацию. Ему хотелось покорять пространства при помощи мощных механизмов, хотелось скорости, и он пошёл в машинисты паровозов. Стал водить из Маньчжурии составы с лесом в Советский Союз. Было и такое, из Китая возили лес, а не наоборот.
Русские в зоне КВЖД были на особом положении. Тогда как коренная нация – китайцы – на уровне обслуживающего персонала, на паровозе выше, чем в топку уголь шуровать, не поднимались по служебной лестнице. Русские, построив в самом начале XX века КВЖД, привезли в Маньчжурию, позабытую окраину Китая, цивилизацию… На голом месте возвели более ста станций и городков, построили столицу Маньчжурии – русский город Харбин. Красивый, культурный, настоящая столица огромного края, со всей столичной атрибутикой: политехнический институт (профессура из Петербурга, Москвы и Томска), музыкальный театр, шикарные магазины, рестораны, храмы, монастыри…
Отец Марии Николаевны тоже не колесу, пусть и железнодорожному, молился. С позиции марксизма-ленинизма – работяга паровозного масштаба, деревенского кругозора. Какие у такого, казалось бы, потребности? Водка, молодка, гармошка да лихой перепляс… А вот и нет. В гардеробе с дюжину шикарных костюмов имел, к каждому своя пара обуви в виде туфель. А также широкий ассортимент рубашек с полной обоймой галстуков к ним.
Зачем, спросите, на паровозе столько костюмов? Или в Пограничной, деревне по большому счёту. А затем. Костюмы имел, чтобы с друзьями в Харбин веселиться ездить. Как захочется праздника молодым ребятам, как затребует душа красивой жизни, садятся в поезд и едут за праздником в столицу. Что такое семьсот километров по железной дороге? Да ночь переспать. В столице снимает молодёжь-холостёж шикарные номера в гостинице, и начинается праздник. В оперу тоже заходили парни, но в основном предпочитали активный отдых: рестораны, кабаре… Деньги зарабатывали на КВЖД хорошие, могли позволить себе расслабиться таким образом…
Тем не менее Николай не был беспечным парнем. Кроме увлечения паровозом держал пасеку на пару с более взрослым родственником. Это было отчасти для души – любил с детство пчёл, дед по отцу был пасечником, кроме этого мёд давал неплохой денежный приварок.
***
Отец для души в молодости пчёлами занимался, Мария Николаевна для пенсионерской души дачу завела. И к столу хороший приварок – огурцы, помидоры, морковь со свеклой, а для сердца – розы, астры, георгины, петунии… Как ни была загружена у грядок, в любой приезд обязательно выкраивала минутку для любимцев. Как же не посидеть рядом с красавицами, не поговорить? Пусть ничего не прозвучит в ответ, да всё одно слушают. Казалось – с пониманием. Поведает Мария Николаевна о житье-бытье, где и всплакнёт, пожалуется на зятя. Не сказать, плохой, но кроме своего мнения другого не признаёт. Цветы всегда реагировали на появление хозяйки. Она могла хоть с кем спорить – стоило калитку открыть, ступить на участок, сказать «здравствуйте, родненькие» – веселели. Бывало, поругивала любимцев, особенно ирисы. С ними ухо востро держи, чуть зазеваешься, лезут на чужую территорию. Бывало, пригрозит пересадить захватчиков в самый дальний угол, «с глаз долой». Белые розы именовала невестами, красные – модницами. К петунии относилась, как к сельской скромнице, которая не понимает своего очарования. Любила георгины. Именовала их королевам – сочно-бордовые одни, пронзительно-красные другие, а ещё – розовые шарами… Посмотрит, бывало, Мария Николаевна, и в тысячный раз удивится – такое чудо из ничего вырастает…
***
Россию отец называл Русью. Китайское, японское в его понимании – азиатчина. Русское – вот это да! Значит, с душой сделано. В 1931 году японская азиатчина напала на Китай, оккупировала Маньчжурию. И советские (так именовали тех, кто жил в Советском Союзе) на ушко предложили отцу поучаствовать в детективной операции в пользу Руси и во вред японским захватчикам. Согласился не раздумывая. Японцы пришли хозяевами в Маньчжурию. Свысока на местных смотрели, хоть китаец перед ними, хоть русский. Синдром пигмея, который в один момент вырос на целую голову. Как же такой кусок территории у Китая оттяпали. Ютились на своих крохотных островах, каждый переплюнуть из одного конца в другой можно, чуть не на головах друг у друга сидели, вдруг завладели огромной в их понимании территорией. Ошалели от радости. И не успели в одночасье на всё и вся в Маньчжурии лапу наложить, по всем углам посты расставить, шлагбаумами дороги перекрыть. Чем Советский Союз не преминул воспользовался. Пока то да сё, забирали, что плохо лежало на КВЖД, считая и вполне законно, что это больше СССР принадлежит, чем Японии. Как-никак Россия освоила дикий край, проложив по нему сотни и сотни километров железнодорожный путей, только длина главной магистрали КВЖД более двух с половиной тысячи километров. Детективная операция состояла в том, что Николай перегонял из Маньчжурии в Иркутск и Читу паровозы, вагоны. По принципу: шиш вам, господа самурайские. Однажды новенькую чешскую динамометрическую лабораторию увёл из-под японского носа.
Это была последняя ходка за добром для Советского Союза. Как пригнал вагон-лабораторию в Иркутск, отчаянному русскому машинисту сообщили: Николай, тебя япошки вычислили, возвращаться в Маньчжурию опасно. Пришлось остаться на территории, откуда родители в своё время бежали. Наивно, надеялся переждать в Советском Союзе какое-то время, а потом вернуться к семье. Паровозы, в конце концов, везде одинаковые. Без куска хлеба не боялся остаться. К тому же, любопытно было пожить на исторической родине. Никаких китайцев, японцев. Но о ресторанах с дюжиной костюмов пришлось забыть. Из парадного – только и всего – новая фуфаечка, из жилья – теплушка…
За полтора года до японской оккупации Николай женился. Его молодую жену советские товарищи хитростью привезли в Иркутск. Опытного машиниста Николая отпускать в Китай не хотели. Решили повязать. Понимали, пока жена в Поднебесной, муж будет смотреть в ту сторону. Сказали жене-дурёхе: собирайся, Николай зовёт, ждёт тебя не дождётся. И вывезли тайком. А жена с малым ребёнком и животом, в котором ещё один малец. В Маньчжурии у них был дом просторный в Пограничной, в Иркутске – теплушка, одному не развернуться…
Времена тем временем на исторической родине становились год от года суровее. Случалось, в кругу товарищей по железной дороге давал Николай волю сладким воспоминаниям о жизни в Маньчжурии, поездках с друзьями в Харбин.
За что в один прекрасный момент повязали, с убийственной формулировкой: японский шпион. В довесок к антисоветской подрывной деятельности записали крестником царя Николая II. История умалчивает, как так получилось. Или следователь настолько изощрённую фантазию имел, стряпая дела, или шутником оказался. Действовал по логике: раз нарекли Николаем, значит, крестник царя-императора. На самом деле, кто кроме царя мог крестить в 1910 году на Урале крестьянского мальчонку, давая ему венценосное имя. Хотели Николая даже в расход пустить. Так сказать, раз крёстного вместе с семьёй расстреляли, туда же и крестника следует присовокупить. Полмесяца ждал Николай рокового вызова. Как загремит засов, спрашивал охранника: с вещами идти? Если «да», значит, на расстрел. Но в отличие от великого «крёстного» почему-то передумали Николая к стенке ставить.
Пока он ждал расстрела, его первенец, сын, что в Китае родился, умер, зато дочь родилась. Только недолго на белый свет голубыми глазёнками глядела, угасла. Жена пришла в тюрьму на свидание. И вовсе не с целью поддержать мужа в трудный час, пришла с твёрдой решимость сказать «нет». Влепила Николаю без обиняков: «Ты всю жизнь мне сломал! С этого момента знать тебя не знаю и знать не хочу! Не муж ты мне с этого часа! И не ищи никогда!»
Вместо расстрела отправили «царского крестника» на Соловки. Делясь с дочерью лагерным прошлым, говорил, что первая отсидка далась легко. Более того – образование получил, столько умнейших людей сидело вместе с ним. Кроме того на острове имелась мощная монастырская библиотека – пользуйся сколько душа желает. Гулаг ещё не сформировался в жёсткую систему подавления личности, лишь набирал обороты закабаления сидельцев. Ещё существовал за решёткой порядок: врагов народа – политических – держали отдельно от других представителей того же народа – уголовников. Не унывал Николай на Соловках. Молодой, по-крестьянски рукастый, да и по-рабочему с механизмами был на ты. Что особенно ему помогло – в столярном деле ас. Ещё в детстве от деда перенял. Один раз на школьный конкурс по деревянным изделиям выставил полноценный двухтумбовый письменный стол, своими руками до последней дощечки сработанный. И получил первое место с шикарным набором столярных инструментов. Николай среди лагерного начальства стал нарасхват. Изготавливал под их заказ домашнюю мебель – от элементарных табуреток до шкафов, комодов и диванов. Изделия роскоши тоже имели успех – резные шкатулки, столики инкрустированные…
***
На даче Мария Николаевна любила поставить шезлонг у цветника, поудобнее устроиться полулёжа, запрокинуть голову и смотреть в бесконечную небесную высь… Однажды в Маньчжурии девчонкой-второклашкой забралась на плоскую крышу навеса жарким июльским днём, легла на спину и растворилась в небесном просторе. Сердечко заволновалось от манящей высоты, бездонной голубизны, так бы и поплыл с белыми облаками. В детстве казалось – облака идут только в Россию, о которой часто рассказывали бабушка и отец. В Россию, где великие реки Енисей и Лена, а ещё Урал, есть озеро Байкал, что в песне бродяга переехал.
На дачу в тот день Мария Николаевна ехала в прекрасном настроении. Светило солнышко, после дождика парила земля. Мечталось поработать в охотку, поговорить с цветами, в шезлонге отдохнуть…
И заревела, открыв калитку. Все розы – все эти «невесты» и «модницы» – до единой срезаны под корень. И аккуратно сложены на тропинке, а бутоны тщательно растоптаны.
Дескать, это не пошлый грабёж, это, дорогая хозяюшка, обдуманная вредительская акция.
Мария Николаевна внучке обещала привезти «белюю лёзочку». И вот.
Да что это за сволочи такие? Что за пакостники? Она бросилась к соседу Пете, весёлому, всегда в лёгком подпитии мужичку:
– Петя, да что ж это такое? Никого не видел на моём участке?
Привела его посмотреть на картину варварства. Петя покачал головой, глядя на жалкие останки кустов роз. Посторонних он не видел, сам недавно пришёл.
Через три недели после роз рука вредителя прошлась по грядке с помидорами. Только-только начали поспевать. Все восемьдесят пять кустов были вырваны с корнями, плоды мстительно потоптаны.
За помидорами настала очередь «королев» – георгин. Их Мария Николаевна нашла у порога домика. Здоровенная охапка, по стеблям лопатой пару раз рубанули, как у свежей могилы на кладбище, чтобы исключить возможность вторичного использования. И сами клубни порублены лопатой.
В сентябре был сожжён туалет.
Заявила в милицию. Сосед Петя сказал:
– Страну разворовали до глубоких недр, а ты, Николаевна, с сортиром и лютиками лезешь к ментам! Пользуйся пока моим нужником, делов-то… И не бери в голову…
Легко сказать «не бери»… Ночевала на даче с топором в изголовье. Приезжала внезапно, не по расписанию. Делала вид, что уезжает, а сама, совершив конспиративный круг, возвращалась. Пыталась выследить таинственного вредителя и терялась в догадках – что это за вражина? Ничего в голову не приходило.
Ушла в прошлое дачная беззаботность. Не сиделось в шезлонге, не смотрелось в небо, не вспоминалось светлой грустью детство в Маньчжурии. С оставшейся в живых петунией разговаривала, как с обречённо больной. Вот-вот настанет её очередь…
Петунья вместе с бархотками достояла до морозов. Никто не прошёлся по ним безжалостной рукой и грубым сапогом.
На будущий год полсезона тоже прошли в напряжении, когда же тать вновь проявится. Не появился ни разу, Мария Николаевна начала успокаиваться: неужели пронесло? Начала ставила шезлонг, за облаками наблюдать.
Не знала, она, что вредитель сам занемог, попал в больницу. Однако выкарабкался из болезни, и снова пошло-поехало… В июле была перепорчена огуречная грядка. Разломан забытый под ранеткой шезлонг.
Снова как на линию фронта стала ездить Мария Николаевна на дачу. Снова засел в голову гвоздь: кто? За что?
Случилось самое страшное. Однажды приехала к пепелищу на месте домика. Деревянный он, как газетный лист, дотла сгорел. Одна панцирная сетка от кровати осталась…
Сосед Петя, критиковавший возможности милиции, предложил переодеваться в своём доме.
– Ты, Николаевна, главное не убивайся. Жива – жива, здоровье есть – есть. Вон как ворочаешь на грядках, за тобой мужик не угонится. Голова на плечах имеется – имеется. Чё из-за дураков в петлю лезть!
– Петя ты как скажешь – «в петлю».
– Ну, а чё реветь?! Будешь пока моим домиком пользоваться.
– Да я и в сарайчике могу переодеться.
Само собой, поревела над родным пепелищем, а потом пришло на память отцовское: «Унывать – бесам волю давать».
«Да что это я! – решила про себя. – На самом деле, жива ведь. Дети, слава Богу живы. Здоровье ещё вполне. Отец в лагерях руки не опускал…»
***
Два года «царский крестник» Николай отсидел на Соловках, потом наметилась кардинальная смена географии с сохранением тех же суровых климатических условий. Отправили на стройку социализма в Магадан. С одного крайнего севера повезли на другой, не менее крайний по погодным условиям.
Что такое Магадан с его рудниками и приисками Николаю рассказал в доверительной беседе начальник оперчасти, которому комод сделал. Безрадостную картину нарисовал. После чего вошла в Николая мысль о побеге – вернуться в Маньчжурию в безвизовом режиме.
Железную дорогу от Иркутска до Владивостока, все мосты и тоннели, спуски и подъёмы (здесь можно спрыгнуть на ходу, а здесь костей не соберёшь после приземления) – знал досконально. Столько раз прошёл её на паровозе из конца в конец.
Везли политических на Дальний Восток в товарняках вместе с уголовниками. Кончилась лафа Соловков. Блатные вели себя нагло, вызывающе. Дорога длинная, ехали немытые, небритые, параша в углу. Условия не позавидуешь. Николая охранники выделяли из общей массы. Спокойный, рукастый, скорый на ногу, всегда согласен воду на станции принести в вагон, баланду доставить… Николай, конечно, не посвящал никого, что втирается в доверие к охране с дальним прицелом…
Дни летят, колёса стучат, Николаю карта не нужна, всё в голове просчитал и точку побега наметил. В том месте железная дорога подходила близко к китайской границе. Это раз. Второе – перегоны между станциями давали хороший временной запас, можно далеко уйти, пока охрана хватится. На выбранном участке дорога брала подъём, паровоз километра два тащится, без увечий можно спрыгнуть.
Бежать, конечно, надо ночью.
Но как ни молился Николай – по графику движения выходило – днём подойдут к удобному перегону.
Что делать бедному зеку? «Унывать – бесу волю давать». Накануне приближения к заветному месту пошёл Николай с охранником за водой и ловко, стоило вертухаю отвлечься на проходящую молодку, бросил горсть песка в буксу. На следующем перегоне букса загорелась. Что и требовалось по плану побега. Вагон с дефектом эксплуатации не подлежит, нужен был серьёзный ремонт.
Подали взамен испорченного такой же телячий, но неприспособленный для транспортировки зеков. Контингент хоть и приравнен к рабсиле, да всё равно требуется нары поставить, отхожее место устроить.
Николай в доверии у охранников, кому как не ему вручить топор и пилу. Сверх заказанного Николай соорудил тайный лаз для десантирования.
В поезде Николай сдружился с Михаилом Лисовским, был тот из поляков, работал до ареста начальником строительного управления, где имелся тол для взрывных работ. Нашёлся доброжелаетль, стукнул: Лисовский готовит покушение на товарища Сталина. Дали десять лет. Поначалу суды скромничали со сроками. Но потом поехала по лагерям «тройка» пересматривать сроки в сторону увеличения. «Корячилась мне вышка, – рассказывал Лисовский, – покушение на самого вождя». Накануне прибытия «тройки» у Михаила началась дизентерия. С жесточайшим поносом. Изолятора в лагере не было. Перевели заразного зека в другой, в котором имелся полноценный лазарет. На счастье Лисовского «тройка» в том лагере чёрное дело уже свершила – щедро раздала всем сестрам по серьгам. Николай переоборудуя вагон взял в помощники Михаила и предложил тому бежать вместе. «В следующий раз дизентерии может не случиться, – сказал Николай. – В Маньчжурии у меня родственники, там не пропадём». Михаил, если и думал, секунд десять. И согласился на побег.
«С Богом», – перекрестился Николай и нырнул в ночь, следом скатился по насыпи подельщик. Прогрохотал в темноте поезд с охранниками. Больше с ними было не по пути. В кармане пару сухарей и малюсенький самодельный нож, один на двоих. Первые числа октября, на беглецах лёгкая хэбэшная одежда…
Ух, как бежалось по ночному простору, в котором не было колючей проволоки, вышек с вертухаями. Ноги резво отталкивались от земли. Дыхание с непривычки перехватывало, лёгкие не успевали наполняться живительным кислородом. Беглецы подгоняли себя не останавливаться, во что бы то ни стало надо переплыть до рассвета Амур. Река дала о себе знать свежим ветерком. Вот и берег. Ура! Можно перевести дух. Место низкое, гнилое, да не дом они собрались рубить. Николай пробежался по берегу и нашёл четыре брёвна. Верёвку бы ещё или проволоку. Начали спешно резать ножичком одежду и связывать брёвна.
Сердца обоих бешено колотились от сумасшедшего бега, от нервного напряжения. Где-то там в темноте берег долгожданной свободы. Сколько дум передумано о воле, и вот она рядом, только и всего перемахнуть Амур. Стараясь не шуметь, столкнули плот в воду, легли на него грудью, один с правого борта, другой с левого, и заработали руками-ногами, направляя ковчег к спасительному берегу. На реке было тихо. Ни огонька на китайском берегу, ни огонька позади, на советском. Безлюдное место. И это хорошо. Они старательно гребли руками, работали в воде ногами. Амур сильным течением сносил плот, но это не беда, главное, двигались к заветной цели. Наконец, выступила из темноты береговая линия… Прощай, лагерная жизнь, прощай, охрана. Ноги коснулись дна, плот уткнулся в берег. Шёпотом переговариваясь, решили сразу избавиться от плота-улики, с силой толкнули на течение, пусть подальше уплывёт от бдительных глаз пограничников. Сил после многокилометрового забега по пересечённой бездорожной местности и скоростной переправы не осталось. Но душа ликовала – получилось!