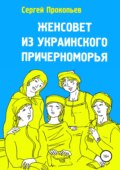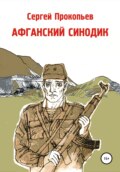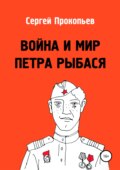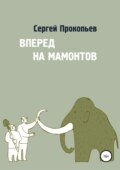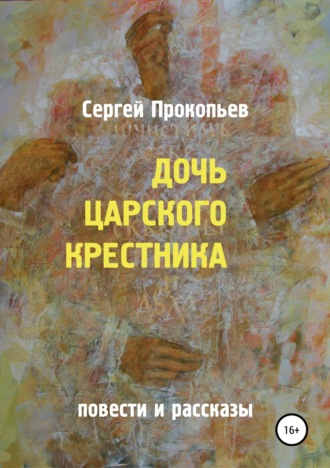
Сергей Николаевич Прокопьев
Дочь царского крестника
Монголы, китайцы, тунгусы
Бабушка учила: «Если вы что-то хорошее сделали человеку – забудьте! А если он вам сделал – запомните!» А ещё говорила: «Чья душа в грехе – та и в ответе».
Кто бы ни приезжал в наш дом: монгол, китаец, тунгус – желанный гость. Однажды монгол приехал, объясняет – конь убежал. Отправился за поделочным лесом, загон для овец делать, и упустил коня. Дурной был, удрал. Монгол рассказывает бабушке, что три дня не ел, хоть хлеба дайте. Бабушка борща наварила, он наелся и уехал. Прошло года два, я был ещё мальчишкой, мы с Петькой сделали ворота для овечьего загона. Берёшь четыре доски, две жердины хороших, всё это сбивается, пятая доска по диагонали. На продажу монголам сделали. За одни такие ворота давали овцу. Своих овец старались летом не резать, у монголов покупали. Повезли ворота продавать, и монгол, которого бабушка накормила, нас увидел. Всем своим стал возбуждённо рассказывать, что за бабушка у нас, как она выручила его! Кто-то из монголов подтвердил, мол, знаю эту женщину. Мы по-монгольски немного понимали. Совсем немного, чисто для базара: спросить, сколько стоит, поторговаться – не больше. Но видно было, с какой добротой монголы относились к нашей бабушке. Она, казалось бы, пустяк и сделала, но в нужный момент…
Много монголов по весне приходило в Маньчжурию. Большие отары пригоняли. Пастбища исключительные в Трёхречье. Трава острец, как овёс, если вовремя накошен – овса не надо. Ещё визирь отличная трава, её овцы любили. У монголов были священные места в Трёхречье – обо. Груда камней, выложенная пирамидой. Монголы приезжали к ним молиться своим духам. Один обо стоял у нашего озера, второй – на другой стороне горы Тыныхушки. На горах обо встречались. Среди русских было принято уважительное отношение к знакам чужой религии: к обо не подходить, камни не трогать. Бабушка нас мальчишек наставляла этому.
Алексей Николаевич Госьков (георгиевский кавалер) для монголов поделочный лес зимой заготавливал и в складе держал. По весне монголы наезжали за ним. Приедут большой компанией, накупят леса. Но что за сделка, если не обмыть её. Алексей Николаевич устраивал хлебосольное застолье для покупателей – овец резали, свеженину делали. Бабушка обычно помогала готовить. Монголы – народ заводной, у них пьянка не пьянка, если без драки. Обязательно, напившись китайской водки ханы, устраивали потасовки между собой. Только что сидели смирно, вдруг полетели кулаки по мордам. А к вину слабые – чуть выпил и подавай ему развлечение ударом по сопатке. На случай рукопашных схваток у Алексея Николаевича был заранее заготовлен ташур – толстая камышовая палка, на конце обвита сыромятным ремнём. Ей волка можно убить. Для волка и предназначалась. И хорошо помогала драчунов разводить по тихим углам. Алексей Николаевич как начнёт направо и налево охаживать раздухарившихся кулачных бойцов. Утром они тяжело после ханы поднимались, при этом щупали битые бока, качали похмельными головами и говорили: вот какой молодец Лёшка – накормил, напоил да ещё и выдал всем!
В Тыныхэ жил китаец, как его звали на самом деле, не знаю, с чьей-то лёгкой руки пошло – Старик Плешивый. Помню, бабушка ему руку вправляла. Забавный китаец. Один раз на Ильин день мы с Петькой на побывку приехали с покоса. Далеко от деревни косили. На телеге приехали, и надо лошадь накормить, а нечем. Скот в округе траву подчистую выел. На другом берегу Тыныхушки покосы, там тоже всё выкосили. Только в одном углу Старик Плешивый, скооперировавшись с Вениамином Мурзиным, косит конной сенокосилкой. Петька говорит:
– Может, даст пару навильников. Скажем – с возвратом.
Нам всего-то дать лошади на ночь. Программа праздника: помыться, вечером сходить на вечёрку, а рано утром снова на покос…
Подъехали к Старику Плешивому, так и так, сена бы. Он говорит:
– Кáка дело, сáма люди и чего?
Вроде, на вопрос вопросом ответил.
Мы с Петькой переглянулись: что китаец хочет?
Петька мне на ухо:
– И чего?
Я второй раз, мол, сена бы, лошадь накормить, травы нигде нет.
Старик Плешивый один к одному:
– Кáка дело, сáма люди и чего?
Петька опять шепчет:
– Так даёт или нет?
– Откуда я знаю, – шепчу Петьке.
И в третий раз прошу.
Старик Плешивый скороговоркой:
– Бери-бери.
Мы сено в телегу бросили, так и не поняли, что он нам говорил. В 1992 году, когда с Петькой путешествовал по Китаю и России, поехали за Байкал. В деревне Семиозёрье жили Таракановы, тоже из Тыныхэ. Их было семеро братьев, ребята на подбор, все под два метра ростом. Как обрадовались, увидев нас. Рукопожатия, объятия. Постарели чуток братья Тараконовы, но, как и раньше, громкие, шебутные. Сели за стол, выпили, воспоминания полились. Как же без Старика Плешивого – одна из достопримечательностей Тыныхэ. Он лавочку держал. В праздники около неё всегда народ толпился, китайскую водку, хану эту, покупали. Мишка Тараканов хлопает меня по плечу:
– Помнишь его: «Кáка дело, сáма люди и чего»?
Как же могу забыть, не один раз с Петькой вспоминали сено от Старика Плешивого.
– А ты знаешь, что это значит? – спрашиваю у Мишки. Он без раздумий:
– Что поделаешь, свои люди, ничего.
Расшифровал нам с Петькой. Через сорок с лишним лет перевод узнали.
Когда собирались в Австралию, Плешивый Старик бабушке говорил:
– Наша подума така – одинака тут там. Куда поехал?
Это значило: «Куда едете? Везде одинаково».
Алексей Николаевич Госьков последним уезжал из Тыныхэ, через год после нас. Госьковы первыми пришли в Тыныхэ, последними ушли. Дом заранее продал, а жил у Старика Плешивого в зимовье.
Тунгуску Елизавету Никифоровну Кундаеву из Мыргела, если не всё Трёхречье знало, то добрая половина обязательно. По-русски плохо изъяснялась, зато матами сыпала… Сын её Пашка русский знал отлично, русские песни мог часами петь. Голос красивый… Впоследствии хозяином завидным стал. Сто тридцать лошадей имел. Не в мать. В Елизавете бродила кровь кочевницы, дома сидеть была не её стихия. Моталась по деревням… Заносило перекати поле и в Тыныхэ, к нам обязательно заходила. Бабушку уважала:
– Пилагей, здоров была. Дорогой гость пиринимай давай.
– Проходи, Елизавета, пиринимаю, куда денешь закадычную подружку!
– Подруге надо выпивай, твою мать, давай!
У Елизаветы больше двух слов без мата не получалось, начнёт заворачивать, бабушка отчитает:
– У нас мужчины при женщинах не матерятся, а ты при детях.
Елизавета покивает головой, мол, виновата, исправлюсь. На две минуты хватит, дальше опять за своё. Без смазки матами не шла русская речь. Анекдотов про неё ходило. Один из них: «Я на Гришку буду заявлять! Мине зачем штаны рвал, когда пуговка есть?» Раз заходит, ни мамы, ни бабушки не было. Она ко мне с Петькой. Написать за неё письмо Николаю Кутукову в Джаромту. Елизавета на его заимке жила, что-то там работала, а хозяин плохо, так считала, отблагодарил за услугу. Главное – спасибо не сказал на прощанье. Данное обстоятельство Елизавету сильно опечалило. Носила-носила обиду и решила: зачем одна попусту мается, тогда как обидчик даже не знает о её душевных терзаниях? Надо выдать ему по первое число в зафиксированном на бумаге виде. Попросила нас с Петькой написать, изложить претензии Кутукову. У Петьки тут же вылетело:
– Если диктовать будешь, напишу, а нет – за тебя сочинять не собираюсь!
То есть, как надиктуешь, так слово в слово и напишу. Она согласилась. Не почувствовала подвоха. Я по Петькиной физиономии понял: сейчас будет цирк с клоунами! Так как её «слово в слово» это мат на мате. Петька тетрадь несёт. Елизавета начинает. И с самой первой строчки, без всяких эпистолярных «здравствуй», по матушке обложила Кутукова. Резко стартовала. Ударно. А потом: «Миколай, когда я с заимки уезжал, ты…» Дальше основная претензия, щедро сдобренная матами, единственным цензурным было «сипасибо не говорил мине». После чего снова россыпь матюгов. Петька всё дословно пишет. Елизавета не умолкает в праведном гневе. Ещё раз трёхэтажно припечатала обидчика. И тут же без всякого перехода, без какой бы то ни было паузы, после всех крутых и солёных этажей резко сменила тон: «… и пиривет Ольге». Ольга – жена Кутукова. К Ольге претензий не имела, поэтому ей сердечный «пиривет» сладким голосом передала.
Петька строчит. Я умираю со смеха. Изо всех сил креплюсь, чтобы в полный голос не расхохотаться и не испортить всё дело. Давлюсь. Петька тоже еле сдерживается. Хорошо, Елизавета не видела наших ужимок. Стол стоял у стены, а Елизавета у печки на лавке расположилась. Мы спиной к ней. Корчимся от смеха, но продержались, не выдали себя. Эмоционально излив обиду, Елизавета перешла на совершенно мирный тон. Стала по-дружески рассказывать Кутукову о себе, передавать светские новости. Тоже пересыпаемые крепкими выражениями. Три листа Петька накатал, отдал заказчице. Елизавета с кем-то отправила адресату. Через год к нам приходит и матом с порога на Петьку, дескать, ты что написал?! Разве я так просила! Петька дурачком прикинулся, что диктовала, то и написал. Как договаривались. Бабушка нас, конечно, отругала, Елизавете тоже досталось:
– Материться меньше надо!
Кутуков долго сокрушался – не сохранил уникальное письмо. Читая его, живот можно было надорвать от смеха. Жена Ольга, которой Елизавета сердечный «пиривет» передавала, порвала послание, Кутуков не успел вовремя отобрать исторический документ.
Про тунгусов можно вспоминать и вспоминать. Николай Гаврилович Госьков женил старшего сына. В товарищах у Николая Гавриловича был тунгус по имени Борис, коновал. Отлично лошадей знал и лечил. Жил не в Тыныхэ, приехал на свадьбу по приглашению друга. Отгуляли, а Борис и не думает домой. Неделя прошла, он гостит за милую душу. А что? Еда есть, и пей сколько хочешь. Николай Гаврилович ему почти открытым текстом, мол, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?
– Борис, ты же вчера собирался домой. Говорил, что сегодня утром поедешь.
Борис несказанно удивился:
– Как это я позволил себе такое сказать?
Был ещё такой памятный случай. Бабушка рассказывала. В Чанкыре русский казак с тунгусом дружили. Русский заболел, тунгус ему говорит:
– Ты скоро умрёшь, я к тебе приеду.
Предчувствовал смерть товарища.
Умер казак, тунгус пришёл на похороны. Мужчины вообще-то не пили на поминках. И в России, бабушка говорила, у них не было принято, и в Трёхречье у русских… Ну, а тут решили по рюмке выпить, тунгусу, само собой, налили, как же – друг хозяина. Тот встаёт с рюмкой и торжественным голосом говорит:
– Ну, с покойничком вас.
Произнёс, так сказать, поздравительно-поминальную речь.
Бабушка мне с Петькой рассказывала: пришёл к ним китаец, Лаваном звали, и предлагает моему деду: «Давай вместе сено косить». Дескать, вдвоём сподручнее. Дед говорит: «Лаван, надо подумать». Он говорит: «Ты посиди подумай, а я посижу послушаю!»
Плач бабушки
Бабушка плакала пятьдесят лет. Я знаю историю расстрела казаков Тыныхэ, будто сам там был. Столько раз слышал. Плакала, причитала, рассказывала, кляла советскую власть: «Чтоб им ни дна, ни покрышки». Хотя была человеком глубоко верующим. Все посты соблюдала. Молилась утром, вечером. Не болела ничем, не помню такого… Но плакала…
Потерять за свою жизнь восьмерых детей. Четверо умерли в младенчестве (дочь и три сына), и трое (две дочери и сын) – в шесть-семь лет. Сын Алексей умер в двадцать семь лет. Одна дочь, моя мама, осталась. Пережила Гражданская войну в Забайкалье, потом уход на чужбину, где в один день расстреляны двенадцать ближайших родственников.
Она и раньше, мама рассказывала, плакала тайком. По детству не помню, чтобы заставал её в слезах. Не было такого до 1952 года. В том году, в феврале, соседи Мурзины праздновали китайский Новый год. У них жил Егор-китаец, огородник, он и делал этот праздник. Бабушку пригласил. Михаил Аксёнов, молодой парень, не придумал ничего умнее – зажёг двухзарядную ракету. «Сейчас, – говорит, – я вам сделаю сюрприз!» Здоровый балбес, а не сообразил: закрытое пространство, людей полон дом, взял и жахнул ракету. Бабушка упала без чувств. Её без памяти принесли домой. Придя в себя, первое что спросила:
– Детей не убило?
После этого с месяц плакала постоянно.
И как приступы стали. Особенно в преклонном возрасте. Вдруг слёзы потекут-потекут, детей умерших перечисляет, расстрелянных мужа, братьев, односельчан. Рассказывала, что это за люди были. Всех знала, обо всех говорила. Кто, где воевал, сколько детей осталось. Будто бы взяла на себя обязательство снова и снова напоминать о них… Снова и снова говорить о своём муже, каким он был хорошим. Родители не хотели выдавать её за Павла Баженова. Госьковы зажиточные казаки, Павел был в работниках у них. Но бабушка настояла на своём. И потом родители её нахвалиться не могли зятем…
В последние годы мы бабушку не загружали ничем. Только она зря не сидела. Вязала коврики. У меня лежит её память, типа накидки на диване. Крючком связала… Много раз было, прихожу домой с работы, а она плачет… Махнёт рукой: иди не смотри. Не могла уже себя контролировать…
Года за два до смерти говорит:
– Не всех я, внучок, ещё оплакала, потому Господь Бог и не даёт смерть! Полжизни плачу, да слёзы ещё не выплакала!
В церковь ездила до девяносто одного года – каждое воскресенье ехала и по праздникам. А также – 27 сентября, это обязательно. А потом как-то пошла в магазин и заблудилась. После этого одну не отпускали. В церковь далеко ехать. Могла отправиться в Кентлин в женский монастырь. Это не один час добираться с пересадками… Сестра стала её сопровождать.
Бабушкины иконы (все из Забайкалья) по наследству перешли мне. Иверская Божья Матерь, преподобный Серафим Саровский, Николай Угодник. Иверской родители благословляли бабушку перед венчанием.
Умерла она в 1980-м. В своей памяти. Утром позавтракала с нами, посуду убрала, постель застелила. Я уехал на работу, а мать с сестрой отправились за продуктами. Бабушка наказала им:
– Купите мне сыра пластинами.
Любила такой, каждая пластина в целлофановой обертке. Мама приехала, обычно бабушка ходила следом и спрашивала:
– Что купила?
Как малое дитё. Тут не встречает. Мама пошла, видит, как спит, позвала: «Мама-мама». А она уже холодная.
Недели за две до смерти сказала:
– Кеша, я сегодня молилась и увидела Божью Матерь, Николая Угодника, Серафима Саровского и моих: Павлов, Большого и Малого, братьев, родных и двоюродных, Алёшу… Божья Матерь улыбалась, и все они светились радостью. Значит, не надо больше плакать…
С того дня не плакала…
Печень для самурая
Рассказ
Михаил Максимович ходил в церковь два раза в году, в дни памяти отца и матери. Ставил свечи, заказывал панихиду, сорокоусты «о упокоении», подавал записочки, отстаивал литургию. Во время службы всегда вспоминал церковь в Ананси, маленькой станции Китайской Восточной железной дороги. Отец был старостой храма, мама читала на клиросе, а он в шесть-семь лет выполнял обязанности пономаря.
Церковь стояла за железной дорогой. В воскресенье или в праздник, когда служилась литургия, Мишу будили рано. Он умывался, одевался, на стол мама не накрывала, завтрака в этот день не было, даже чай не пили. На подходе к железной дороге Миша старался забежать вперёд и пройтись по рельсу, балансируя руками.
– Скажу отцу Александру, – говорила мама, – что ты в циркачи собрался, а не в священники.
У Миши было своё облачение пономаря, свой стихарь, мама постаралась.
– Будешь аки ангел в алтаре, – говорила, расшивая стихарик золотой нитью, – батюшке ангелы служить помогают, вместе с ними ты.
В алтаре стояла печка, над плитой Миша разжигал кусочки древесного угля. Когда они разгорались, осторожно брал их щипчиками и опускал в кадило, на угли бросал ладан. Он был в больших комочках, предварительно Миша размельчал его в специальной посудине. Запах ладана остался на всю жизнь запахом детства. Дома в праздники мама обязательно кадила иконы, для этого имелась фарфоровая посудина. Однажды, засыпая в неё угольки и ладан, с улыбкой спросила сына:
– Знаешь, кто ладана боится?
– Нет.
– Неужели не слышал пословицу: «Боится как чёрт ладана»?
– Так ты, мама, чертей гоняешь? У нас что – их много?
– Чертёнок у нас в доме один, – потрепал сына по голове отец.
– И тот ладана не боится, – засмеялась мама и перекрестилась: прости меня, Господи.
Звонить на колокольне входило в обязанность Миши. Отец сначала научил его бить в большой колокол, позже Миша освоил перезвоны. Это послушание пономаря выполнял с превеликим удовольствием. Вприпрыжку взбирался по крутой лестнице, сжимал в ладонях шершавую верёвку, и возникало ощущение единства с тяжёлым языком колокола, который неподвижно висел над головой. Стоило потянуть верёвку на себя, язык послушно начинал движение, ударялся о стенку колокола и тот обрушивал на звонаря густой звук: бом!… Ещё удар, ещё… Колокол пел, сзывая на службу, а Мише становилось весело, так бы, казалось, и не уходил отсюда, снова и снова принуждая колокол будоражить кровь низкой нотой… К гулу большого колокола прибавлял высокие голоса малых… В рождественскую и пасхальную ночные службы на колокольне приходило ощущение полёта. Где-то внизу в полной темноте лежит Ананси, большинство его жителей в храме, а он, заставляя колокола петь, плывёт вместе со звонницей в ночи…
Во время литургии Миша подавал батюшке кадило, на малом и великом входах был свещеносцем. После причащения мыл по благословению батюшки ложицу. Батюшка, отец Александр, часто хвалил маленького помощника. Говорил родителям:
– Глядишь, и по стопам деда пойдёт. Хорошо, кабы так получилось, смышленый мальчишка.
Мама была глубоко верующим человеком. Дома кроме прочих висели две старинные иконы – Спас Нерукотворный и Казанская Божья Матерь. На особой полочке лежала Библия в кожаном переплёте. Всё это принадлежало когда-то Мишиному деду по маме, священнику. До революции у него был приход в Забайкалье, в Борзе. Дед один из тех тысяч и тысяч иереев, кто принял мученическую смерть от новой власти. Его старшего сына, офицера русской армии, расстреляли взбунтовавшиеся в революцию солдаты. Второй сын, тоже офицер, сгинул в Гражданскую войну. Дочь, Мишина мама, бежала в Маньчжурию. У Мишиного отца никто не погиб в смутное время, некому было – рос сиротой. До революции служил мальчишкой у заводчика в Чите, тот специализировался на переработке молока, с ним и ушёл в Маньчжурию, в тридцатые годы открыл в Ананси своё дело, тоже молочного направления.
Миша пономарил около двух лет. Всё закончилось в пасхальную седмицу сорок третьего года. Прибежал домой с полными карманами крашеных яиц, а мама плачет. Да горько. И прислуга Агния, полукровка (отец – китаец, мать – русская), тоже в слезах. Японцы арестовали Мишиного отца и увезли в Цицикар.
– Тюрьма отняла у отца добрую часть жизни, – рассказывал Михаил Максимович в храме перед службой знакомой старушке, соседке по дому, тоже пришла на литургию в тот день. – Шутка ли – столько пыток перенести.
Они сидели на длинной скамье у западной стены церкви. Старушка, слушая Михаила Максимовича, молча кивала головой в белом платочке.
– Мне в прошлом году, – продолжал он рассказывать об отце, – за семьдесят пять перевалило, а он до семидесяти не дотянул. После японской тюрьмы до конца жизни жаловался на головные боли. И нервным стал. Вдруг ни с того ни с сего на ровном месте сорвётся… Потом сам удивляется: с чего понесло? Так-то оптимист был и работящий, как крестьянин, который всё умеет делать в своём хозяйстве. За что бы ни взялся – будь то слесарные или столярные работы… Перестелить полы, отремонтировать мебель, окна, двери, электроприборы – всё мог… До последнего работал в детском садике плотником.
В тот день, двадцать первого августа, Михаил Максимович поминал отца. Ровно тридцать пять лет назад он прилетел в Киев, взял такси, быстро доехали до панельной пятиэтажки, взбежал по лестнице на четвёртый этаж, надавил на кнопку звонка, тот неуместно отозвался задорной мелодией. Накануне Михаил Максимович получил от сестры телеграмму: «Срочно приезжай». Он поехал в аэропорт, взял билет… Отец говорить уже не мог, руки, ноги не действовали. Бесконечно родной человек лежал без движения, но что-то осмысленно изменилось в глазах, когда вошёл сын. Михаил Максимович наклонился, обнял отца за плечи, тот сделал короткое движение головой, прижался щекой к сыну. Попытался поднять руку, обнять и не смог. Михаил Максимович взял его руку, положил себе на плечо. Он всегда удивлялся силе рукопожатия отца. В последний раз виделись за два года до этого. Отец, шутя, как бы говоря: «мы ещё повоюем!», так сжал его пальцы, что Михаил Максимович невольно поморщился. И вот эта рука лежит на плече невесомой плетью. Отец сделал движение головой в знак одобрения, дескать, правильно, я хотел обнять тебя. В нём – угасающем, умирающем – последней искрой земной жизни было проявление любви к сыну.
За два года до этого в минуту откровенности признался:
– Неправильно, Миша, что мы далеко друг от друга, иногда так тянет побыть с тобой, посидеть рядом… Жизнь уходит…
И вот отец лежит беспомощный, измождённый болезнью… Вдруг он дёрнулся…
– Закрой ему глаза, – услышал Михаил Максимович голос сестры…
Два года назад отец отдал ему икону Казанской Божьей Матери. Ту самую, что была у них в Ананси. Спросил:
– Помнишь, на выезде из Маньчжурии едва образа не отобрали?
На станции Отпор советский пограничник, увидев иконы, бросил: «Не положено!» Но отец пошептался с офицером и всё уладил. Михаил Максимович повесил Казанскую в свою спаленку, на восточную стену. По утрам, открыв глаза, первое, что видел – лик Богоматери. Даже если просыпался совсем рано, лик проступал из темноты. Не хочешь, да перекрестишься.
В последние годы, укладываясь на ночь, он брал в постель радиоприёмник, маленький, размером с пачку сигарет. Слушал его перед сном, включал среди ночи, отвлекаясь от бессонницы, нередко бормотание убаюкивало.
Неделю назад вот так же проснулся в пятом часу, поворочался минут двадцать, а потом включил приёмник. Шла беседа с историком, специалистом по Второй мировой войне, он рассказывал о боях на японском театре военных действий. И среди прочего озвучил шокирующую информацию: японцы вырезали печень у пленных американцев и съедали, следуя одному из моральных правил самураев: «Убей пленного, вырежи печень и съешь её – храбрость убитого перейдет к тебе». Пленный перед смертью не должен плакать, иначе печень не годится, какая у слезливого храбрость.
Михаила Максимовича как током шарахнуло: а если Гота-сан, который вёл допросы и пытки, вовсе не шутил, на самом деле мог съесть печень отца. Как-то, вспоминая японские застенки, отец сказал, что Гота однажды похвалил его: «Стойкий ты мужик, Максим, из тебя хороший самурай мог получиться!» И добавил с ехидцей: «Надо вырезать твою печень и съесть!»
Отец долго не хотел рассказывать сыну о японской тюрьме, отшучивался, когда тот настаивал:
– Да что там, всего пятьдесят шесть пыток Гота на мне испробовал. Япошка не один раз хвастался, что в его арсенале с добрую сотню разновидностей пыток наберётся…
Михаилу Максимовичу было под сорок, когда отец, наконец-то, поведал о годах, проведённых в тюрьме, о самурае Готе-сан, зверски пытавшем его.
Готу-сан Михаил Максимович сподобился мальчишкой лицезреть. Отца освободили из тюрьмы в августе сорок пятого, когда советские войска вошли в Маньчжурию. Отец так и не открылся, был ли связан с чекистами до ареста. Офицеры с синими петлицами в сорок пятом часто приезжали к ним в Ананси из Цицикара. Вроде как в гости. Разговаривали, выпивали. Не один раз бывал у них начальник штаба спецчасти подполковник Курочкин, для Миши – дядя Вася, чаще других с визитами заявлялся майор Костров – дядя Дима. Он обещал свозить Мишу в Цицикар и показать тюрьму, где сидел отец, его одиночную камеру в подземелье. Экскурсия в японские застенки не состоялась, зато самурая Готу-сан дядя Дима показал.
Самурай содержался не в той тюрьме, где мучил отца, в другой. Она представляла из себя длинное одноэтажное здание, к которому примыкал чистенький прогулочный дворик, огороженный со всех сторон сеткой, и верх был забран ею. Они подъехали на машине, майор Костров вызвал начальника караула, что-то сказал ему, затем подозвал Мишу. Вдвоём подошли вплотную к сетке.
– Вон тот, что ближе к нам – мучитель твоего отца! – указал дядя Дима.
Вдоль сетки буквально в двух метрах от них шли два японца.
– Гота-сан, – окликнул майор, – смотри, вот сын Чулкова, помнишь такого зэка?
Японец дёрнул голову в их сторону. Лицо бесстрастное, неподвижное, безразличное ко всему.
– Плюнь ему в морду, – громко, чтобы слышал самурай, сказал майор, – два года, сволочь узкоглазая, изгалялся над отцом.
Гота отвернулся, направился медленным шагом к дальнему концу двора, возвращаясь, посмотрел в сторону зрителей. Взгляд всё такой же отрешённый, безучастный…
Майор Костров любил пошутить, побалагурить, держался рубахой-парнем. Навряд ли на самом деле был таким, думал много позже Михаил Максимович, как-никак чекист-контрразведчик. Отца Миши майор звал «батькой», так как сам по отчеству был Максимович. Однажды при Мише спросил:
– Батька, не хочешь с Готой побалакать? Предложить ему на выбор «чайник Шипунова» или икры подрезать да круто посолить…
Отец, он сидел в кресле, подался навстречу неожиданному вопросу и замер, уставившись в угол, будто решая: как быть? Возможно, в тюрьме, отходя от очередной пытки, харкая кровью, преодолевая тягучую боль, убаюкивая её (рассказывал, что от приступов невыносимой головной боли терял сознание), тешил себя мечтой оказаться на месте истязателя… И вот представилась возможность сказать: «Ну что, Гота, взяла твоя?» Отец однажды бросил японцу:
– А если сам в плену окажешься?
На что прозвучало высокомерное:
– Я – самурай! Плен не моя участь!
Может, отец хотел позлорадствовать в отместку за все издевательства, бросить ему в лицо обидное: «Что, Гота-сан, кишка тонка оказалась! Струсил, побоялся боли, как наступил момент харакири?»
– Батька, что молчишь? – переспросил чекист. – Устроить встречу? Хотя бы в морду узкоглазую плюнешь!
Отец мотнул головой:
– Нет, Дима, не хочу. Бог с ним. Каждому своё.
Отец рассказывал, по-русски Гота говорил чистейше. Без малейшего акцента. Первым признаком предстоящих пыток было ироничное настроение. Шуточки с издёвкой:
– Вот ты русский, а Лермонтова знаешь: «Сижу за решёткой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл молодой?»
У отца внутри всё сжималось от тонкогубой улыбочки на жёлтом лице, от тёмной воды в узких глазах.
– Я, японец, знаю, а ты русский вместо того, чтобы книжки умные читать, да стихи учить, шпионил за нами.
С ухмылочкой спросит:
– Хочешь, повторим “чайник Шипунова”?
«Чайник Шипунова» – это соль, молотый красный перец, разведённые в воде. Пытаемого привязывают спиной к лавке и в нос заливают жгучую смесь из чайника. Она тут же разъедает слизистую оболочку носа, попадает в рот, дышать невозможно, захлёбываешься, харкаешь кровью, но японец методично продолжает экзекуцию.
Гота спросит:
– Ну и что? Как насчёт “чайничка”?
Потом с ядом в голосе отвергнет этот вариант:
– Нет, с “чайником” возни много и мокро. Не люблю я сырость разводить. Лучше что-нибудь из классики. Как там у вашего классика Пушкина: «Паду ли я стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она, всё благо гения иль сна…» Попронзаем-ка мы тебя для разнообразия…
И вызовет заплечных дел мастера, тот привяжет руки узника и начинает вгонять иголки под ногти. Гота надеялся: не выдержит русский пыток, сломается, начнёт говорить. Арестант всё отрицал, никакие фамилии не называл. Гота мог мучить несколько дней кряду, потом делал перерыв на неделю-две, случалось, месяц не дёргал, но затем снова начинал допросы. Методично искал, чем бы достать упрямца. Специальным устройством сдавливали грудь. Сердце горлом рвётся, дышать нечем. Кажется – всё, смерть пришла, но Гота ослабит зажим, даст отдышаться. Спросит своё:
– Какие сведения советским передавал?
На молчание отца снова отдаст приказ продолжать пытку.
Икры резали бритвой и сыпали в раны соль. Да ещё затягивали бинтом, чтоб лучше разъедала. Или уложит палач на скамью животом, привяжет накрепко, и начинает медленно сдирать со спины кожу деревянным бруском. Без того больно, но это не всё. Любил Гота солить русского. Щедро набросает на спину соли, да ещё заставит придавить тяжёлой доской, чтоб не мог пошевелиться бедняга.
Дом родителей стоял в Ананси рядом с домом терпимости, в котором японки обслуживали офицеров. Заведение выходило в их двор глухой стеной.
– Помнишь, нет, – рассказывал о своих злоключениях в тюрьме отец, – в стене дома терпимости прорубили два окошечка? Не просто так, а вести наблюдение за нашим домом. Японцы фиксировали всех, кто входил и выходил. Гота на допросе заглядывал в бумажки на столе и допытывался, называя конкретные фамилии, зачем тот-то заходил? С какой целью этот просидел два часа? Но я, сын, знай, никого не оговорил.
Окошечки Михаил Максимович помнил. Их прорубили за каких-то полдня. И потом не раз он замечал движение за стёклами.
– Слежка не зря была? – спросил Михаил Максимович отца.
Отец улыбнулся в ответ. Так и не сказал, что работал на советскую сторону. Когда вышел из тюрьмы, к ним домой в Ананси неоднократно приезжали военные врачи из Цицикара. Обследовали вчерашнего узника, давали лекарства. Первое время отец пугал Мишу затравленным видом, странными выходками. Сидит в кресле ноги под себя (в тюрьме разрешалось сидеть только так), курит, Миша зайдёт, он испуганно поднимет подлокотник, спрячет сигарету. Вздрагивал на любой стук. Или вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать нехорошим смехом. Только месяца через два более менее успокоился…
Литургия шла в южном приделе храма. Священник чем-то походил на отца Александра из Ананси, служил обстоятельно, Евангелие не читал, а торжественно пел речитативом. Мама когда-то сердечно наставляла маленького сына:
– Когда священник читает Евангелие, это сам Иисус Христос нам проповедует, слушай внимательно, нельзя пропускать ни одного слова. Слушай и запоминай.
Могла потом спросить, о чём было сегодня Евангелие?
Старушка-соседка, с которой стоял рядом в храме, причастилась и после проповеди ушла. Михаил Максимович остался на панихиду. Служили её в северном приделе, у кануна. Михаил Максимович стоял с зажжённой свечой в левой руке. Снова вспомнилось услышанное по радио про японцев, что вырезали печень у пленных. Отец-то был уверен: Гота-сан в своей манере змеино шутил, бросая: «Надо бы вырезать твою печень и съесть». Но кто его знает, что у нехристя зрело в голове?.. Ведь русский переиграл в стойкости самодовольного самурая… Оказался сильнее…