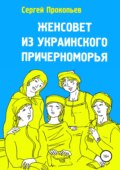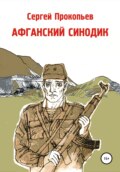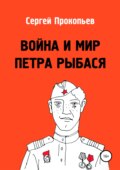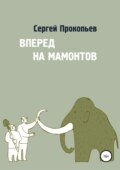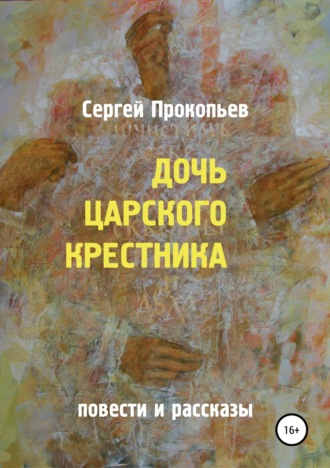
Сергей Николаевич Прокопьев
Дочь царского крестника
У неё осталась всего одна монета. Памятью об отце. Пенал хранит и монету в нём. Монеты действительно очень выручили её в девяностые годы. Когда и она, и муж остались без денег, без работы, жили впроголодь.
– Он отдал тебе монеты, – с укором сказала Марина, – сам серьёзно заболел, самим понадобились деньги. На лекарства, на лечение. Мама возила отца к врачам, каким-то народным целителям. В Москву возила, в Ленинград, на курорты. К кому только не обращалась. Ты ведь знала это. Да, бывало, присылала ему деньги. Но это были несущественные суммы. Ты, Маша, всю жизнь думала, прежде всего, о себе любимой. Родной отец, горячо любящий тебя, был на десятом плане. Тебе главное – личный комфорт. Ты и сейчас, не примчалась сразу на похороны, не бросила всё, чтобы помочь мне хоть в чём-то. Ты приехала тютелька в тютельку в день похорон, выполнить долг, так сказать. Да мне и не нужна была твоя помощь, чужие люди помогли. Но ты ведь тоже родная дочь ему. Не его вина, что не воспитывал тебя. Но регулярно помогал тебе деньгами, когда училась в институте. Старался подработать не только для своей семьи, нас с мамой, но и для тебя. Мама соглашалась, как же, ты его дочь. Я не удивилась бы, если бы вообще не приехала на похороны, сославшись на вескую причину.
Мария Николаевна еле сдерживалась. Внутри кипела обида. Но, понимала, нельзя возражать, скажешь слово, и они собьются на скандал. Где-то рядом душа отца, а они начнут перепалку. Родные сёстры, только что похоронившие отца, затеют ссору. Пусть выскажется. Марине, конечно, досталось в последние месяцы. Ушла с работы, постоянно сидела рядом с умирающим.
– Марина, я лучше поеду на вокзал, – сказала Мария Николаевна.
Она собрала сумку, заглянула в кухню, Марины не было. Дверь в её комнату был закрыта. Марина Николаевна сказала в дверь «до свидания» и вышла из квартиры.
После этого мало они общались. Один раз всего виделись. Мария Николаевна ездила к отцу на могилку, попросила Марину проводить, сама бы не нашла. Это было в конце девяностых. Тогда Марина как бы между прочим спросила, куда употребила монеты, что отец дал. Она слукавила: «Дачу купила». После этого они несколько раз перезванивались. Но в конце концов связь между ними сошла на нет. Марина Николаевне считала это закономерным фактом. Был жив отец, что-то их связывало, умер – и всё.
Оказывается, обида жила в Марине все эти годы, и стала выплёскиваться вот в такой дикой форме.
«У неё что с головой непорядок?» – думала Мария Николаевна.
Она не знала, как быть дальше?
Задержать Марину племянница не смогла, весовые категории у них были разные. Валентина попыталась позвать соседей на подмогу. А никого – будний день. Одна фотография и осталась уликой.
«Как теперь быть? – ломала голову Мария Николаевна. – И ничего-то ей не предъявишь, какие у меня доказательства? Фото? Ну и что? Докажи, что это она вырвала помидоры. Да и не разглядишь их толком. Ну, сестрица! Встретиться бы, поговорить… А о чём?.. Ну, о чём нам разговаривать? В милицию, конечно, надо заявить. Написать, что я подавала заявления о безобразиях на моём участке, на этом и том, что бросила, приложить копии. Далее изложить, племянница застала вредителя, им оказалась моя сестра по отцу. Приложить фото… Или не надо заявлять? Это ведь моя сестра… Ну и что – сестра? Можно теперь издеваться… А фото на доске объявлений товарищества повесить, с подписью, что эта женщина, Марина Николаевна Фёдорова, несколько раз занималась вредительством на такой-то даче…»
Мария Николаевна сидела в раздумье, не зная, как поступить… Посоветоваться с дочерью? Та скажет, в этом Мария Николаевна была уверена: обязательно заявляй! Зло должно быть наказано!..
Бабушка Пелагея из Тыныхэ
Повесть
Открытка
Откуда взялась в Австралии эта дореволюционная открытка, кто нам принёс? На ней Омский Свято-Успенский кафедральный собор. Бабушка Пелагея, разглядывая её, говорила:
– Снесли, поди. Я не доживу, а вы должны: перебесится Россия коммунистами-безбожниками, и храмы опять начнут строить.
И ведь точно сказала…
В 1992 году мы с родным братом Петькой совершили путешествие из южного полушария в северное. Сначала поехали в Маньчжурию, а потом в Россию – в Забайкалье и Омск. В Омске спросил про Свято-Успенский храм. Я открытку из Австралии с его видом с собой взял. Вот этот, спрашиваю, где у вас? Тётка пожала плечами, не знала. Двоюродный (по отцу) брат Павел повёл в сквер с фонтаном, что в пяти минутах ходьбы от его дома.
– Вот здесь, – показал, – был Успенский собор!
– Даст Бог, – говорю, – и восстановят.
– Не знаю, брат. По всей стране почти за каждый уцелевший храм драчка идёт – власти не хотят возвращать епархиям! А ты – «восстановят». В нашем Казачьем соборе по сей день Органный зал. Тараса Бульбы на них нет – в православном храме звучит католический орган…
Второй раз довелось приехать в Омск в 2005-м, в декабре. Специально решил зимой, в Австралии зима одно название, а мне хотелось настоящую увидеть – со снегом, морозами, как в Трёхречье. Петьку звал, он отказался, а я поехал. Павел встретил и ещё по дороге из аэропорта в такси доложил:
– Успенский храм восстанавливают.
Вечером повел на стройку. У котлована под открытым небом шла служба. Служил митрополит Омский и Тарский Феодосий, ему помогали два священника, как положено, пел хор. Мы присоединились к молящимся, человек тридцать стояло…
– Каждый день в любую погоду, – пояснил Павел, – дождь, снег, камни с неба – служба.
Справа от нас стояла женщина с иконой в руках. Я сразу в толк не взял. Стоит и стоит, что тут, казалось бы, удивительного. Только второй раз глянув, глазами захлопал: без варежек икону держит. Мне в перчатках на меху (Павел позаботился) холодно, она голыми руками… Мороз градусов двадцать.
Вдруг женщина поворачивается:
– Подержите, пожалуйста.
И протягивает мне икону. Я перчатки сбрасываю, думаю, она без варежек, я, мужчина, буду позориться… Беру икону, и Бог ты мой, тёплая… Мороз, а от иконы тепло… Потом-то, как служба окончилась, расспросил… Икона священномученика Сильвестра, архиепископа Омского и Павлодарского, с частицами его мощей. Сильвестра зверски замучили в застенках ЧК в 1920 году. Руки прибили к полу гвоздями, жгли тело раскалёнными шомполами, пронзили раскалённым шомполом сердце. В 2011 году, будучи в Омске, приложился к раке с его мощами в Свято-Успенском храме и заказал панихиду по рабе Божьей Аполлинарии. Дорогой моей бабушке Пелагеи. С именем бабушки был нюанс. Крещена Аполлинарией, но почему-то в семье с детства завали её не Полиной, а Пелагеей, так и пошло.
…В детстве в Тыныхэ бабушка по воскресеньям зажигала лампаду перед иконами, вставала на молитву и ставила нас с Петькой (он старше меня на полтора года) у себя за спиной, сначала двоих, потом сестру Полю, как подросла. Бабушка читала вслух «Отче наш», дальше молилась молча. С нас требовала, чтобы крестились вместе с ней. Губы у неё шевелились. Иногда молилась долго. Казалось, забывала про нас, уходила в молитве далеко-далеко. В это время мама, если не было поста, блины пекла (всегда тоненькие-тоненькие!) или пирожки с мясом жарила. Всё вкусное… Рукодельница была исключительная. А пироги с капустой!.. Каково стоять на молитве, когда запахи из кухни слюну вышибают? Маемся. Откровенно маемся. Смерть как пирожков захочется. Брат и сейчас, в семьдесят четыре года, непоседа, мальчишкой – вьюн вьюном. За спиной бабушки мог и покривляться, рожи покорчить. Бывало, шепнёт мне:
– Неужели и вправду столько молитв знает или одно по одному повторяет?
Наконец после бабушкиного «аминь» идём есть. За столом бабушка за хозяина. Поедим, встанет, мы за ней, прочитает молитву, поблагодарит Бога, перекрестимся… Пыталась передать застольные бразды правления Петьке, когда он повзрослел, старший мужчина в семье как-никак. Петька отказался:
– Ты уж сама давай и дальше молись!
Конечно, мы выжили за счёт бабушки. Отца ребёнком не помню, в 1945-м СМЕРШ забрал его в советские лагеря. Увидел отца через сорок шесть лет. Он приехал в Австралию доживать. И ничего не ёкнуло у меня, не сжалось – чужой человек…
Расстрел
В Китае двадцать седьмого бабушка вела нас на место расстрела… Помянуть, постоять у могилы… Я родился в деревне Тыныхэ, которую основали родные братья моей бабушки – Пётр и Филипп Госьковы. Это была вторая Тыныхэ. Первая стояла семью верстами выше по реке. В ней, по рассказам бабушки, было около восьмидесяти дворов.
Беда в деревню нагрянула двадцать седьмого сентября 1929 года. Рано утром бабушка поднялась коров доить. Хозяйство с мужем забайкальским казаком (Первую мировую служил на Кавказе) Павлом Артемьевичем Баженовым имели крепкое: сорок дойных коров, двенадцать запряжных лошадей. Поднялась, как первые петухи пропели, столько коров одной подоить. Вышла во двор, смотрит, идёт по улице родной брат моего деда, причём тоже Павел Артемьевич. Уздечка в руках. Повелось у них в роду двоих сыновей называть одним именем. У забайкальских казаков было такое. Для различия, кто есть кто, моего деда, он старший, звали Большой, второго Павла – Малый. Оба Павла в 1921 году ушли в Трёхречье, в Забайкалье остались их брат и сестра – Никанор Артемьевич и Анна Артемьевна. Младшие в семье. Что с ними стало – не знаю. Бабушка спросила Малого, куда он спозаранку наладился.
– За лошадьми, – ответил свояк, – Спутал их за горой, а нужно за поделочным лесом съездить.
Павел Артемьевич ушёл, бабушка подоила одну корову, вторую и только села под третью – раздались выстрелы…
В 1919 году бабушкиным родным братьям Николаю и Семёну Госьковым, они ушли из Забайкалья от Гражданской войны, приглянулось место для деревни на берегу Тыныхэ. Дикий, безлюдный край. Вкопались в землю. Построили первые бараки. Сверху четыре бревна, окошечко. Вместо стекла бычий пузырь. Стали жить. Скота, лошадей с собой пригнали… К ним присоединились другие казаки… Так была основана первая Тыныхэ. В 1929 году во время быстротечного конфликта Советского Союза с Китаем в Маньчжурию вошли советские части, а в Трёхречье нагрянули каратели. Зверствовать начали с деревень на Аргуни, потом углубились на китайскую территорию…
Заходя в Тыныхэ, каратели принялись стрелять. Для устрашения и для собственной храбрости. Прекрасно понимали, куда пришли. Казак в каждом доме. Каждый воевал. Если не в Первую мировую, то в Гражданскую точно. Кто у белых, кто у красных, винтовку, шашку в руках умеют держать. Стреляли каратели поначалу в воздух, грозно заявляя о себе…
У бабушкиного брата, Семёна Ивановича Госькова, лошадь под седлом стояла, куда-то ехать собирался… По рассказам бабушки, он всегда ходил в казачьей форме, высокий, стройный. При первых выстрелах вскочил в седло… В соседях у него жил двоюродный брат Алексей Николаевич Госьков, георгиевский кавалер, ему в Первую мировую войну император Николай II лично именное оружие вручал за героизм. Семён Иванович крикнул брату:
– Садись сундалой!
Вдвоём, значит. Они на одной лошади поскакали. Каратель заметил беглецов, выстрелил. Пуля попала Семёну Ивановичу не в сердце, выше. Он упал и говорит Алексею Николаевичу:
– Убегай, брат.
Тот не смог:
– Нет, ты же из-за меня остался.
Успели ускакать из деревни три казака и один тунгус. Ушли от карателей Инокентий Екимов, Андрей Бронников и ещё один казак, запамятовал фамилию. Пули их не достали.
Деревню казаки основали на солнечной стороне, у горы Харахашун, стоявшей подковой. Речка Тыныхушка рядом. В разливе – метров двадцать шириной, а как вода спадёт – метра три в русле. За деревней озеро, метров сто в диаметре. По берегу били ключи, из них брали воду. Озеро соединялось протокой с Тыныхушкой. Тунгус и трое казаков, все, кому удалось уйти под пулями карателей, поскакали в сторону протоки. Тунгус только миновал её, как под ним подстрелили лошадь… Везло тунгусу в тот день. Вовремя рано утром поднялся уезжать из гостей, и конь, когда раздались первые выстрелы, стоял под седлом, и пуля не в него, в коня угодила. Рухнул конь, и снова удача не отвернулась – не успел тунгус испугаться, к нему подбежал Гнедко – казачий конь моего деда Павла Артемьевича. Заржал, ударил нетерпеливо копытом… Он пасся у протоки, услышал стрельбу, увидел всадника в беде… Тунгус вскочил на него, вцепился в гриву, через Тыныхушку вплавь переправился и ускакал в горы.
Командовал карательным отрядом Мойша Жуч. Человек тёмный, двуликий. Воевал и за красных, и за белых. В Гражданскую ухитрился служить у барона Унгерна. Унгерн не переносил евреев, Жуч сумел втереться в доверие. С карательным отрядом, набранным сплошь из бурят, уничтожал казаков, воевавших за красных. Жучу было всё равно красных или белых казаков изводить… Проводил операции по озлоблению населения. Переодевались в красных и нападали на деревни, дескать, вот что коммунисты делают. Потом работал на красных. Был в Маньчжурии разведчиком-чекистом после Гражданской. Появлялся в Харбине, подолгу жил в Хайларе, со многими водил знакомства. Его хорошо знали жители Хайлара, не представляя, что за зверь скрывается за этой личиной.
Мойша Жуч носился по Тыныхэ на лошади, кричал, угрозами сзывая всех:
– Выходите, не то гранату брошу!
Бабушка бежала по двору, когда к их воротам подошла невестка Клавдия Сергеевна – Ивана Матвеевича Госькова, троюродного бабушкиного брата жена. Была она дочерью Сергея Афанасьевича Таскина, члена Государственной Думы II и IV созывов от Забайкалья. В Гражданскую он в Чите был главой Правительства Российской Восточной окраины, которое создал атаман Семёнов. В двадцатом году с семёновцами ушёл в Маньчжурию, жил недалеко от Тыныхэ, на станции Якэши.
Клавдия Сергеевна сказала бабушке:
– Моська Жуч, сволочь, чуть не сбил меня! Летит на лошади по улице!
Жуча Клавдия Сергеевна знала по Хайлару.
Всех мужчин сгоняли к срубу строящегося маслодельного завода. Два маслодельных завода работали, казаки строили третий. Скота в Тыныхэ держали по многу, молоко шло на переработку. Мужчин сгоняли к срубу, а женщин – к озеру. Заместителем командира карательного отряда был Клавдий Михайлович Топорков. Наш родственник в сватовстве. Его родная сестра Наталья Михайловна была за Иваном Кулаковым. Кулаковы родственники Бородиным, мой родной дядя Федя был женат на Бородиной. Топорков узнал, как проехать к сестре, поскакал к ней и честно сказал, с чем пришёл их отряд. Наталья Михайловна упала на колени, со слезами просила пожалеть мужа.
– Мужа не могу, спасай себя и детей! – Топорков бросил ей три отреза материала (каратели повсеместно занимались в Маньчжурии грабежом), пришпорил лошадь и поскакал к срубу, куда сгоняли казаков.
Он подлетел к Жучу, осадил коня и решительно бросил:
– Оставим женщин и детей!
На что тот грозно возмутился:
– Приказ – от мала до велика!
Казаки, оставшиеся в живых, рассказали о том споре командира и заместителя. Подкорытов остался живой, дед Волгин, Федя Баженов – подросток или парень молодой, а Иван Матвеевич Госьков умер в больнице… Топорков повторил три раза:
– Оставим женщин и детей!
Жуч категорически возражал. Топорков с перекошенным лицом схватился за гранату, что висела на поясе:
– Оставим женщин и детей!
Жуч сверкнул глазами:
– Ты ещё пожалеешь об этом!
В конце тридцатых Топоркова расстреляли как врага народа.
Бабушка, переговорив с Таскиной, заспешила в барáку (у нас говорили так – барáка) к мужу. Скомандовала Павлу Артемьевичу и работнику Сашке (не из нашей деревни) лечь на нары и накрыла их потниками.
Предупредила: не выходить!
Сашка, парень небольшого ума, через пару минут вылез:
– Есть хочу!
Высунулся из барáки, но услышал выстрелы и назад, на беду мимо летел Жуч на лошади. Осадил коня, закричал:
– Выходи, хозяин, не то гранату брошу!
Бабушка ему:
– Никого нет, хозяин ушёл!
Жуч:
– Как нет?! Выглядывал!
Бабушка Сашке:
– Вышел, так иди!
Тот забасил:
– Не меня зовут, хозяина!
Остался жив, а дед ушёл к срубу.
Согнали туда восемьдесят казаков и повели за деревню. Бабушка за ворота вышла, колонна мимо идёт, дед впереди. «Стою, – вспоминала, – надеялась, обойдётся, но сердце подсказывает: быть беде». Дед попросил у бабушки:
– Дай рукавицы.
Не верил в худшее. Бабушка метнулась в барáку, схватила овчинные голышки (шерстью вовнутрь), передала деду.
Гонят каратели казаков, торопят «быстрей-быстрей», раненный Семён Иванович Госьков и дед Мунгалов (на костылях, потерял ногу в Первую мировую) начали отставать. Семён Иванович обессилел от потери крови, ему стало плохо, дед Мунгалов попытался поддержать, оба упали. Каратели подскочили и штыками закололи обоих.
Казаки, увидев скорую расправу над станичниками, поняли, хорошего ждать нечего. Во главе колонны шёл полковник Аникиев, а сзади – георгиевский кавалер Алексей Николаевич Госьков, бабушкин двоюродный брат, крестник моего прадеда Ивана Никитича Госькова. Казаки начали перешёптываться: что-то на сход не похоже… Созывали их на сход, дескать, собрание, казачки, проведём, поговорить надо. Казаки перешепнулись, договариваясь наброситься на карателей. Хоть те и кричали «разговоры прекратить», Аникиев передал: он скомандует впереди-идущим, а Госьков – тем, кто сзади… Сопровождало колонну человек, может, тридцать карателей, на лошадях, с винтовками. Накинься казаки, навались разом, сдёрнули бы из сёдел… В середине колонны шёл старик Волгин и надо было ему вылезти:
– Так нас же на сходку позвали!
Старческая осторожность и какая-то детская наивность внесли сомнения среди казаков. Они прекрасно понимали, начни заварушку, пощады не будет. Если даже и удастся одолеть карателей, многих казаков положат… У красноармейцев винтовки, гранаты, лошади… Замешательство обернулось потерей момента для атаки… В распоряжении казаков всего-то минут пять и было, а как вышли в отпадок, стало яснее ясного… Аникеев бросил в сердцах:
– Дождались, твою мать!
В отпадке стояла группа карателей с пулемётом.
Жуч дал команду казакам сесть. Кто-то из них крикнул:
– За что расстреливать? С Советским Союзом не воюем! Живём мирно!
Жуч расплылся в довольной улыбке. Тоже побаивался, знал, не с мужиками от сохи дело имеет, с профессиональными военными. Но всё сложилось вон как удачно, ни одного выстрела в сторону его бойцов. Жуч из седла бросил казакам:
– Знаем, какие вы мирные! Вы же ненавидите советскую власть! Вам только дай! Сразу достанете оружие! Сплошная контра!
Оружие у казаков было. Что за казак без него. Из России привезли и тайно закопали. За двором моего деда, Павла Артемьевича, сделали схрон. Стоял сенник, а под ним оружие. Бабушка перед самой смертью рассказала. Ей одной из всех женщин деревни доверили. Знали, никому не скажет. Шестьдесят лет молчала. С двадцать первого по восьмидесятый год. Закопано было, как она говорила, в военных ящиках. Станковый пулемёт, винтовки, шашки. «В корзинах были бомбы». Наверное, гранаты имела в виду. С чем пришли, всё закопали. По сей день лежит там.
Жуч закричал:
– Огонь!
Пулемёт заговорил и тут же смолк. Заело. Две-три пули вылетело, и перекосило ленту. Ни туда, ни сюда. В невинных стрелять и Бог не позволил. Будто бы давал последнюю возможность карателям опомниться. Да куда там, кровью безоружных они были порчены в пограничных деревнях на Аргуни. Там зверствовали, не жалея ни грудных детей, ни женщин, ни стариков.
Жуч дал команду стрелять из винтовок. Мой дед, Павел Артемьевич, был в первом ряду, пуля вошла прямо в сердце. В пятом ряду сидел Подкорытов, герой Первой мировой, под расстрелом был в Гражданскую. Красные никак не могли взять городок. Озлобились и, когда ворвались, защитников принялись поголовно уничтожать. Одних порубили шашками, Подкорытов попал в плен. Подогнали их группу ко рву и начали расстреливать. Ставят по пять человек… Было уже сумеречно. Подкорытов упал перед пулей. «Над головой, – рассказывал мне, – прошла». Расстрельщики, закончив своё дело, спустились в ров, добивать, но не заметили прикидывающегося мёртвым казака. Ночью Подкорытов выбрался изо рва и ушёл.
В Тыныхэ тоже упал перед пулей. А каратели пошли добивать и мародёрствовать. Снимали венчальные кольца, перстни. Подкорытова, как и сбежавшего тунгуса, угораздило приехать накануне в гости в Тыныхэ. Жил с семьёй в Хайларе. Мойшу Жуча, того в Хайларе звали Моськой, хорошо знал, как и тот его. Мойша увидел золотой перстень на мизинце Подкорытова, наклонился, начал снимать. Да не первый раз мародёрствовал, опыт имел солидный, знал – с живого пальца или с мёртвого сдёргивает. Выругался в мать:
– Ты ещё живой, сукин сын!
Оскалившись, выстрелил в рот казаку из нагана:
– Получи, собака!
Наверняка хотел прикончить. Кипящая злоба к опасному свидетелю подвела, рука дёрнулась, пуля пошла не в мозг, в щёку, и под углом, ближе к уху, вышла…
Таких глаз, как у Подкорытова, я за семьдесят лет жизни ни у кого не видел. Долго в них не посмотришь. Смерти два раза в упор глядели. Не в атаке, а в упор, когда, казалось бы, всё – конец, нет спасенья. Глубоко посаженные, проницательные… На тебя смотрят, и хочется скорее отвести взгляд, а не можешь… Я учился в школе в Хайларе, мой друг Вася Чекаркин жил у Подкорытова, комнатку занимал. Я когда смотрел на Подкорытова, лица не видел – только глаза. Сам он среднего роста, в спине прямой, волосы светлые, ни одного седого. Всегда серьёзный. Георгиевский кавалер. Хорунжий. Было у него хозяйство, скот держал. Дочь в пятидесятых годах уехала в Швейцарию, он года через два перебрался к ней. В Швейцарии умер в доме престарелых.
Жуч выстрелил в рот Подкорытову и боковым зрением заметил, как дёрнулась рука казака, что лежал рядом с Подкорытовым – доходил бедняга. Жуч развернулся к нему, удостовериться, что тот готов, и увидел ещё одного знакомого – Ивана Матвеевича Госькова, троюродного бабушкиного брата, он с золотой медалью окончил гимназию в Хайларе. Госьков был легко ранен в ногу. Жуч выхватил у карателя винтовку, шагнул к Госькову, вонзил штык в живот и с остервенением провернул два раза. И этот свидетель ему был не нужен.
Иван Матвеевич жил в Тыныхэ, учительствовал. Молодой, всего год как женился на Клавдии Сергеевне Таскиной…