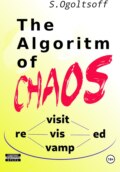Сергей Николаевич Огольцов
Главы для «Сромань-сам!»
Пару дней она пряталась в лесу, ела какие-то грибы, видела беспризорную корову, но та убежала.
Всё равно доить она не умела, да и не во что. Потом увидела в поле хуторок и пошла туда, но дойти не успела – по просёлочной дороге подкатил мотоцикл с коляской и в нём два Немца. Они что-то кричали ей, а она стояла с упавшим сердцем, не понимала, не шевелилась.
Они воспользовались ею там, на траве рядом с дорогой, совсем в двух шагах от хуторка. По очереди. Мотоцикл полевой жандармерии (она позже узнала, что это полевая жандармерия) стоял рядом, повернув морду с круглой фарой и рогами руля, и смотрел.
Потом они посадили её в коляску и отвезли в санаторий на окраине города…
Командование Вермахта не собиралось наступать ни на свои, ни на чужие грабли. Тем более, что ещё Бисмарк призывал учиться на промахах предыдущих дураков.
Опыт Первой Мировой войны показывал, что мужчины в униформе, подолгу пребывая в компании одних лишь мужчин в униформе, начинают пользоваться или использоваться другими мужчинами в униформе, что отрицательно сказывается на состоянии боевого духа и готовности без раздумий подставлять себя пулям, снарядам, огнемётам, бомбам, отравляющим газам…
Вести войну – это как руководить крупной корпорацией, для этого нужны, прежде всего, учёт и правильное распределение ресурсов. Тут нет мелочей – важно всё: и взвешенный рацион питания солдат, и своевременная смена обмундирования, и, в том числе, чтобы личный состав имел возможность совать свои члены в дыры предусмотренные для этого Господом Всемогущим…ja! meinen Herren, alles ist wichtig…
Командование Вермахта с бюрократичной педантичностью предписывало создание борделей для нижних чинов и офицеров (раздельных) в прифронтовой полосе любого театра военных действий, где отводимые на посменный отдых подразделения спускали бы пары естественной половой потребности нагнетаемые в ходе боевых действий как наступательного, так и оборонительного характера.
Соответствующие заведения с солдафонским юморком именовались «санаториями». В один из таких «санаториев» и привёз её патруль полевой жандармерии…
Наверное до войны тут и вправду был санаторий или дом отдыха. На территории вокруг двухэтажного здания имелась пара аллей и даже гипсовая девушка с веслом. Территорию обнесли спиралью ключей проволоки, реденько, и охранялся только шлагбаум на въезде, отмечать путевые листы водителей. Побег кого-либо из персонала по обслуживанию отдыхающих не предусматривался, с учётом их формы из ярких коротких халатиков без пуговиц, но с петельками и поясками, а так же дерматиновых тапочек.
Возглавлял здравоохранительное заведение унтер-офицер Шпильмастер, бывший счетовод банка во Франкфурте-на-Майне с большой лысиной и жизненным опытом. Своим служебным положением он не пользовался, панически остерегаясь подцепить венерическое заболевание, и потому сожительствовал со своей квартирной хозяйкой в городе, куда ему часто приходили письма от его супруги Эльзы Шпильмастер, на которые он отвечал с аккуратностью надёжного банковского служащего.
Его заместитель, тоже унтер-офицер, Мютце, требовала, чтобы её называли «фрау» и, фактически, заведовала всем, поскольку была профессионалкой в данной области, из портового города Гамбург.
Казарма небольшой охраны во флигеле на отшибе, два грузовика с водителями, днём приходили работники кухни из местных жителей – штат небольшой, но всё учтено..
Грузовики с брезентовым верхом привозили «отдыхающих» в 17.30 до 6.30 следующего утра. Моторы смолкали под окнами и из кузовов с привычной сноровкой выгружались солдаты в полевой форме, но без оружия и касок, задиристо окликая друг друга, полные радостной эйфории, что живы и пару дней не придётся внутренне вздрагивать от близких и дальних разрывов.
Стуча короткими сапогами, они валили в общий зал на первом этаже, где уже играл патефон и сидели девушки в халатиках, а унтер-офицер Мютце в строгом вечернем платье продавала шнапс местного производства в бутылках из Германии. Оплату она принимала и вещами, мелкими, цену которым устанавливала сама. За девушек платило министерство обороны.
Наскоро выпив, первая партия посетителей разбирали «медперсонал» по комнаткам (профессионалка Мютце заставляла девушек принять соответствующую заправку спиртным ещё когда машины урчали от шлагбаума к дому). Остальные военнослужащие оставались пить, петь с патефоном или без, похохатывать в ожидании своей очереди…
Сколько проходили через неё за ночь? Штук двадцать? Толстые, тощие, высокие, коротышки. У кого-то воняло изо рта, однако после третьего ничего уже не имело значения. Но не меньше пятнадцати.
Ничего не имело значения. В голове стоял гул, как в заводском цеху полном работающих станков. Неслышный, но плотный постоянный гул. Перед глазами вздрагивала стенка, туда-сюда, потому что если их закрыть, клиент мог ударить, от обиды, хотя не всякий.
Потом нужно было обтереться и сесть на кровати, а из комнаты не выходить, они являлись сами. Иногда вдвоём, хорошо если со шнапсом, после которого гул теплел.
Они садились с двух сторон, схватив за ляжку или титьку, болтали между собой, потом ставили её на коврик перед кроватью, расстёгивали свои ремни и, спустив штаны опускались рядом на колени, с двух сторон. Гул уплотнялся всё также беззвучно и становилось всё равно, что сзади не туда суёт, а передний больно дёргает уши, натягивая на свой. Потом он начинал покряхтывать, изливался и оседал на пятки своих сапог, и надо глотать, чтобы не обрызгать форму, а когда доходил второй, они вдвоём садились на кровать, закуривали, отглатывали из бутылки, нехотя переговаривались, пока она вяло валялась на боку у их ног на затоптанном коврике, опав обмякшей грудью в следы сапог на жёстком ворсе, с набрякшими в молочно-белой коже отметинами укусов и щипков, рядом с соска́ми, после любителей кончать под женский визг.
С рассветом, внизу орали команды—«лёс! лёс!»—и за окном заводились грузовики, чтобы вечером приехать снова, потому что это было предприятие конвейерного типа…
Утром старушки из местных сменяли постель изжиженную за ночь, девушки завтракали чаем с хлебом и спали до обеда в 15.30.
За общим столом на кухне они не разговаривали. Каждая слушала свой гул.
Молча выходили в зал, расчёсывались, чтоб Мютце не орала, молча садились на стулья, пока снова не позовут на кухню выпить «заправку», а в зале заводилась «Ich Wollt Ich Waer Ein Huhn…» под урчание подъезжающих грузовиков…
Щуплая чернявая девушка повесилась на пояске своего халатика в комнате. Унтер-офицер пожала плечами, но пояски у остальных не стала отбирать. Как профессионалка, она знала – такое бывает, но редко, не каждая сможет.
Грузовик «санатория» увёз отходы производства.
Если у девушек случалась менструация, Мютце орала «шайзе дрек!» и запирала их в комнатах до полуночи, под тех, которые уже так накачались, что им без разницы про состояние дыры и будут тупо додалбываться до победного «ууффф!».
Она потеряла счёт дням, ночным сменам, стёрлись имена людей из её прошлого, неясно всплывавших сквозь неслышный гул…
Один «отдыхающий» не стал ею пользоваться, говорил, что она его «швестер Ильзе», плакал, целовал ей руку и показывал незнакомую фотографию.
Когда в дверь стали стучать, он резко откликнулся, а перед уходом показал ей на пальцах, что «персонал» меняют каждый месяц, изношенные станки вывозят в поле и «ду-ду-ду!».
Она не знала, когда кончается этот «айн монат», но что-то заставило её убежать в то же утро через проволоку на заднем дворе, когда грузовики двинулись к шлагбауму. Она весь день пряталась в сарае разбитого дома на окраине, а ночью, чуть живая от переохлаждения, добрела постучать в дверь ближайшей хаты.
Открывшая ей женщина всё поняла по её виду, город-то небольшой.
Это была акушерка на пенсии, которая привела опытного гинеколога, тоже пенсионера. Он заставил её выпить спирт и лечь на кушетку, потом одел пенсне и что-то делал там у неё, а женщина помогала.
Потом он тоже выпил спирт, заплакал и ушёл. Вернулся недели через две, снова ночью, снять швы.
Ещё через неделю, когда женщина ушла на базар, она украла у неё самое негодящее платье, ватник и платок, две картошки и старые валенки, и ушла в город побольше…
Поезд остановился в поле. Конвоиры распахнули двери вагонов и что-то кричали, но Юля не знала по-Немецки. В недалёкой ложбине под насыпью протекал ручей в берегах из уже тающего на солнце снега. Охранники жестами показали, что можно пройти к воде. Девушки радостно бросились к ручью, пили, ополаскивали свои лица.
– Женя! – Услышала Юля над головой и подняла взгляд от своих стиснутых в ковшик ладоней. Рядом стояла та, страшно молчаливая девушка и улыбалась полной улыбкой, в обе стороны своего рта. – Женя меня зовут…
И она вдруг прыгнула через ручей и стала взбегать на склон лощины, проваливаясь в мартовский снег, маша руками по-девчачьи—от прижатых к бокам локтей—из стороны в сторону.
За спиной у Юли закричали, забахкали карабины и девушка вдруг перестала бежать, замерла, а потом скатилась обратно, проминая неровную борозду до самого ручья.
Охрана кричали девушкам стоять на месте, только Юле и другой девушке рядом с ней приказали взять мёртвую за ноги, отволочить к насыпи и оставить рядом с тропой. Сердце её страшно стучало, но от страха как-то всё понималось, чего от тебя хотят.
Они исполнили приказ и растерянно стояли рядом с трупом, не зная что дальше, пока остальных разводили по вагонам мимо них и девушки Жени, которая лежала на снегу с открытыми глазами, такими же синими, как небо.
Юля склонилась и одёрнула юбку с оголившихся ляжек мёртвой, прикрыть ей колени, потому что к ручью будут ещё проходить хлопцы из тех двух вагонов в голове состава…
* * *

Комплектующая #10: Предвкушение Отдохновения
Он стоял приложив ладонь к плотно обтягивающей ствол мелко-чешуйчатой коре и близоруко щурился на вполне ещё зелёные листья. Точно – дуб. Чешуйки тёмно-серые, в неровных, тёмных до черноты обводах…
И зацени изысканность самого жеста, а? Подтекстов не перечесть, общую позу грузит грусть ностальгии типа "вот вновь я посетил знакомые края"… или как там Александр нагрустил в эту же тематику?
Прикинь, в детстве от дальнозоркости лечили, а нынче на расстоянии дальше, чем до компьютерного монитора видимость в пределах 10%, резкость миросозерцания смазана непоправимо. И хули толку, что у встречных небесные черты? Кого-то из бывших знакомых, должно быть, заедает моё пренебрежительное высокомерие, даже кивнуть им не изволю, на тротуарах. Ну извиняйте, неопознаваемые…
Взгляд передвинулся метров на 10 дальше. Дерево в расцвете сил, ствол раздвинулся натрое в пропорционально мощный трезуб. Тоже, скорей всего, дубравной принадлежности… Привет и тебе, здоровило неразличённой породы!
Лицо обернулось вверх, к змеящимся над головой ветвям. Ну говорил же – дуб, контур сумрачных листьев его, неоспоримо. С ближайшего удава завис обломок в палец толщиной, длиною с метр. Не первый год как обломило ветром, весь посерел, облез, усох, а всё цепляется, отягощает.
Вскинув руку, он ухватил неуступчиво цепкий обломок, провернул его туда-сюда, до сухого треска в месте недовершённого облома с материнской ветви. Глупая привычка, родимое пятно друидов – непрошено вмешиваться в древесный быт… но что-то же призвало именно сюда, хоть и знало с кем связывается и во что выльется ходячий пережиток…
Снял непротивящийся уже обломок и опустил к земле. Отбросил.
Да, ему известно – теперь в деревне кто-нибудь помрёт, кто-то, кто года два уже дышал на ладан. Но делать нечего – жизнь есть жизнь, порою и до акта милосердия доводит. Главное не оставлять улик, а алиби приложится. Минут пять назад он, без свидетелей и очевидцев, взошёл на этот невысокий холм.
Дорогу, что привела к подножию, обрезало железо взвешенной конструкции. Конец пути, ничего лишнего, ажурно-аккуратная решётка. Две невысокие створки ворот плотно сдвинуты поперёк дороги, навесного замка и близко нет. Лишние затраты. В дырки для просовывания замочной дуги продета проволочина, согнута в подкову, стара как мир, но ржавчины ни на одном изгибе, отполирована прикосновениями.
Замок не нужен – нечего тут красть, зато (и он уже не раз в том убеждался) не встретишь видов красивее, чем с высоты придеревенских кладбищ…
Правда, для наслаждения прилегающим ландшафтом пришлось брести к макушке высоты, через некошеные высохшие травы конца лета, между высоких плит с чёрно-белыми супружескими парами, а если хоть и в одиночку, то всё равно портрет исполнен в скупо двуцве́тной гамме. Выше моды не прыгнешь… Под всеми и каждым, по отдельности, строки вычитаний большего из меньшего. В результат минус иррационального числа, а у кого сколько – извините, он не ревизор, чтоб в бухгалтерию вдаваться.
Но попадаются и вычурные пирамидки в старинном, ещё Персидском, духе, без портретов, или же каменные параллелепипеды в стиле "прилавок-саркофаг", ростом ниже пояса, что-то в них выдолблено да некому и нечем прочитать…
Длинные когти непролазных кустов прокалывают джинсы. Но те, с полным почтеньицем и пиететом, всё также продираются наверх… Простите, извините, позвольте, нам тут, недалеко…
В ответ, сквозь надпочвенные листья густой поросли выпархивают стайки иссине-мелких мотыльков—разбуженные души из разных прошлых лет.
И так – до самого верха, где можно приложить ладонь—по-братски, но без пафоса—к чешуйкам коры дуба и глянуть вниз, по ту сторону холма, на бульдозерно спланированную площадь новой части кладбища, где он в жизни не бывал, да и не тянет.
Нет уж, спасибо, ему только бы ночку переночевать, а с утреца, по свежачку, потопает в Степанакерт. Хотя, конечно, жары не избежать – на 25 км пути утренних часов не хватит. Вот потому и надо отдохнуть…
«Ынгистаран» – древний Армянский язык, в нём кладбище не от слова «склад», а чётко и напрямую – «место отдохновения». Вот зачем он тут…
В низинной плоскости новой, ещё лишённой деревьев части, в тихом предвечерье застыли шёлковые шпили флагов над мрамором погибших в недавнюю войну. Не шевельнутся блекло-выгорелые – в Карабахе засуха уже второй год. Но в прошлом хуже жарило.
С таким же триколором, но без дре́вка и цветом посвежее в шелках состроченных своими руками—дочка его недавно поднялась на Арарат, который в Турции, и распустила там Карабахский флаг.
Оно ей надо? Лучше бы ребёнка завела. Тридцать стукнет – и оглянуться не успеет. Ребёнок ей нужнее мужика… На Арарат долларов скопила, сможет и дитя поднять… И вообще – умный в гору не пойдёт…
Хотя, конечно, он гордится. Не так, чтоб чересчур, чтоб распирало аж, но горд. Не всякий может с чуть небрежной скромностью, так, между прочим, выдать, что кой-кто из его ближайших потомков…
Да… Совершила восхождение… Намедни… Полюбовалась очертаниями Ковчега в леднике, приблизиться проводники не пускают – там опасно! только по тропе ходи!.
Ещё был Украинский Армянин, тот на вершине жовто-блакитний распустил, тоже патриот.
У Лены из Еревана было два – Российский, она ж в Поволжье родилась, и Армянский.
Москвич Анатолий, семидесяти лет, пришёл без флага, но громче всех орал «ура!».
Сброд полнейший. Старший группы – Перс, проводники – Курды. Эмат из Бейрута вообще с пустыми руками примазался, незапланированный Араб.
Однако ему простительно – в аэропорту его рюкзак и вещи отправили не в тот рейс. Сидел и ждал у самого подножия, пока их группа, мимо проходя, скинулись, по нитке, снаряжением, кто чем смог, из личных экипировок.
Бля-а!. (о! то есть…) Чёрт знает что! Ведь можно же по-людски жить. Как люди, а не граждане держав…
И кто бы сомневался?! Когда спустились, рюкзак его уже прилетел, на авиалиниях ничто не потеряется. Не-а.
– Сколько тебе было, когда ты в деревню приехал?
– 33.
– Как Христос.
– Не вербуй, я – неверующий.
– А теперь?
– 68.
– А сюда как попал?
– Я через Рев шёл в Улы-баб, в ту заброшенную церковь покинутой деревни, ну а в Реве меня мужик во двор зазвал, стал документы спрашивать, вид у меня не местный, а до передовой всего-то километра два, вот и проявил прифронтовую бдительность.
– Что за мужик?
– Роба. У него дом в самом низу, а во дворе источник поставлен в память про сына Рено, что в последнюю погиб. Поговорили, он мне дорогу указал, побезопаснее, на Улы-Баб. Я и пошёл, но она длинной оказалась, потом совсем стемнело, а как на перевал поднялся – лес кончился, я и заночевал.
– Как заночевал?
– В спальнике.
– А волки?
– Брось, я – неверующий.
У Гриши полон дом внучат, патриархом стал. А когда его жена Сурфик ставит мне прямой вопрос и начинает ахать да цыкать, что нельзя жить в одном доме с женой как не с женой, то я не возражаю, я согласный, да хули толку?
За мою сговорчивость, она начинает гнать дуру какой я красава – один в один как 30 и х3 лет тому назад. Пойди не засмейся, если эта рожа мне через день во время бритья из зеркала гримасы строит.
– А утром смотрю – воды нет совсем, начал в Сейдишен спускаться. На полпути меня Вааршак в свою "Ниву" подобрал.
(Вааршак – это родной племянник Сурфик, которого и на свете не было, когда я уж Сейдишен покинул. Он прилетел из Москвы, которую покоряет уже пять лет, а тут в лесу увидел незнакомца непонятного вида, а до передовой всего, ну и так далее…
За предыдущий день пути я уж и отвык, что машины могут останавливаться. Нет! С рёвом проносятся мимо, как болиды по раскалённому асфальту, шепеляво треща покрышками.
Из-за спины впритирку вылетают, какой-нибудь падла ещё и сигналом рявкнет. А когда навстречу что-то из марева выпулит – то я заранее соступаю на обочину, полный респект, я своё место знаю – без номерных знаков на асфальт не прусь…
Три войны тому назад асфальта меньше было, но из 25 км по дороге навряд бы и 2 удалось пройти, от силы – два с половиной…
Не легковая так грузовик наверняка б затормозил на обочине в попутном направлении: садись, поехали, давай рассказывай…
Уж больше не видать тех добряков – ни запорожцев, ни жигулей, ни ГАЗонов, ЗИЛов, ни мотоциклов «Урал» с коляской.
По выжаренной солнцем гудроновой черноте несутся туши Прадо, Тойот, Мерседесов, Мицубиши и прочих железяк с бездушным блеском лака. Марка машины – определяет сознание, и это стопудово…
Но вокруг лес и нет асфальта, вот Вааршак и тормознул, тем более, что незнакомый, а до передовой всего-то… ну и так далее, и прочее такое…
Поехали. То да сё, водитель прощупывает меня заочной очной ставкой с населением Сейдишена…
Хоть я и не любитель огорошивать людей без причины, но порой трудно удержаться от каверзы. И когда я назвал его по отчеству, Вааршак чуть руль из рук не выронил, а дорога-то крученная…
А я как будто виноват, что он копия брата Сурфик? И 30 с лишком лет как не бывало. Словно едем траву косить на дальнем склоне…)
Перед деревней, Вааршак завернул на деревенскую ферму к Сапёру Несо, он же Одинокий Волк. За эти годы так и не женился Несо, боятся его бабы – мать знахаркой была, не то вещуньей…
Сидит Одинокий Волк в тени под стеной, переживает как 30+ лет назад Командос продал и сдал Туркам Шаумяновский район и город Мардакерт. Приехал на «козле» в ущелье, где был Сапёр и ребята хндзристанского отряда Кобра, кричит: «Я вам приказываю отступить! Город уже оставлен!»
Ну – отступишь, а как потом на ровном месте танки удержать? Сапёр уходил последним, уже без Кобры, когда дорогу заминировал. А Командос потом в Армении ещё и генерал-майора получил.
Нет, журналисты в Сейдишен не приезжают, а когда Несо и ребята Кобры потихоньку вымрут, останется ещё одно красивое имя, чтобы прикладывать к ранам Армении – легендарный Командос…
Вааршак привёз меня ко двору Гриши, где Арташ Гришаевич колол дрова, а сам уехал – ему к зубному в город.
Ну это ж надо – и Арташу уже за сорок! Но молодой вполне мужик и колоть умеет, ещё лет 30 пока начнёт кряхтеть и жаловаться на боли в пояснице по утрам.
– Так ты так в церковь Улы-баб и не зашёл?
– А зачем мне церковь? Неверующий я.
– А я вот не могу читать, даже очки не помогают.
– Гриша, ну что они там могут написать, чего мы не знаем?
– Ну это ясно, Западную Армению Ленин Ата-Тюрку подарил, Карабах Сталин Азербайджану отписал, а этот пидор ереванский продал нас в Баку.
– Гриша, он ещё и за власть не начинал бороться, а Турция уж приступила сооружать автобан в направлении месторождения в Кельбаджаре.
– Значит Сорос.
– Забудь. Сорос просто наклейка, фантик. Сделку заключали местные деляги – Турция с Россией. У Турков Русский ВПК в кармане, они умеют покупать.
– У меня в войну тёлка пропала, белая. Вышла из лесу на асфальт и – увезли.
– Кто?
Гриша молчит, умолк и я, но мы оба знаем, что до Сейдишена Турки точно не дошли…
На войне и поросёнок Божий дар, а уж тем боле тёлка в 40 кг…
Горькие думы подсластил Гришин самогон из персиков…
Сурфик использовала затишье для перехвата собеседовательной инициативы.
– Значит, ты всё так же атеист?
– Сурфик-джан, это разные вещи. Атеист всем долдонит, что Бога нет, а у неверующего нет времени на такую мелочёвку: то дров наруби, то воды принеси, и так дальше по списку.
– Да, каким ты был таким остался.
– Я не меняю жён и убеждений.
(Сурфик всю жизнь преподавала Русский и литературу в школе Сейдишена и свои стихи тоже на Русском пописывает. Её цитатами не запугать).
– А с женой-то чего не ладите?
– А ху… Ахх!. Это просто трагедия жизни, чтобы женщине таких приличных правил достался такой раздолбай, как я… Ну не в смысле бабник, а во всём прочем. Вести себя не умею ни с кем, ни беседу вести приятным образом.
– Как я её понимаю!
– Понимающих много, да вот на утешающих дефицит.
– А говоришь не бабник!.
– Да не, это заготовка из холостяцкого периода жизни, чисто автоматически щёлкнула.
– Значит хорошо натренировал заготовочку.
– Ну так неженатый же был, время свободное, девать некуда.
– Вот и все вы такие.
(А и они тоже, между прочим, одинаковые. Оставить последнее слово за собой даже и не мечтай, тем более, что потом тебе же хуже будет. И неважно какая у них раса или вероисповедание.
Но я хотя бы побрыкался как самоуважающий себя мачо, не то что те игилы-талибаны с их кляпами на женский рот под видом бурок… слабачьё…
но Чеченцам-то (хочется верить) я ни на что не наступил? …эти поближе, а ну как, с обиды, дотянутся?.)
Потом дом Гриши стал собираться к общему выезду в другую деревню на лакированном Круизнике Арташа. Типа там день рожденья у кого-то, а у меня маршрут короче – на холм отдохновения…
Прилетел махаон, а может адмирал, кто их погоны разберёт, чешуекрылые, сел, леопардо-рыжий, на головку захирелого в тени дубов чертополоха. Проветривает свои пятнышки неторопливо…
Завелась цикада, скрипит не умолкая… Прижужжала муха. Кыш, дура! Не топчи грудь дистрофику!.
Из поля в стороне соседней деревни донёсся собачий лай. Дальний. Одинокий. Без остервенения…
По асфальту невидимой отсюда шоссейки пронеслась невидимая иномарка…
В деревне у подножия холма отдохновенья упорно зудит одинокая бензопила… Лето на исходе, пора готовиться к зиме…
Нет, ну спрашивается – нахрен вообще по тем Араратам лазить?.
* * *

Комплектующая #11: Осознание Местопребывания
Инна постепенно всплывала к поверхности. Темень, что обволакивала всё-всё-всё—со всех сторон и беспросветно—начинала медленно редеть, растворялась предчувствием исподволь приближающейся поверхности, давящая тягость черноты ослабевала и всё слышнее звучали голоса, а на щёки Инны плескала холодная вода. Это мама… мама?.
– Инночка!. Господи!. Доченька!. Да Боже ж ты… Инночка, что с тобой, детонька?!
Инна открыла глаза к лицу мамы придвинутому так близко, что оно закрыло весь потолок гостиной, где Инна очнулась и почувствовала своей спиной податливую твёрдость раздвижной диван-кровати. Значит мама успела прийти из института и защитить её от Страхолюда-Круглоглазища…
И папа здесь, он тоже успел приехать с работы… Зачем он говорит так громко?. Грозится сделать что-то какому-то «свинячему рылу».
Там в нише был Свинячий Рыло?!.
– Я его всё равно поймаю и расквашу его свинячье рыло!
Мама удерживает полупустой стакан донышком на спинке диван-кровати, другая тоже занята – крутит пальцем у виска…
Зачем они так громко ругаются?!..
Инна росла крепким здоровым ребёнком. За всё детство у неё случился всего один обморок, когда она случайно не узнала папу в нише-кладовке и приняла его за… за что-то Самое Страшное…
Он прятался там, чтобы поймать соседа со второго этажа, когда мама вернётся из института.
Папа так и не поймал соседа и через год тот получил квартиру на другой улице и переехал туда со своей семьёй, но это уже когда Инна стала пионеркой. Её радовало, что соседи переехали так далеко и скандалы папы с мамой стали случаться реже, хотя всё так же громко, чересчур.
И к тому же, вместе с мебелью, соседи увезли своего сына, Виктора, который уже закончил школу, но когда-то в детстве ущипнул Инну в подъезде под сарафанчиком.
И вообще про того сдвинутого в школе ходили негромкие слухи—но это уже когда её приняли в комсомол—будто он спал в гробу. Когда при Инне одноклассники вполголоса касались этих странных слухов, то их неясность и недоговорённость вызывали много вопросов, разных, но она никогда ни о чём не расспрашивала.
Сколько раз спал? Где нашёл этот гроб? Как могли родители позволить, чтоб он притащил домой такую жуть и гадость?
Нет, не спрашивала…
Она вырастала молчаливой девочкой, не замкнутой, но молчаливой. Особенно после той ниши. Хорошо хоть голос себе не сорвала тем Визгом.
И с тех пор она не вставала на защиту жуков и не кричала: «Не давите! Дураки!», а просто молча улыбалась одной половинкой рта или сразу же уходила.
В школе она была «хорошисткой», ниже четвёрки за четверть ей никогда не ставили, потому что все учителя знали, что её мама преподаёт в институте. Город-то маленький…
Иногда они даже пользовались этим: «Как не стыдно дочери преподавателя…», но она редко давала им такую возможность и выполняла домашние задания по всем предметам, ну а в старших классах, конечно, списывала на переменах у чемпионов по химии, физике…
Однако перевоспитать её почерк школе не удалось, он так и остался размашисто-острым, с чётким наклоном влево.
Вместе с тем, Инна была не вполне обычным ребёнком. Она видела. Не то, чтобы так уж всегда и постоянно, но она видела незамечаемое прочими людьми.
Тут речь не о всех тех жестяных плакатах и стендах: «Слава Труду!», «Слава КПСС!», «Решения Партии и Правительства одобряем и поддерживаем!»
Нет конечно, такого она тоже не замечала. Это всё равно, что остановиться и читать листок самописного объявления наклеенный на столб уличного освещения, явный знак, что тю! со сдвигом! Хотя кое-кто могли тоже тормознуться за спиной и заглянуть через плечо читающего, чтобы придти к окончательному выводу: точно не все дома! Нормальным без разницы адрес козы на продажу.
Нет. Она видела такое, чему там—ну где угодно—быть совсем никак не полагается, потому что этому там никак не место или непонятно что оно вообще такое.
Самым первым случаем стала мужская рубаха в клетку, что промелькнула в прихожую, когда она выходила из туалета.
Ей даже послышался щелчок замка, но когда она решилась заглянуть из коридора в прихожую, там оказалось пусто, а у мамы, которая как раз была на кухне, она ничего не спросила, хотя рубаху точно видела. Такая же как у соседа со второго этажа и на каждом втором мужчине населения в городе.
А тот случай, когда пониже щита перегородки отделяющей автобусную остановку от остального тротуара она увидела ноги в чёрных брючинах?
Ну если ждёшь автобус, то отчего же позади щита, откуда даже улицу не видно? и зачем так чересчур вплотную? и в одних носках? Она даже потихоньку вышла из остановочной загородки и обошла её, чтоб заглянуть туда. Позади стенки – никого, а когда вернулась – ноги стоят, где и были.
Хорошо хоть автобус подошёл…
Из-за того случая, когда Инна стала совсем уже взрослой девушкой и отдыхала где-нибудь на пляже, её очень нервировали ноги пониже жести стенок в кабинках для переодевания… Но эти-то хотя бы шевелятся.
Или тогда в подъезде. Мужчина прошёл в военной форме. Без погон, а на голове будёновка.
Ей такие шапки только в кино встречались.
Полутёмный подъезд, а его так отчётливо видно. Мимо наверх поднимался, совершенно без звука.
В старших классах неразговорчивость Инны никем не замечалась. Во-первых, она начала заниматься в Детско-Юношеской Спортивной Школе, бег на среднюю. Когда бежишь 500 метров, тебе не до разговоров, верно? Ну и потом, пока отдышишься, «ага» и «не-а» вполне хватает.
Директор ДЮСШ, Ассириец Самик, на неё глаз положил, девушки такое и без разъяснений чувствуют.
Два раза в неделю он заявлялся на стадион в своей «Волге» перед разминкой легкоатлетической секции, подходил поправить стойку стартующих, чаще всего на её примере, пока тренер их группы помалкивал рядом.
Директор Самик тренировал волейболистов. Хотя уже за тридцать, он всё же оставался неженатым и, скорее всего, пьющим, потому что зачем же ещё ему персональный водитель для «Волги», сторож ДЮСШ, а по совместительству, тренер боксёрской секции?.
Говорили будто он сидел за что-то, но по нему и так видно, что не Ассириец.
А уже в 10-м классе ей привиделась, ну не привиделась, а даже встретилась ей и с нею разговаривала чёрная женщина. Очень смуглая, но не как Цыгане, а будто кожа угольной пылью припорошена.
Случилось это в парке возле озера, где Инна после стадиона на скамейке сидела. И волосы, и одежда – всё чёрное.
Женщина остановилась, однако ничего не попросила, а только глянула. И брови, и ресницы – такие густые и чёрные, и чёрная родинка на верхней губе.
А под ресницами – круги чернее чернющего, буквально круги, без зрачков. Но ведь так не бывает же, нет? А Инна видела – круглые провалы в непроглядную черноту посреди глаз.
– Ёлки зелёные! – сказала чёрная женщина, – а тебя-то сюда как занесло, а? гляделка?
Потом она показала на Иннины кеды, что стояли у неё под боком на скамейке, улыбнулась половиной рта и добавила: «Хвостик ещё не болит? Русалочка?»
Не дожидаясь ответа, чёрная женщина развернулась и ушла, а Инна осталась сидеть ни жива, ни мертва, такого она в жизни не видела.
На следующий день Инна нашла колечко на тротуаре моста через реку, за которой расположен городской базар.
Совсем бросовое колечко. Девчачья бижутерия, но Инна его подняла и чем-то оно приглянулось. Она даже протёрла его носовым платочком и одела на палец. И опять ей понравилось – тонкое такое на длинном пальце и стекляшка-камушек бирюзовый. Только что-то вдруг больно кольнуло палец под колечком, хотя тщательно внутри протирала.