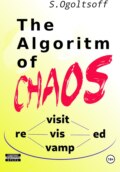Сергей Николаевич Огольцов
Главы для «Сромань-сам!»
Весь разговор чем-то смахивал на шахматную партию с добряком Иржи, который, кстати, и обучил её этой игре в долгие вечера большого дома на берегу широкой реки Рейн.
Однако выиграть у чеха было невозможно – он знал наперёд куда она станет двигать фигуры через два хода.
– Я согласна.
– Ну разумеется. Недаром у вас такое осмысленное лицо.
– А как ваше имя, юноша?
– Зовите меня просто Маклер. И можете не говорить мне своих имён, они у вас просто на лбу написаны – Тристан и Изольда…
Маклер отвёл их на 25 Линию Васильевского острова, экскурсоводно поясняя на ходу, что в градостроительных замыслах линиям предстояло превратиться в каналы, но прокопав до половины – утомились, плюнули и засыпали обратно. Слишком длинный остров подвернулся. Нам же всегда хочется как лучше, покуда дойдёт, что взялись не с того конца, ну так проволокой примотаем, в надежде что авось постоит пока ещё, и – вперёд, к новым свершениям!
Проходными, он вывел их в более просторный двор и, мимо ямищи громадной воронки («извините, у нас тут малость не прибрано!»), они втроём поднялись на четвёртый этаж второго подъезда, где Маклер распахнул незапертую дверь и вскрикивая «Мадам Фима! Мадам Фима!» двинулся по прямому коридору с высоким потолком.
За ним шёл Иван с чемоданом (слово «саквояж» он не знал) и следом Юля, стараясь уберечь платье от детской беготни с ночными горшками и от старушек с бутылками постного масла, а иногда керосина, в различных, зачастую непредсказуемых направлениях.
Коридор закончился большой комнатой без окон, но с двумя длинными столами, на одном из которых стояли два примуса (один сипел синим пламенем под алюминиевой кастрюлей) и керогаз на две конфорки, не задействованный.
Из-за второго стола, собирая ворох разброшенных карт в одну колоду, поднималась женщина в шёлковом халате и волосах наверченных на папильотки из клочков газет.
– Принюхайтесь, Евдокия, ваш кондёр уже дошёл, можете идти уже кормить вашего Жорика обедом.
Её компаньонка, в халате ситцевом и в косынке на волосах, безропотно закрутила примус и, ухватив ушки кастрюли одной большой тряпкой, покинула помещение.
– Господин Маклер, ну так уже здравствуйте! – радостно воскликнула женщина в папильотках.
– Без формальностей, Мадам Фима, у меня ещё масса дел на сегодня. Позвольте вам представить мою сводную сестру Изольду с её сводным братом. Всего пару минут, как соступили с дилижанса из Расторгуевска.
Им нужен номер в вашем отеле на 3 дня. Они тут по путёвке Совнаркома для ознакомления с духовным наследием уцелевшей архитектуры.
– Ах, господин Маклер, вы знаете как всё сейчас сложно…
– Мы только что условились пропустить формальности.
– Ну есть одна комнатка…
– Тогда представьте ей гостей, а её им.
Они вернулись в длинный коридор и, недалеко от кухни, Мадам Фима достала ключ из шёлкового кармана, чтобы отпереть дверь справа.
Все четверо зашли внутрь.
Комнатка больше смахивала на камеру, однако на гвоздях вбитых в деревянную перегородку висела пара плечиков для одежды, а в небольшом окне, возле железной койки с матрасом и подушкой под армейским одеялом, решётка отсутствовала.
– Приемлемо, – решил за всех Маклер. – 3 дня. Питание включено в стоимость путёвки. И гостям столицы по сувениру от вашего пятизвёздочного, в виде заплечных мешков. А также, передайте Самуилу Яковлевичу, что в четверг я зайду в час дня пополудни.
Он взглянул на Юлю сияюще-чёрными глазами. Он не рисовался, не старался вызвать ни восхищения, ни страха, ни симпатии. Он разыгрывал эндшпиль.
Не отрывая взгляд от этого блеска, Юля сделала шаг в сторону Ивана, наощупь взяла из его рук саквояж и поставила на койку, чтобы открыть и выложить всё бывшее в нём поверх суконного одеяла.
Юноша, принял от неё саквояж с ввалившимися в пустоту боками. Он был на полголовы ниже Юли, но ей казалось, что в мерцание этих глаз она смотрит снизу вверх.
– Всем – адье! – Маклер потрогал кепку у себя на голове и – вышел.
– Кто это? – Юля потрясённо опустилась на один из двух стульев возле стола в углу.
– Я таки вас понимаю, – сказала Фима, – свежего человека он может довести до чего угодно, а во всём виноваты его родители. Сколько раз я говорила его родителям – отдайте ребёнка в школу. Школа сделает из него нормального, как все!
Но разве они кого-нибудь слушали? Богема! Непревзойдённые Давид и Лия Дорфман. Театральный псевдоним Деревнёвы.
Их специально приглашали в Москву, когда Сталину доложили про неповторимый талант Питерских актёров.
И вы знаете что было там? Так я вам скажу. Сталина везут в Большой Театр из его дачи на закрытое представление спектакля, а Давид заявляет, что он не станет играть перед пустым залом. У него нет вдохновения для пустого места.
Вы представляете? Бедных кремлёвских курсантов по тревоге поднимают для заполнения партера и галёрки.
Не знаю что был за спектакль, я больше связана с живописью, но Иосиф Виссарионович ни разу даже не закурил свою трубку! А в конце спектакля он сказал присутствующим в правительственной ложе: «Этат цволач одной своей паузой может сказать больше, чем товарищ Молотов за один час своей речи. Ва!».
– А где же его родители?
– В 41-м они отказались эвакуироваться на Свердловскую киностудию. Остались в своём любимом городе белых ночей. Они отказались получать паёк в спецмагазине. Хотели быть не только плоть от плоти, но и единым целым с Питером.
Получали паёк – 125 граммов на сутки, в котором хлеба было 50 грамм, а остальное – добавки-обманки и вода…
Читали монологи на Ленинградском радио. До февраля.
В конце месяца в их квартиру вломились, удавили обоих и вырезали ягодицы для холодца на чёрном рынке.
Все знали это из чего, не знали из кого и – покупали.
Зима 41-42-го была самой трудной я вам таки скажу…
* * *

Комплектующая #30: Излияние Недоумения
Коридор за дверью из комнатки жил довольно шумно. С самого утра женские голоса кричали наставления уходящим на работу голосам мужским, кратко недовольным, вперемешку с детскими плачами, визгами, заливистым смехом.
Женские воспитывали расшалившийся дурдом, пререкались между собой, переходили в скандалы на тему прошлых обид и неправильного поведения оппонентки в былых ситуациях.
И только окрик Мадам Фимы мог угасить склоку или когда в коридоре начинало звучать громкое пение фальшивящего певца:
Мы конница Будённого и про нас…
Юле вспоминалось слово Константина «гнидючник» и, глядя за окно на громадную воронку во дворе, она думала – уж не эту ли имел он ввиду?
Трёхразовое питание из кухни приносил Иван: два стакана чая с сахарином и столько же очень тонко нарезанных кусочков хлеба утром и вечером, в обед каша из крупяных концентратов на воде…
Срок путёвки Совнаркома истекал через один день, саквояжей больше не было. Юля постоянно думала как выжить двум беспаспортным беглецам, но не находила ответа…
Относя вечерние стаканы и блюдце из-под хлеба на кухню, Иван увидел, что там на удивление пусто, если не считать мужика в недельной щетине на обритой голове, который сидел за столом без примусов перед бутылкой водки и краюхой тёмного хлеба.
Внимательно и молча проследив движения Ивана ставящего посуду рядом с керогазом, как наказывала Фима, мужик спросил:
– С какого рода войск, служивый?
– Танкист, – неохотно соврал Иван.
– Ац-тавить баки забивать старшему по званию! Правду говори, пехота! Иди-ка тут вон сядь.
Оглаушенный словом своего взводного, Иван послушно сел на табурет напротив незнакомца и, то поднимая глаза к прямому взгляду незнакомца, то упирая их в доски стола, признался, что он дошёл только почти до Харькова.
Тут бритоголовый присвистнул и пробормотал: «Барвенковский выступ. Стратеги мать вашу!» – и послал Ивана взять один из только что принесённых стаканов, потому что у него самого была чайная чашка.
Иван исполнил и спросил про имя собеседника.
– Аника Горохович. Ты дальше давай рассказывай.
Он налил им обоим водки, разломил хлеб надвое, а когда выпили, понюхал свою половинку и положил обратно.
Иван рассказал про лагерь в Штутгарте, про ящик, про сельхозработы в Эльзасе.
Всё рассказал он без утайки до самого «шевроле», с которого начался его путь возвращения на родину.
– Тут у тебя неувязочка, Иван, таких как ты и всех нюхнувших жизнь за пределами революционных преобразований без пересадок гонят строить светлое будущее в Заполярье. А ты тут водку пьёшь и туфту мне гонишь.
Иван опустил голову и сделал чистосердечное признание про побег с острова Котлин.
Аника Горохович задумался, а когда на кухню заглянула Мадам Фима, сказал:
– Фима Вениаминовна, а покличьте нам сюда Самуила Яковлевича на консилиум, пожалуйста.
– Сейчас, Антон Григорьевич.
На кухне появился недостаточно выбритый пожилой человек в очках с толстыми стёклами.
Антон Григорьевич пригласил его на третий табурет, но ничего не налил по причине пустоты в бутылке и сообщил о необходимости обеспечить пару молодых людей бумагами для безболезненного проживания в стране победившего бюрократизма.
– Зная ваш талант живописца, Самуил Яковлевич, о качестве произведения сомнений быть не может.
– Спасибо вам Антон Григорьевич, стараюсь по мере сил, однако возникает вопрос смежников, тут нужен не простой холст, а с водяными знаками, опять же таки палитра, обработка для придания сепии нужной градации, всё это требует затрат…
Иван понял, что нужны деньги, которых у него нет, но есть котиковое манто из Бреста, его подарок Юле, она должна понять…
– Щас, – сказал Иван, – щас приду, вы подождите. – И он ушёл в номер-камеру.
Вернулся он не сразу, сел обратно и положил кулак на стол, а когда раскрыл, на широкой мужицкой ладони лежало нежное кольцо с небольшим камушком, которое тупой ублюдок Отто когда-то обронил в спаленке Юли с колокольчиками на стене.
Очки Самуила Яковлевича взблеснули и вскинулись на лоб поверх густых бровей, довольно седоватых. Он стиснул веки с крайней напряжённостью и проговорил:
– Не может быть! Позвольте…
Пальцы, с каёмкой «траура по кошке» под ногтями, чётко сняли украшение с ладони:
– Так я вам так скажу, что эта вещь дороже… и намного.
– Если вас не затруднит, займитесь обращением товара в деньги, я знаю, что моего сослуживца вы не обидите… на исполнение шедевра пары дней достаточно?
– Вполне конечно да таки.
– Вот и чудесно, объявляю обсуждение закрытым.
Склонившись вбок, он катнул из-под стола тележку на четырёх колёсиках, остановил и сноровисто опустился в неё своим укорочённым телом без ног. Подбородок бритой головы оказался вровень со столешницей.
Толкая кулаками пол, он покатил мимо вставших в полный рост Ивана с Самуилом в конец коридора, распевая громко и фальшиво:
Мы конница Будённого и про нас
Былинники речистые ведут рассказ…
Через два дня Иван и Юля сходили в ЗАГС Васильевского острова (типа полевого испытания изделию Самуила Яковлевича, который в порыве вдохновения успел сотворить целый вернисаж: военный билет рядового Жилина уволенного в запас подчистую по случаю тяжёлой контузии в Битве за Берлин, а также диплом учительницы Немецкого языка для Юли).
В ЗАГС они брали только паспорта и получили там в них дополнительные штампы о наличии законного спутника жизни.
Конец пятиминутной церемонии был омрачён появлением двух человек в штатском. Они сказали женщине с печальными глазами, что только что зарегистрировала их брак и убирала резиновый штамп в жестяную коробочку:
– Гражданка Панкратьева? Пройдёмте с нами.
Ивану фамилия показалась знакомой, где-то он её слышал, но где?
А Юля просто переживала прилив страха, но увели одну лишь регистраторшу, без них.
В «гадючнике» им подсказали адрес Бюро по Трудоустройству и через день они отбыли с Московского вокзала в Центральную Азию поездом «Ленинград-Ташкент», куда завербовались на работу как фронтовик с молодой женой, которая его всё же дождалась…
За окном поплыл перрон вокзала и посреди суетной толпы уцелевших в Бойне № 2, поверх общей мельтешни голов, Иван увидел слишком свежую, невероятно незатасканную будёновку – ведь с Финской больше шести лет прошло. Лица он различить не смог.
Стоял тот неподвижно, а вокруг спешили выжившие в войне, которую впоследствии назовут ВОВ или WWII, для краткости, нам же всегда некогда – что было, то сплыло и хорошо, что худшее позади. Нам некогда понять невозможность этой грёзы, понять, что бойня с нами навсегда и радуйся пока она не докатилась до твоей деревни, эта бойня, что перманентно меняет свои формы и номера.
Уж такова наша природа – ставить меты и вехи, хоть как-то показать – строкой в книжке ветерана, наскальным рисунком на стене пещеры, гурием на вершине, куда взбрёл едва живым от усталости. Хоть чем-то доказать, что и мы тоже жили-были и тем продлить себя во времени, куда нам не войти, но этой вот отметинкой пережить самого себя же…
Зачем? Для бойни со следующим номером?
А всё же хочется, знаю – сам такой, хоть и осознаю – для правильной оценки подобного уклона мне даже слов не подобрать кроме как: "оно конешно, но весьма и очень таки шо ж, а если вдуматься поглубже то, в определённой мере, даже и однако…"
* * *

Комплектующая #31: Усложнение Покаяния
Нет, хоть убей, не может, не в силах Дмитро Иваныч вспомнить как открывал он в ту ночь дверь. И открывал ли вообще. В ту проклятую ночь.
Хотя, конечно, ночь не виновата и обвинена облыжно, напраслину на неё возвели, чернуху подшили и нечем ей теперь отмыться, поскольку и сам Дмитро Иваныч совсем уж не упомнит, наотрез – как он открыл тогда эту грёбаную дверь и вообще он ли.
Да, в ту ночь он был в отрубе, в хлам—тут нечем крыть—и по пути к себе на пятый его швыряло от перил марша и до стены и волокло, с противным писком, вдоль слоя её зелёной краски.
Но он не падал. Нет. Ну может пару раз руками ухватился за ступеньки. Чисто для равновесия. Чтоб удержать.
Да, возможно он что-то говорил при этом, не исключено.
Ну ладно! Ладно! Не говорил, а мыкал, как последнее быдло: «…а ы иня пыл дпы!»
Потому что и Старший Преп хочет хоть иногда почувствовать себя человеком. По полной. А кандидат наук тем более. Хотя нет, тогда он не успел ещё защититься…
А когда дверь квартиры всплыла перед ним, он её опознал, хотя та выглядела пополневшей. Ну полный круг, короче. Но дверь – хоть, почему-то, круглая, но дверь – точно его.
Он постоял, уронив голову на грудь, упёрши взгляд в коврик перед дверью, а руку в её косяк, тяжко выдыхая. Хотел было сплюнуть, но слюна кончилась ещё вместе со всем тем, что выблевал не доходя до дому.
И как раз именно тогда он начал нашаривать свой ключ. И это уже легко, он у него в правом. Зимой и летом ключ у него в правом, постоянно.
И он точно помнит, как он смотрел на него, на ключ, типа через мушку, когда целился на вертикальную прорезь ключной скважины английского замка.
Прицел он делал одним глазом, но скважина плавала даже в одиночку, несмотря на это, вопреки тщательной наводке на.
Он защипнул её между двух пальцев левой и между ними же сунул ключ, а дальше – провал…
Дальше было уже утро после той проклятой ночи. Утро и расколотый похмельем череп, и он на диване, не в силах продрать глаз.
Нет, ботинок на нём не было, да. И в этом его большой плюс. Как это выяснилось в дальнейшем.
Когда он вспоминал, что на диване, да, но без ботинок, нет. И в этом плюс. Впоследствии…
А начиналось всё вполне рутинно и пристойно скучным выпивоном на собрании преподавательского состава языковых кафедр института, чтобы почествовать бывшего студента филфака, а ныне молодого многообещающего прозаика, что натрудил уже две тощих книжки на Украинской мове.
И есть за что! Теперь во всех последующих трудах, в предисловии, будет помянут вуз, откуда он выпускался.
Так пожелаем же ж, чтоб не последняя! Как говорится: щоби їлось і пилось, і хотілось, і моглось! Дорогие товарищи!
Виновник торжества сидел за центральным столом бок о бок с лаборанткой лингафонного кабинета Англофака, с Ларисой—ох, ещё та хвойда!—которой он, с тонкой усмешечкой, комментировал на ушко очередных выступающих. Потом заглавная парочка повернулись лицом к лицу, друг другу покивали и – Лариса пошла на выход на цокающих шпильках-каблуках, унося взгляды препсостава на своих округлых буферах. Завистливые взгляды или слюноглотательные, в зависимости от пола взглядоиспукателя.
Нет, Дмитро Иваныч никак не ожидал, что свежая знаменитость на поприще литературы подойдёт к его столу и, конфедициально пригнувшись, пригласит продолжить вечер без всего этого мудозвонства. Они с Ларисой подождут на лавочках под ивами возле Нового Корпуса.
Ну и что греха таить – взыграло у Дмитра Иваныча ретивое, раскатал губу: а ну как звякнет Лариса какой-нито своей подружке, пригласит в свою двухкомнатную на литературно-познавательную вечеринку.
Хотя и разумел при этом всю политическую выверенность хода начинающего Украинского прозаика – близкое общение с заподозренным в Украинском национализме СП расширяет горизонты в Советских, но Украинских издательствах.
Он высидел ещё сколько нужно, чтоб замести след и отвести подозрения. Парочка под ивами его дождалась.
Последовал краткий, но интенсивный визит в самый шикарный ресторан «Чайка», рядом с памятником Ленина, и двухкомнатная Ларисы, которая кому-то звонила, но что-то там не склеилось и они просто пили.
Лариса тупо хохотала, потом его придавило и после очередной рюмки он двинулся домой.
– Не, не, како таксс, не на…
И вот имеем то, что имеем – нераздвинутый диван, пустыню Кара-Кум во рту, Марианскую Трещину на всю голову…
Спал одетым, хорошо хоть пиджак догадался скинуть, и хорошо, что Антонина Васильна не дома, проведывает сестру в селе. И повезло, что Виктор на республиканских соревнованиях по пулевой стрельбе, ни к чему ему видеть отца во вчерашнем его состоянии…
Он истомлённым голосом позвал дочь:
– Зина!.
Нет ответа.
– Зина!
А в ответ тишина…
Со стонами, Дмитро Иваныч поднялся, привёл в порядок расхрыстанную одежду, обошёл остальные две комнаты, кухню и туалет с ванной. Нет, он в квартире один…
С того утра, дочь больше с ним не говорила. Никогда.
От Антонины Васильны сплошная отчуждённость, корректно-официальный протокол. Сын тоже косоротится, и тоже молча. Трещина поглубже знаменитого каньона прошла через семью…
Дмитро Иваныч не дурак, чтоб не сложить два и два – вычеркнутую из памяти ночь и атмосферу в доме. Но он не помнит ничего такого! Последним ключ был нацеленный на щель замка и – всё!
Ну хорошо, допустим было. Хотя это ещё неизвестно… но допустим. Ну и что? Самая естественная вещь в живой природе.
Или всё тот же Джойс с дочкой своей, 16-летней, в Париже.
Потом два десятка лет писал он свой второй роман, те его «Поминки…», в которые до сих пор никто врубиться не может. Ну так, кусочек отсюда, кусочек оттуда кто-то может предложить интерпретацию, но в целом – нет.
Да и кусочки те можно и так истолковать и эдак. Сюжета и близко нет, но некоторые абзацы хватают аж за щитовидку, а остальные там пассажи – откуда, куда, на каком языке?
Выйти на площадь и растерзать на груди свою рубаху: «Ой, грешен я, люди добрые!» так любой дурак сумеет.
Нет, ты попробуй выложи всё, с мельчайшими подробностями – как, куда, в каких обстоятельствах, но останься при этом недоказуемо неуличим… Вот где виртуозность требуется. Ну и время конечно.
Двадцать лет шифровал свою исповедь всему миру, что спал с дочерью. В конце там страниц пять чуть ли не прямым текстом. Правда, от её лица и через ощущения её вагины…
Все они такие – сама к Джиму в постель залезла, пока мама в отъезде, а потом ему ещё и мстит – чокнулась. Пришлось держать в психушке девушку. Но ведь же и оттуда заставила вступить родителей в законный брак.
Каково ему было, после стольких лет свободного сожительства с нерасписанной супругой, подписывать бумажки, в которых не видел смысла. Прямой шантаж.
Тупо надеялся, что психозы доченьку попустят, да не тут-то было, пришлось держать резвушку взаперти до самого конца. Однако папу с маменькой заставила плясать под свою дудку, отправила под венец, подчинила своей сдвинутой воле.
А сдвинулась на том, что папу чересчур хотела, но маму некуда девать – вот и весь сыр-бор…
И кроме того Дмитро Иваныч доподлинно знает, что изнасиловать их невозможно. Проверялось на личном опыте.
Это ещё тогда, на курсах переквалификации с Украинского на Английский.
Одна там была, как её, Оксана что ли? Сама затеяла с ним спор, что без согласия мужик не сможет вставить, покуда сама женщина не пойдёт навстречу.
Поспорили. Детали обсудили – игра по честному, без болевых приёмов. Разделись оба, легли на койку. Часа два он прилаживался и так, и так – чёрта с два! Выкручивается сучка и все дела.
Отсюда вывод – они неодолимы, а изнасилования только через мордобой…
Так после той ночи он к Зинаиде пару дней присматривался – нет синяков! И стало быть не бил он, а если было что, значит хотела и дала.
А он теперь виноват? Иль виноват уж тем, что ничего не помнит?
Ну ладно, хватит, вот сейчас он выйдет и пойдёт в хлебный. Там есть одна чернявая, если сегодня её смена, вот где женщина – в глаза посмотрит и вскипаешь. Лет за тридцать, с опытом про жизнь.
Нет они ни разу не перекинулись и словом, но эта мимика её лица.
Ухх!.
* * *

Комплектующая #32: Откровение Сожаления
В одном из самых западных углов Германии стоят капища Треглаву и Семивиду (Triglav, Semivid).
Давно стоят, ещё с тех пор как Римляне ходили покорять племена Германцев.
Кому же посвящались те капища поганские?
Так из имён всё как на ладони –
1) божеству с тремя головами, и
2) божеству с семью лицами,
поскольку не скупился люд до Рождества Христова, и божеств одаряли с избытком.
Что за люд такой щедрый? Из имён божеств неопровержимо выводится – Славяне, кому ж ещё быть?
Да, но как могли Германцы через земли свои Германские в самый (почти что) от Славян свой край удалённый, пропускать их и позволить веру насаждать чужеродную капищами не-Германскими?
Возможно, ради обмена натурального товарами и услугами?
За туры, например, взаимообразно туристические, чтоб могли плескаться Германцы своими совместно нудистскими купаниями в исконно Славянских водах Вислы с Эльбой (она же Лаба)? О чём историки Римские откровенно описывают.
Пойди разбери, давно это было.
Нет, ну можно б конечно, гипотезу выдвинуть, что Славяне в ту пору составляли с Германцами один общий народ из разных племён и родов, но кому оно нада?
Вот и пришлось Германцам-Славянам брататься заново на ничейной земле Восточного фронта перепаханной снарядами Первой Мировой.
Война она кому мачеха, а кому и мать родная. Хотя бы тем, кто не успели перебить друг друга без остатка.
И, коли от души постараться, в чём угодно выкопаешь светлую сторону хотя бы даже в той Спецоперации, которая от слова “война” своей первой буквой намного отличается.
Но у нас так уж заведено, издавна, сверху сказано поменять и – поменяем.
Вот и тянется она, в которой мои внучатые племянники стреляют по моим внучатым племянникам на том основании, что призывались они военкоматами с разной орфографией на вывесках у двери.
И дочь моя прекратила со мной в Интернете общаться, поскольку не проявляю достаточной ненависти к стороне, что бомбила город, где живёт она и муж, и дети их же…
Киев бомбили
Нам объявили,
Что началася…
Нет, не объявляли, всё так же держат под именем СпОп, как когда-то ЗК. Зимняя Кампания – смахивает на спортивные сборы или другое, но тоже спортивное мероприятие, пока оттуда похоронка не придёт.
Ну а как у меня с пацанами теми (с обеих сторон)?
Ну а для пацанов с обеих сторон я, конечно же, подлый изменник.
Мне оно надо такое? Нет. А кому надо? ВПК оно надо.
Три буквы, что в любой державе имеются и вселяют опаску своей обкатанной неприступностью, всеохватной необходимостью, повсеместным на них равнением и почтением к ним же.
Всё сверяется с интересами трёх этих буков: от азбук детсадовских и до тончайших приборов на орбиту в целях модернизации с оптимизацией забрасываемых.
Как-то не сразу доходит заглянуть – а что же за ними?
Ну заглянул и – что там? Те же люди. Такие же как и я. Попадаются даже тупее меня (крайне изредка). А кой с кем в шахматы лучше и не садиться.
И я бы тоже мог быть одним из них, но не срослось как-то и то, что для них Спецоперация, для меня уже 3-я Мировая, хотя началась она в другом году 13 ноября, 10:13 в четвёртом часовом поясе от Гринвичского меридиана…
Двое моих учеников погибли в ней, третий ранен. Мои дети остались живы, к добру иль худу то уж их детям решать, но без меня – увольте…
То есть нет нашей вины, что кого-то радует прибавление нулей к нулям в списках, отчётах и сальдо-бульдах, а мой удел печаловаться за них счастливых. Каждый идёт путём ему предначертанным.
Я, например (извини ВПКовский брат – начинаю с чего попроще по причине привычности), являюсь маргинальным сыном калифорнийских детей цветов, хотя родился раньше их.
Ну а живу по завету песни Битлз (они родились раньше):
All we are saying is to give to peace chance.
Вот так и живу, рву на себе жилы, чтобы успеть, чтоб дать ему шанс ещё на день продлиться.
Ссу против ветра? Правда ваша, так я ж и не спорю.
Что? Шизофреник? Так а кто бы сомневался! Однако с параноиками попрошу не путать…
У нас к ним разговор особый, мы их мочили и мочить будем, где только подвернутся. А хоть и в Белом Доме с Гранатовитой Палатой.
Таков обычай наш ещё с той недостройки в Древнем Вавилоне.
Ведь говорилось же им: круглее нужен базис, округлее! А они? Авось ничё! Эвон в Египте-то пирамиды-то, каку ни взять, призматичные!
А в результате? Где та Башня? Вавилон где!?
И снова грустно стало, словно бы услышал как потомки Германцев рассуждают о загадочности Славянкой души или если вспомню, что братьям Славянам невдомёк как исконно Славянское слово “люди” на Германском звучало и было – “liuti”, всего 150 лет тому, пока Немецкую орфографию не поменяли, но и сегодня ещё угадывается “leute”…
Значит все мы – одна кровь, все – Иваны не помнящие родства.
Ну так пусть оно всё катится после этого! Не хочу никаких Гималаев!
Отпустите меня в Новую Гвинею Папуа! Брателю обниму сваво рОднава! А потом – будь что будет, а хоть даже и съест, по-братски.
Да знаю сам…
Давно и прекрасно осознаю, что о пустом болтаю, но что-то ж надо говорить, чтобы умирая, смог сказать: “Я миру шанс давал до самого конца, до донца…”
Жаль – буквы на исходе…
* * *

Комплектующая #33: Исчадие Угасания
Мозговращательный спуск по лестничным маршам перешёл в горизонтальную плоскость между нижней ступенькой и дверью подъезда в позиции «закрыто» посредством длинной ржавой пружины присобаченной толстыми гвоздями с двух концов – под дверную ручку и в дверной косяк. Преодоление финального отрезка усложнялось непредвиденным препятствием: плюгавый бомж ловил единоличный кайф выжёвывая плавленый сырок из наскоро облупленной фольги в сопровождении прихлёбов плодово-ягодной «бормотухи» (бутылка тёмного стекла ёмкостью 0.5 л, розничная цена товара 1 руб. 28 коп.) Оргия входила в свою завершающую стадию: «остатки – сладки».
Гурманоид выколупнул из фольги последний уголок брикета, засунул себе в жерло, жуя по-кроличьи шустро и мелко, бумажку же отбросил в угол входного тамбура.
Затем он запрокинул пасть и засадил осадок со дна бутылки. Осушенная тара была также послана в угол—без проявлений вандализма, впрочем—катнута бережно прозвякать по частыми выбоинами в местах отсутствия квадратиков половой плитки.
Краткий пробег сопроводился затяжной отрыжкой из бомжа—на то она и «бормотуха»—однако без наполнения подъе́здной атмосферы смрадом винища, и даже запах устоявшейся мочи не исходил от несменяемой одежды маргинала.
Дмитро Иваныч решил, что хватит уже выказывать интеллигентную миндальность и молча двинулся на выход.
Когда он поравнялся с бомжом, тот удивлённо оглянулся к ступенькам лестницы, ещё раз отрыгнул и, с бесповоротным шагом сквозь Дмитра Иваныча, налёг на взвывшую пружиной дверь, которая хлопнула вслед ему, вышедшему в загустелый снаружи вечер.
Дмитра Иваныча охватили страх и безумное отчаяние.
Он вспомнил вдруг, что Антонина Васильна за хлебом его не посылала, да и не могла послать из дальних далей в полтора года, где лежала безучастной покойницей в гробу и, значит, дверь на лестничной площадке пятого этажа захлопнута, а он тут без ключа и как теперь ему зайти обратно?
Безвыходность навалившейся неразрешимости его буквально подкосила и он вдруг рухнул в угол, утонув затылком сквозь зелень тёмного стекла бутылки до ошмётков сморщенной фольги под нею.
Лёжа в углу (отчасти внутри тары) он краем глаза уставился в отпечаток плитки сто лет как выбитой из цементного раствора застывшего под ней и выброшенной неизвестно кем, когда, куда…
– – – – -
– Да, Виктор Дмитриевич, сосед по лестничной площадке, одинокий пенсионер Сидорчук, токарь-ветеран оборонного завода «Прогресс», забил тревогу на третий день. Была отправлена группа усиленная слесарем Петрищенко, который и открыл дверь без следов взлома извне. Сотрудники и двое понятых обнаружили тело в гостиной комнате, на полу, рядом со стремянкой у стены напротив балкона. Следов насилия не выявлено, кардиостимулятор в нагрудном кармане работал. Все протоколы и снимке в этой папке.
– Благодарю, майор.
Майор КГ… Национальной Безопасности Украины с деликатной бесшумностью покинул свой кабинет.
Прилетевший из Москвы сын покойного сел за чужой стол, на чужое кресло, возложил руки на жёлтую столешницу вокруг папки тёмно-серого жёсткого пластика.
Правая кисть вскоре поднялась схватиться большим и указательным пальцами за нос, словно чтоб высморкаться или предотвратить чих защекотавшийся внутри. Чуть подержавшись, пальцы медленно вскользнули дальше, до нисходящей к ним переносицы, где и замерли.
Левая ладонь отъехала в сторону от папки и заторможено пробарабанила галоп, пару скачков по полировке, затем приподняла обложку. Открылся никелированный взблеск пружинного скрепа, что защемил не слишком ровную кипу бумаг разного возраста, одинакового, почти, размера, и пластик был отпущен упасть обратно.
Рука покинула стол и навестила левый карман пиджака за непочатой пачкой сигарет с фильтром.
Виктор Дмитриевич не курил уже много лет, но сегодня по пути с аэродрома военного-лётного училища, куда приземлился доставивший его борт, зачем-то послал адъютанта (в штатском) в супермаркет, которого не помнит, на улице Красных Партизан.
Тот вернулся бегом с пачкой «Президент» и незаказанной зажигалкой.
Теперь вот зачем-то пригодилась.
В бесшумно растворившуюся дверь шагнула хорошо ухоженная женщина-секретарша, чужая, в возрасте «ягодки опять», мягко всколыхивая глубокую ложбинку бюста в смелом распахе белоснежной блузки.