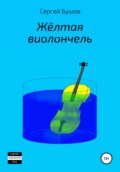Сергей Бушов
Лось и лосось. Фантастические истории
6
Конечно, я мог снять очки и полететь спасать тех несчастных, как ни в чём не бывало. Но это напоминало борьбу с ветряными мельницами. Очки Захара показали мне другой мир, который нужно было вернуть к жизни.
Вспышка, которая изуродовала ночью эту Землю, должна была иметь свой источник. И я был практически уверен, что источником был человек. Или орудие рук человеческих.
Я стоял на балконе и размышлял о том, куда лететь. Надевал очки. Снимал. Осматривал окрестности. Где бы я сам спрятался, если бы хотел устроить этот балаган? Скорее всего, где-то высоко. Недосягаемо для людей, копающихся в грязи. Ещё – это место должно существовать и в реальности, и во вновь созданном мире. И быть скрытым.
Я снял очки. На том месте, где только что стояла Останкинская башня, в районе ресторана «Седьмое небо», парила крошечная коричневая точка. У меня не было никаких веских оснований считать, что именно её я ищу. Но чутьё тянуло меня туда. И я снова шагнул с балкона.
Я летел вперёд, глядя то сквозь очки, то поверх них. Пару раз пришлось передохнуть, но, наконец, я приблизился к башне. Однако тут мне вдруг стало страшно.
Во-первых, я никогда не летал так высоко. Во-вторых, теперь, когда я видел оба мира одновременно – один с башней, а другой без – я не очень был уверен в реальности самого её существования. Да, я видел башню сквозь очки, но насколько им можно верить?
Я долго стоял на камне возле основания башни, раздумывая, стоит ли мне, надев очки, подняться по лестнице вверх или, сняв их, взлететь. Наконец я решился. Убрал очки в карман и стал плавно, экономя силы, набирать высоту.
Целью моего пути была небольшая ржавая кабина, зависшая в пространстве надо мной, что-то типа строительного вагончика. На вид от поверхности до неё было метров триста или чуть больше. Казалось бы, мелочь. Но ветер набрасывался так яростно, а земля казалась такой далёкой, что на середине подъёма у меня кончились силы. Я понял, что сейчас упаду.
Я выхватил из кармана очки и надел их. В ту же секунду я оказался в темноте и чуть не рухнул вниз, едва успев зацепиться руками за кривую железяку – кажется, погнутые перила. Подтянувшись, я вылез на мокрую холодную бетонную ступень. Пошёл вверх наощупь. Уткнулся в стену.
У меня вдруг возникли сомнения в том, а действительно ли я нахожусь в Останкинской башне. Я видел её только снаружи и совершенно не представлял себе, что кроется за её стенами. Я сел на ступень и прислушался.
Где-то капала вода. Внизу семенили мелкие ножки – возможно, крысиные. Вдалеке стрекотал электромотор. И тут совсем близко, в паре метров от меня, послышалось злобное сопение крупного зверя.
Я сорвал очки и еле удержался в воздухе. Собрал последние силы и рванулся вверх, сквозь ветер.
Через пару секунд я уже стоял на пороге причудливого ржавого вагончика, на высоте трёхсот метров, и держался за ручку двери. Вагончик чуть раскачивался в пространстве, а я тяжело дышал, прислонившись к двери лбом, и не решался войти. Потом повернул ручку и шагнул вперёд, в темноту.
В тот же миг мои запястья и икры оплели металлические толстые ленты, меня дёрнуло, швырнуло, и я оказался распятым на стене с помощью четырёх толстых металлических цепей.
Передо мной стояла сгорбленная старуха отвратительнейшего вида – крючковатый нос с бородавкой, ввалившийся рот, близко посаженные чёрные глаза. На голове было повязано несколько засаленных платков. Опиралась старуха на кривую чёрную палку, которой тут же замахнулась и огрела меня по носу:
– Ну что? Попался, голубчик?
Её скрипучий голос эхом отозвался во всех углах помещения, оказавшегося изнутри неожиданно большим.
Из моего носа побежала кровь.
– Здорово, мелюзга, – донеслось из темноты.
И я увидел, как ко мне приближается ещё более похудевший и бледный Коля Письменный.
7
– Колян? Так это ты? – спросил я, пытаясь высвободить руки.
– А то кто? – Письменный ухмыльнулся, и в его рту что-то блеснуло. – А ты думал, глюки у тебя, да? Я тебя помню. Тебя Кирилл зовут, мы с тобой бомбочку взрывали.
– Сам виноват, – выпалил я. – Надо было шнур поджигать, а не в бомбу огнём тыкать!
– Да я не в обиде, – осклабился Колян. – Ну, контузило, правда, ну, в дурке три года пролежал, но зато теперь я – видишь – сверхчеловек!
– Чего? – возмутился я. – Это я сверхчеловек!
– Ага, – кивнул он, – Свежепойманный. Бабка, готовь обед!
– Сейчас, милок, сейчас… – откликнулся мерзкий голос из дальнего угла.
– Кто она такая? – спросил я.
– Как кто? – удивился Письменный. – Баба-Яга.
– Какая ещё Баба-Яга? Ты что, совсем умом тронулся?
Колян посуровел и подошёл вплотную ко мне, хищно шевеля ноздрями и сжав губы в плотную тугую линию.
– Мой ум, – процедил он, – это не твоего ума дело. Мой мир – мои правила. Кого хочу, того и придумываю. Хочу – в грязи всех утоплю, хочу – саранчу нашлю с железными крыльями. Никто мне не указ.
– Да ведь это мираж всё! Иллюзия!
– Что иллюзия? – спросил Колян. – Грязь иллюзия? Или Москва твоя теперь иллюзия? Да мне плевать, какие там у тебя в голове иллюзии. Важно, что вот тут, – и он постучал себя по лбу. Отозвалось металлом.
– Как ты это делаешь? – спросил я.
– А зубик у меня есть специальный. На, посмотри, – Колян придвинулся ко мне и оттянул пальцем верхнюю губу. Один из клыков блестел золотом и был украшен изображением орла.
– Да ты возьми у меня из кармана очки, – взмолился я. – Посмотри. Увидишь, как всё выглядит на самом деле.
– Нет уж, – ответил Колян. – Сам увидишь. Бабка! Ну, где ты там?
– Да иду я, иду… – Баба-Яга появилась из сумрака, держа в руках огромный тесак и необычный инструмент с вращающейся дисковой пилой на конце. – Мне тоже давно уж человечинки хочется.
– Вы чего?! – испугался я. – Колян! Чего она?
– Иллюзия, говоришь? – усмехнулся он. – Ну-ну.
Бабка с размаху вонзила вертящийся диск мне в грудь, и я почувствовал такую боль, какую не испытывал ни разу в жизни. Я видел и физически ощущал, как крошатся мои ребра, и пила вгрызается все глубже в мясо, забрызгивая рубашку, пол и лицо Яги багровыми каплями.
Кажется, я кричал. Мой мозг был настолько заполнен болью, что я с трудом осознавал, что вижу и слышу вокруг. Мне показалось на миг, что вокруг пляшут огненные черти, потом перед глазами мелькнул тяжёлый чугунный поезд с оглушительным противным гудком, потом я ощутил себя в мокрой холодной постели, перепуганный диким ночным завыванием отца…
Очнулся я от того, что из моей развороченной груди выдирали сердце. Боль, как ни странно, приутихла, а может, я просто к ней привык.
– Устала я, – сказала бабка, взвешивая сердце на руке. – Вечером сготовлю.
Она приблизилась к старенькому белому холодильнику, открыла верхнюю дверцу и сунула сердце туда.
Я безвольно обвис на цепях, ощущая, как мощной струей бежит из меня кровь, и не понимал, почему не умираю. Должно быть, надо надеть очки… Вот они – слава Богу, в правом, нетронутом кармане рубашки, и, если бы руки не были скованы…
А что было бы тогда? Если бы я одел очки, я что – очнулся бы мёртвым? В моей голове все перемешалось, и сознание плыло. Помещение, в котором мы находились – разве это маленький вагончик?
– Ну как тебе, Кирилл? – спросил Письменный, приближаясь снова.
– Зачем тебе всё это? – спросил я. – Ну, ладно, хозяин мира – это круто, да. Но меня-то зачем мучить? Людей зачем в грязи топить?
– Ничего ты не понял, – ответил Колян. – Ты сам себя мучаешь. И люди сами себя в грязи топят. И еще Бог знает что они такое придумают. А у меня в голове полный порядок!
О мои ноги потерлось мокрое лохматое существо.
– Что это? – пробормотал я.
– Не бойся, это Ёшкин кот. Он добрый. Только взглядом убить может, так что лучше не смотри.
Я послушно поднял глаза к потолку.
– Отпусти меня, а? – попросил я. – Меня там люди ждут.
– Съедим – отпустим, – спокойно согласился Колян. – Мы не жадные.
– Хоть чайничек поставить, – проскрипела старуха, проковыляв мимо меня с пластмассовым электрическим чайником в руках. Она водрузила его на колченогий столик и попыталась воткнуть вилку в розетку. Однако вилка проваливалась сквозь стену, как в пустоту.
– Это ты, что ли, фокусничаешь, чёрт беззубый? – прошипела она, оборотившись к Письменному. Тот стоял и в голос хохотал, держась за свой тощий живот.
– Задолбал ты меня со своими иллюзиями! – заорала она, и обрушила на Письменного клюку.
Тот рухнул навзничь, изо рта выскочило что-то блестящее, а губы окрасились кровью.
В тот же миг пространство вспыхнуло ярким малиновым цветом, и я понял, что падаю на пол, освобожденный от цепей.
Я вскочил, осмотрелся. Бабы-Яги не было видно. Колян катался по полу, схватившись за рот.
– Дура! – Кричал он. – Вот дура-то! Такую иллюзию испортила!
Он встал на четвереньки и пополз вперёд, шаря по полу рукой.
– Колян, – попросил я. – Не надо…
– Нетушки, – сказал он, гордо поднимая над головой подобранный окровавленный зуб. – Ещё на одну иллюзию хватит.
Он открыл рот и приложил зубик к десне. В ту же секунду Колян исчез, словно его и не было. Я снова остался один.
Пошатываясь, я подошел к холодильнику. Извлек из морозилки обжигающе холодное сердце. Как мог, запихал в грудь. Подошёл к двери вагончика и открыл её.
За дверью находилась большая остеклённая площадка, а внизу раскинулась Москва. Прищурившись, я увидел, как по улочкам ездят машины. Значит, всё было в порядке…
С другой стороны, у меня в груди болталось заледеневшее сердце, а за спиной находилась ржавая дверь, которой на Останкинской башне наверняка никогда не существовало.
Я надел очки. Ничего не изменилось. Снял. То же самое. И куда делся Письменный? Если я сквозь очки действительно вижу реальность, то и его видеть должен.
В том-то и дело, что «если»… И тут я всё понял. Ну, или мне показалось, что всё.
8
То, что зубик создавал иллюзию, не означало, что все остальное иллюзией не являлось. Видимо, это мне и пытался объяснить Колян. А раз так, иллюзий могло существовать бесконечно много, и вообще не ясно, существовала ли на самом деле реальность.
И очки, будучи частью иллюзии, ничего мне дать не могли. Я видел только то, что сам хотел видеть. Очки были лишь символом из детства, который помог мне представить, будто я вижу мир по-другому.
Значит, я и без очков могу увидеть любую иллюзию, какую захочу.
Я сосредоточился и всмотрелся в открывшийся передо мной вид. Москва в моих глазах словно бы расслоилась на миллионы пространств. Я видел сразу все миры, пытаясь отыскать в них Колю Письменного. Десять реальностей вниз. Сто реальностей вверх. Ничего. Не мог я его найти.
Зато мой взгляд вдруг наткнулся – в одной из бесконечного множества реальностей – на дубовую дверь с золочёной табличкой «Довжук З.И. Зубной техник».
Мне надо было туда попасть. Но как? Лететь? К чему? Ведь и сам полёт – всего лишь иллюзия. Я сделал мысленное усилие и переместился прямо к той двери. Открыл её.
В кабинете никого не было. Зубоврачебное кресло. Пробирки, реторты. Причудливые аппараты с помигивающими лампами. Стол. На столе лежала пластинка, над которой порхал в воздухе вращающийся цилиндр.
Я вышел из кабинета и спустился по лестнице ко входу. Должно быть, клиника была приличной – место обычной регистратуры занимало то, что обычно называется непереводимым на нормальный русский язык словом reception. За стойкой сидела молодая худенькая девушка в белом халате.
– Простите, – сказал я. – А Захар Довжук здесь работает?
Девушка подняла на меня глаза.
– Нет никакого Довжука, – произнесла она со странной, нездоровой интонацией.
– Но у вас наверху его кабинет, – возразил я.
– Нет никакого Довжука и никогда не было, – повторила девушка.
– Как это не было? – Я сжал виски, потер лоб. Мне было нехорошо. Голова кружилась. Перед глазами плавали цветные пятна.
Как же так? Как же так?
Я должен был убедиться, что Довжук существует в реальности. Поэтому я закрыл глаза и метнулся назад сквозь время, в свои четырнадцать лет.
9
Я висел в пространстве, обдуваемый жарким воздухом ударной волны. Окно девятого этажа стремительно удалялось от меня, и через секунду я почувствовал спиной сильный удар. Изо рта брызнула кровь, а позвоночник превратился в груду крошек. Я лежал, корчась от боли, на бетонной плите.
Но не умирал. А значит, это тоже было всего лишь иллюзией. И желание докопаться до настоящей реальности было столь сильным, что я усилием воли сдвинул обломки костей, собрал позвоночник в его прежнее состояние, втянул в себя излившуюся кровь. Поднялся.
Лестница на девятый этаж расплывалась в моих глазах, но я все-таки шёл. Вот она кончилась, и я оказался на том самом месте. Следы взрыва были налицо – разбросанные вёдра, разломанные доски, поднятая в воздух цементная пыль.
Не было только людей.
Я стоял и пытался осознать глубину своего одиночества. Взрывал ли я здесь когда-то бомбу вместе с Захаром Довжуком? В какой реальности это было? И кто я сам, если ничего этого вовсе не было?
Я понял, что старею. Мне было уже не четырнадцать. Квартиру постепенно отделали, заполнили мебелью. Вокруг меня и даже сквозь меня, не замечая, ходили люди, таскали вещи, занимались хозяйством, одни жильцы сменялись другими, и так продолжалось, пока я не вернулся в свой теперешний возраст – двадцать три года.
Я стоял посреди обжитой комнаты, на мягком ковре со следами разлитого сока. На столике стояла ваза с букетом цветов. На стене висела фотография – муж с женой и двое улыбающихся детей.
Я тихо подошёл к двери. Вышел из квартиры. Спустился по лестнице. Открыл подъездный замок и очутился на улице, под мелким моросящим дождём. Поднял взгляд на дом.
Девять этажей, панельный, довольно современный. Хорошо здесь жить, наверно. Квартиры не такие малюсенькие, как у меня. Удобные лоджии, скверик вот разбит.
Я пошёл прочь. Мог бы, наверно, и взлететь, но сейчас мне этого не хотелось.
Впереди меня шла светловолосая девушка в лёгком сарафане. Бёдра покачивались, правая рука с наманикюренными ноготками сжимала ручку зонтика. Левая придерживала сумочку на плече. Каблуки цокали медленно, размеренно.
И я почувствовал, как ледяное сердце в моей груди начало редко, но уверенно биться.
9 августа 2008, Мытищи.
Батон
С Константином Дмитриевичем Гварковым мне приходилось встречаться нечасто.
В то время был он уже на пенсии, но и тогда оставался крепок, подтянут и строг. Количество орденских планок на пиджаке доказывало, что Константин Дмитриевич служил государству исправно, и, так сказать, на своём посту не смыкал глаз.
– Да, – говорил он, – и всегда я уважал людей. Не было такого, чтобы кто на меня обиделся. Ежели скажу "да", так руку пожму, ежели "нет", так улыбнусь хотя бы.
А улыбка у Гваркова была поистине замечательная. Ни одного гнилого зуба, ни одного пятнышка от курения (а ведь курил он, и много курил – работа нервная), и весь рот его был словно плотно сколоченный забор из коротеньких, остреньких досок.
Да… Но я, в общем-то, все не о том говорю. А хотел я рассказать одну историю, поведанную мне Константином Дмитриевичем. Признаться, и сейчас я сомневаюсь в её подлинности, хотя сомневаться-то вроде бы грех – авторитет у Гваркова непоколебимый и не поддающийся ни сомнениям, ни кривотолкам. Но уж больно всё это звучит фантастично. Хотя – чего не бывает на свете.
Короче, как-то раз в кабинете у Константина Дмитриевича зазвонил телефон правительственной связи. И сказано было Гваркову примерно следующее:
– Придет к тебе не сегодня – завтра, а может, и вчера, человек. Рындин, генный инженер. Так ты его, значит, строго-настрого ни-ни, потому что он тут ого-го чего… Не пущай, в общем.
Далее следовали приметы Рындина, которые Гварков незамедлительно передал бастиону своих секретарш.
И был твердо уверен, что "Но пасаран!" – в том смысле, что никакие генные инженеры ему более не грозят.
Однако спустя буквально полчаса после высочайшего предупреждения в кабинет зашёл старичок с клюкой и бородой до пола.
– Вы кто? – спросил Гварков.
Старичок содрал с себя бороду, распрямился и клюку под мышку сунул:
– Рындин я. Генный инженер.
– Ах, да-да, – Гварков улыбнулся широко и на кресло кивнул: садитесь, мол, папаша, – мне о вас докладывали.
– В самом деле? – удивился Рындин. – А меня не пускали на входе…
– Видимо, какая-то ошибка, – ещё шире улыбнулся Константин Дмитриевич. – Ну, я им покажу… Но я слушаю вас.
Сел Рындин и на стол перед Гварковым батон положил. Самый обыкновенный.
– Вот, – сказал Рындин, – моя разработка. Отличается от аналогичных существующих тем, что выращен за несколько дней на специальном быстрорастущем дереве. По химическому составу практически идентичен батонам, поставляемым в торговую сеть. Имеется авторское свидетельство и сертификат качества изделия. Можете попробовать.
Гварков отломил кусочек. Батон как батон.
– Позволю себе заметить, – продолжил Рындин, – что экономический эффект ожидается колоссальный. Не требуется ни элеваторов, ни хлебозаводов… Нужна только ваша подпись, и этот батон ознаменует собой…
– Но, – сказал внезапно Гварков, – учтите масштабы хлебобулочной промышленности. Возникает проблема с уборкой. Надо разрабатывать специальные комбайны, которые снимают батоны с деревьев.
Рындин потускнел:
– Понятно. Значит, надо дорабатывать, – и скрылся за дверью.
Гварков вздохнул облегчённо – вроде бы пронесло – и пошел давать секретаршам новый инструктаж. Чтобы впредь блюли более бдительно.
Однако уже на следующий день дверь раскрылась, и в кабинет въехал увешанный шариками трёхколёсный велосипедик. На нём восседал глуповатого вида веснушчатый мальчуган в коротких штанишках и с сопливым носом. Раз – он встал с велосипеда, два – сорвал маску, три – и на ногах непостижимым образом появились брюки, а на теле пиджак.
– Здравствуйте, Константин Дмитриевич, – сказал Рындин. – Я доработал свое изобретение.
Гварков улыбнулся и снова предложил сесть.
– Вот, – Рындин положил на стол такой же батон, как и в прошлый раз. – Теперь батон вырастает на тонком черенке, который, управляясь по радио, переламывается в нужный момент, и батон падает на землю.
– На землю? – спросил Гварков. – Это же негигиенично.
Рындин спрятал в рукав приготовленный для подписи текст резолюции и кивнул:
– Я всё понял. Я доработаю. До свидания, – и ушел.
Как раз этого самого свидания Гваркову и не хотелось.
В помощь секретаршам были выделены служебные собаки, которые запах Рындина учуяли бы за километр.
Однако на следующий день в кабинет Гваркова вошла развратного вида девица, от которой дико разило духами "Московское утро".
– Там у вас с собачками что-то случилось, – сообщила она, перевоплощаясь в Рындина. – Они надевают противогазы и выпрыгивают в окно…
Гварков поцеловал Рындину ручку и усадил напротив себя.
– Вот, – сказал Рындин, – батон вырастает в пластиковой упаковке, которая легко моется и, благодаря специальным добавкам, разлагается после удаления её с батона, что способствует сохранению благоприятной экологической обстановки.
– М-да, – сказал Гварков, – но транспортировка…
– Хорошо, – сказал Рындин. – Я доработаю.
Гварков понял, что меры нужно принимать решительные и, выставив на караул вооруженных милиционеров, распорядился не пускать никого.
– Так-то вот, – сказал он.
Но на следующий день в форточку залетел ясный сокол и, ударившись об сырую… то есть об паркет, обернулся Рындиным.
– Вот, – сказал он, – на улице – можете взглянуть – разовый фургон для перевозки хлеба. Вырастает непосредственно на дереве и бесследно исчезает после доставки батонов в магазин.
– Но это же неудобно, – возразил с улыбкой Константин Дмитриевич. – Водители-то не разовые.
– Понятно, – сказал Рындин. – Исправлю.
…Гварков приказал расставить вокруг здания снайперов и без предупреждения стрелять во все приближающиеся объекты.
Впрочем, этого не понадобилось. Рындин больше не появился.
Как потом дошло до ушей Константина Дмитриевича, с разовыми водителями у Рындина ничего не получилось. Человека оказалось создать не так уж просто. На деревьях вырастали злобные двуногие зубастые существа, которые норовили оттяпать у несчастного генного инженера палец.
Как рассказывал сосед Рындина по дачному участку (а Рындин проводил свои опыты именно на даче), последний раз Рындина он видел в окружении нескольких его полуразумных творений, которые привязывали его к вертелу и начинали разводить костёр.
– Впрочем, – добавлял Гварков, заканчивая свой рассказ, – за достоверность не ручаюсь. М-да… Чего не сделаешь для Отечества. Жалко, конечно, человека.
Он ковырялся зубочисткой в своём рту и мечтательно глядел в окно, словно бы что-то вспоминая.
А потом мы с ним пили чай, и Гварков достал из шкафа поджаристый батон.
– Рындина батон. Один из тех самых. Представляете – не черствеет. После стольких-то лет. Надо же…
Он взял длинный нож и отрезал от батона кусочек:
– Попробуйте.
13.8.93