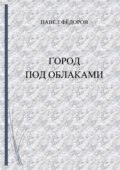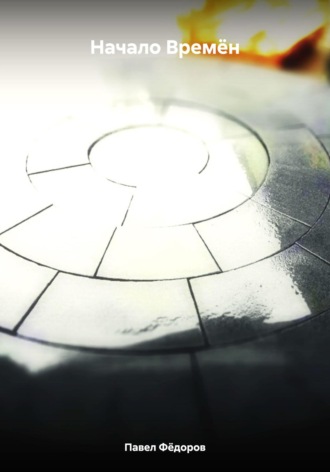
Павел Юрьевич Фёдоров
Начало Времён
концепция ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Предисловие
Эта книга написана под влиянием бесед с человеком, который в определённых обстоятельствах, ну не то что бы изменил свои взгляды или подверг сомнениям свои убеждения, нет, он иначе взглянул на них, у него изменилось отношение к тому чем он занимается. Он музыкант, много лет выступал, записывался, и вот уже на пороге окончания своей карьеры, к нему неожиданно обратилась некая группа, именуемая себя как общество любителей творчества, с предложением выступить на очередном их собрании. Музыкант уже давно не выступал и с сомнением отнёсся к их предложению, некоторое время раздумывал, но деньги, которые они предложили за выступление и готовы заплатить всю сумму сразу если он даст своё согласие, перевесили первое желание отказаться. Выступление проходило в небольшом домашнем старинном концертном зале. В зале находилась небольшая группа мужчин, разного возраста и каждый из них был как бы сам по себе. Это очень удивило музыканта, он потом рассказывал – было такое на первый взгляд впечатление, что они даже не знакомы. Каждый сел отдельно, видимо там, где ему было удобнее, они не общались между собой. Меня никто не встретил, хорошо, что я раньше уже выступал в этом зале. Никто не оговаривал ни репертуар, ни время выступления, то есть всё по своему усмотрению. Но более всего меня удивило их отношение ко мне, после окончания выступления никто не аплодировал, никто не подошёл ко мне, а просто все молча встали и разошлись, честно сказать, мне было не очень приятно. И я уехал. Так что же тогда произошло? Он некоторое время молчал, задумавшись. У меня от природы очень красивый звук инструмента, мелодичный. Потому и соответствующий репертуар. Когда я вышел на сцену с инструментом, вижу передо мной сидят мужчины, внимательно смотрят на меня, все так серьёзно приготовились слушать, что я почувствовал себя…, не могу сказать где, но только не на сцене концертного зала. Но главное не в этом, главное звук, я услышал себя, понимаешь, можно сказать впервые услышал себя. Нет не со стороны, а как будто бы кто-то, но не я играл на том концерте, представляешь. Я был просто в шоке. Я себя слушал и думал над тем что не я, а он играет, я слушал его, того которого не знаю и не знал никогда, но он же есть, вот сейчас буквально он играет и это никак нельзя отрицать. То есть ты хочешь сказать, что они, и ты в том числе, были приглашены послушать кого-то, то есть некоего неизвестного никому музыканта, о существовании которого даже ты сам не догадывался. Да, именно так. Наверное, не знаю, но мне всегда казалось, что так играть надо в начале карьеры, с этого надо начинать, а не заканчивать, то есть мой последний концерт по сути стал первым по настоящему живым. После этого события этот музыкант стал членом общества любителей творчества. Они собираются таким вот образом, каждый сам по себе, чтобы послушать, посмотреть, почитать, обсудить. На вопрос: почему в их обществе никогда не бывает женщин? Он даже в первый момент растерялся, а потом спросил – что им здесь делать? И вот наконец, видимо количество необратимо перешло в качество, когда они впервые собрались за круглым столом, чтобы наконец подвести некий итог всего того что они за всё время слышали, видели, смотрели. Каждый выразил своё мнение, все слушали, не перебивая и не опровергая. Видимо в их собраниях этот факт непременное условие, как и то, что окончанием общей дискуссии непременно должен быть определён совершенно конкретный вывод.
Речь шла об утопии, то есть о том самом месте, которого на самом деле нет. Видимо они все в какой-то степени столкнулись с самим фактом существования такого места, которого, по общему мнению, нет. В истории обществ и общественной мысли утопия нередко служила формой выражения некой отвлечённой идеи, даже своего рода идеала. Хотя возникновение научной мысли подорвало социальное значение утопии, лишило её многих прежних функций, но она по-прежнему не утратила своей роли в качестве интеллектуального инструмента, использование которого позволяет предвосхищать вероятное отдалённое будущее, которое на данном уровне познания не может быть научно предсказано в конкретных деталях, и может также предостерегать от некоторых отрицательных социальных последствий человеческой деятельности. Эти формы утопии стимулируют в какой-то степени развитие социальных методов нормативного прогнозирования и сценариев с целью анализа и оценки желательности и вероятности предполагаемого развития событий. Как правило прообразом всех утопий является «Государство», как некий эквивалент идеального общественного строя на Земле, и лишенного научного обоснования. По мере развития общественных наук утопия в значительной мере утратила свою познавательную и прогностическую роль и превратилась по преимуществу в своего рода социальную научную фантастику. Вместе с тем возросло внимание к утопии со стороны социологии, рассматривающую её исторически как специфическую форму общественного сознания, которая выполняет определённую социальную функцию. Одновременно сама утопическая форма приобрела всё более возрастающее значение в идеологии человеческого общества.
Как только то или иное государство провозглашает о своём полном государственном суверенитете, то оно тотчас, как по волшебству, сразу оказывается перед лицом исключительно серьезных проблем, связанных с выбором своего государственного и общественного бытия, с определением основ своей внутренней и внешней политики. И речь идёт не о каких-то там фантастических требованиях утопического идеала, а о совершенно конкретных идеалах – о принципах лежащих в основе взаимоотношений между личностью, обществом и государством; об институтах государственной власти и управления, которые в наибольшей мере соответствуют политической культуре народов населяющих данную территорию; о базисных ценностях, которые должны быть положены в основу организации экономической, социальной и духовной жизни общества; о внешнеполитических приоритетах, которые соответствуют интересам народов; и наконец, какие государственные символы адекватно отражают исторический путь и современные устремления государства! Каждый из перечисленных идеалов относится к той предметной области, которую в политической науке принято обозначать государственной идеологией, или всё-таки утопией, – но это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Опыт самостоятельной государственной жизни в объективном историческом процессе доказывает, что ни одно государство не может существовать и успешно развиваться без своей идеологии. Одновременно с этим утвердилось понимание того, что идейные ценности социального общества на Земле не изобретаются искусственно и не создаются по заказу в одночасье, а вызревают в ходе всего исторического развития всех народов, вытекают из всего человеческого опыта государственной и общественной жизни, отражают его насущные потребности, интересы и устремления, и что эти ценности способны давать ему силы и перспективу для труда во имя будущего. Вот о чём шла дискуссия тогда за круглым столом. Анализ работ философов, социологов, политологов, правоведов, экономистов, историков и других позволяет заключить, что человечество в целом подошло к той неизбежной границе, за которой формы существования, развития и образы социально-экономического строя общества людей на Земле не определены в будущем, а точнее их, пожалуй, и вовсе нет. В целом человеческому обществу каким-то образом, но необходимо создать совместными усилиями не отдельные национальные идеологии или, точнее, идеи национального развития, и которых сегодня в полном виде тоже еще нет, а сконцентрировать совместные усилия на разработке основной для человечества «утопии» – рассмотреть цивилизационные основания современных идеологий народов и рас, проживающих на Земле. Интерес этот правомерен, поскольку главный вектор социально-экономических и социокультурных изменений на Земле должен находиться в русле тенденций развития всего Мира, а также собственных опытов народов и рас, в том числе с позиций цивилизационной, культурологической и формационной методологии особенностей этапа общественного развития постсоветских республик.
Несмотря на то, что властями всех уровней привлечены значительные усилия и внимание к проблеме идеологии, создана масса работ обобщающего характера, в которых в качестве ключевого выступает понятие «государственная идеология». Однако именно данное понятие встречает у исследователей настороженное к себе отношение. Некоторые из них категорически не приемлют его и предпочитают пользоваться синонимичными понятиями. В этой связи примечателен тот факт, что в процессе научного возрождения базового понятия «идеология», которое было дискредитировано и фактически выведено из оборота в отечественной науке на рубеже 80–90-х годов прошлого столетия, первоначально было легализировано понятие «идеология государственности» как ответ на насущные потребности государственного строительства и лишь затем, также в ответ на новые потребности политической жизни, наряду с ним стало употребляться более широкое понятие – «государственная идеология». За этими терминами, как видно, ничего не стоит, кроме очередной утопии в ответ на социальные вызовы, а точнее реакция на неизбежность изменений общественного строя.
Таким образом сегодня сформировалось новое осмысление применения понятий идеология и утопия, как – «идеологическая утопия», которая требует уточнение содержания понятия «политическая идеология», выяснение предметной области и роли в политическом процессе государственной идеологии, и которые стоит в ряду самых актуальных проблем философской, научной, экономической и политической жизни планеты. Эту задачу так или иначе приходится решать, так сказать, как неизбежность, в ходе поиска ответов по большому числу практических вопросов государственной и общественной жизни планеты, ради её будущего.
Начало Времён
Беседа не спешная, даже больше в молчании, о всем происходящем на этом свете в этом Мире представляется так, как будто несколько человек, сидя за круглым столом размышляют о судьбе человека, об истории человечества вообще и о её значении для жизни в целом, как некоего события, произошедшего во времени, и предполагают увязать эти понятия, по своему содержанию мало друг-другу подходящие и даже противоречащие себе же. Они затрагивают вопросы, как например бесконечность в философии и жизнь человека, ограниченная сама в себе, во времени, в передвижении и возможности ее развития, даже в некоторой степени вектора её направленности, как некоего определённого выбранного пути. То есть они вдруг остановились в размышлениях перед тем, что перед ними возник вопрос: а есть ли у этого пути цель? Пусть даже не конечная, а хотя бы некоторое осмысленное направление, что ли, то есть он же – человек существует, живёт же ради чего-то или может быть кого-то? Вот в чём вопрос. Даже не вникая в суть их беседы сама мысль о жизни дает странное ощущение беспомощности и главное ненужности сих размышлений. Ничто не исчезает и не происходит по велению высших сил, а лишь с их разрешения, а точнее согласия и совета, и потому мысль о том, что результат, то есть решение насущных задач, стоящих стеной перед человеком, их поверхностное осмысление самим человеком под влиянием жизненных обстоятельств остается ради вот этого самого злополучного и неизвестного «чего-то» или «ради чего», но всё-таки видимо точнее будет сказать – «ради кого». Люди, сидящие за столом, могут молчать, а могут и думать в слух, что означает не обращение к кому либо, а видимо просто неосторожно высказанные мысли, которые вдруг приобретают пространственно-временное влияние и как какой-то груз информации, который теперь необходимо принять, опять же по независящем ни от кого причинам. Любая поступающая информация не просто должна быть применена в конечном итоге, а она вдруг проявляется в пространстве как некий бесформенный объект и живёт-живёт во времени, будоража умы своей бескомпромиссностью и безразличием к судьбам народов, рас и «цивилизаций». Но в данном случае эта самая информация выступает своего рода заключением, даже до некоторой степени выводом от имени некоего опыта, что видимо принимается и используется людьми, на этот раз сидящими за круглым столом, как нечто вполне конкретное и не требующее дальнейших доказательств. Как-то в одной заметке проскользнула мысль о том, что бесконечность, как замкнутая на себя некая безличная величина предполагает изменение отношения к конкретным определённым величинам, то есть они совместно выступают как некая открытая, но самостоятельная система во времени. Допустим, что эта величина конкретная и представляет некоторое число. Из чего же складывается это число? При первом возникновении подобного вопроса в образном восприятии возникают конкретные две величины: толпа и организованное социальное общество. Как хаос и Гармония спросят многие? По-видимому, да, и которые состоят из одних и тех же людей, но противопоставленных друг-другу по значению. То есть человек выбирает кому принадлежит его жизнь: толпе или организованному социальному обществу людей или наоборот? Но на этом, пожалуй, все аналогии и заканчиваются, а остаётся только смысл сказанного. Что подразумевается под понятием смысл, сразу же последовал вопрос – может это течение неких образов, стихов, музыки, движения, слов, звуков, нетерпения, чувств и потребности «увидеть» конец, который необходим кому-то и тот кто-то даже может быть не знаком со смыслом жизни, который от него все ждут, как идеи, образа, будущего. Общение между людьми даёт возможность и приём информации, и обмен информацией, но на самом деле важна совсем не информация, а важен смысл, который открывает саму возможность общения людей, их необходимость друг-другу, потому как это всё факты, и они объективны. И при этом невозможность духовной изоляции разума, ведь если нет свободы откуда тогда происходит мгновенное озарение, и всем известного, но мнимо-понятного фактора объективного понимания истории, и самой природы. А значит каждый вправе высказывать, а точнее понимать и высказывать свое понимание всего происходящего, то есть смысл, который выражается через идею.
Если мы готовы предложить идею, согласились члены круглого стола, то прежде всего с чего следует начать? Видимо с определения точки отсчёта – начала времён! Но если принять за основу идею, то начало подразумевает некий план, последовательность во времени некоего заранее ожидаемого эффекта от предпринятых усилий для понимания хотя бы смысла происходящего, не говоря уже об управлении им во времени. Тогда возьмём за основу первое предположение, что создание жизни есть начальная точка отсчета развития человечества. Да, можно конечно и жизнь принять за основу, но в начале идёт создание – вот что имеется ввиду, когда мы говорим о начале времён. Да, это верно, и в таком случае ничего не остаётся как признать, что первичным созданием может быть лишь Замысел. Но что же конкретно произошло на Земле в бесконечном развитии природы в соответствии с Замыслом? Ну в данном случае мы лишь можем констатировать уже свершившейся факт – человеческое общество существует и во времени, и в пространстве. Самое главное здесь, с чего следовало бы начать, как и все здесь уже сказанное, это тот самый вопрос – зачем? И сразу же возникает на общий вопрос и общий ответ – закономерно! То есть получается, что весь объективный исторический пройденный путь человечества во времени привёл к сегодняшнему его положению в соответствии с Замыслом? Да, но кого? Создателя! Но тогда возникает следующий вопрос – человечество во времени движется куда относительно Замысла? К Высшему Замыслу Создателя и движется, ведь оно же не само по себе движется, а во времени – от СоТворения Мира к Замыслу Создателя, который и есть начало времён.
Развитие человеческого организма с момента Акта Жизни во времени по мере роста проходит все стадии животного Мира и конечным результатом является человек, который непосредственно и является венцом, как мы называем, всего происходящего – Замысла. Непосредственно перед человеком происходит конкретная последовательность:
Ожидание – появление на свет нового представителя человеческого общества;
Жизнь – развитие в социальном обществе;
Смерть – переход из человеческого общества.
Перед обществом людей проходит жизнь каждого его члена во времени, но каким образом можно измерить величину времени самого человеческого общества, относительно кого, или чего? Само человеческое общество как некий факт расширения своего масштаба в пространстве за счет увеличения численности, само должно являться частью развития чего-то. Предположим, что это одна их форм материи в некоторой структуре времени и пространства, и рождение непосредственно каждого члена общества есть некоторый утверждающий факт стабилизации времени и увеличения пространства. Если, например, задаться целью передвижения некой изолированной общественной системы в пространстве на расстояние превышающее время жизни членов общества изолированной системы, то для такого изолированного общества предполагается создание искусственных сред обитания с беспрерывным удалением от места рождения и невозможностью возвращения. Если это не связано с какой-то жертвой для общества или конкретным фанатизмом, то это по всей видимости общественного масштаба иметь не будет. Здесь большую роль играет невозможность отрыва на длительное время отдельных членов или групп общества – изолированных систем, какими бы крупными они не были, в целом от человечества. Они останавливаются в своем развитие, происходит необратимая деградация личности каждого и потеря общей идеи и заинтересованности у последующих поколений, уже не связанных непосредственным контактом с Землей, человечеством вообще и свободой общения. Рождение и становление человека происходит только внутри человечества. Человечество может существовать именно как человечество только при необходимом и достаточном количестве людей чтобы развивать человечество в масштабе (численности) социально-экономического общества. Это, однако не означает прямого понимания – стремление заполнить весь существующий объем (вселенную). Видимо на этом стыке понимания и находится значение человечества – не как физического заполнения существующего пространства, а как принцип перемещения в пространстве за счет сжатия времени.
Если для материи существует понятие конечной бесконечности, то оно конечно внутри сознания, а сознание определяется, в свою очередь, бесконечностью пространства. Видимо предельная скорость для этой системы – скорость сознания. Скорость и вообще движение не определены, как само перемещение, а как изменение и переход из одного состояния в другое. Причины, вызвавшие изменчивость, видимо проистекают не каких-либо границах и условиях, а относительно скорости сознания, то есть отношения к ним и соответственно степень существования объективно существующей материи определена скоростью развития сознания или познания существа материи, а точнее наибольшего возможного числа ее изменчивости в единицу времени, продолжительности опознания бесконечности и вывода ее конечного результата. Допустим, что конечный результат развития природы в нашей солнечной системе (с предельной скоростью – скоростью света) есть наличие возникновения общества людей. Общество людей можно рассматривать как некую изменчивую структуру с конкретной формой применения в определенный моменты. Если это было бы подобным образом, то человечество в существующей форме должно закончить свое существование и перейти в следующую форму развития, то есть Смерть должна означать именно этот переход. Это отрицать нельзя, но потерян смысл значения общего движения человечества во времени для конкретного человека. Личность должна иметь значение – вот это значение и есть конкретная величина определяющая данную систему. Можно ли рассматривать личность отдельно от социального общества? Если социальное общество рассматривать как некое целое явление в структуре материи, а точнее как форму развития материи или движения сознания, то значение личности определенно теряет смысл в силу утери функции – «человек» вне общества. В системе «материя» имеет смысл рассматривать человеческое общество в целом, а затем уже отдельно личность. Общество, как функция в значении «движение» определено по умолчанию понятием «сознание»? Относительно сознания мы не можем сказать, что это жизнь, потому что функции жизни определены не сознанием, а физическим состоянием материи. Одной из форм проявления материи есть развитие за счет увеличения количества или объема в пространстве в единицу времени. Можно ли сказать, что многообразие форм проявления материи произошло путем увеличения объема в пространстве от одного источника (допустим деления). Если деление происходит, то только внутри одного рода, или это не «род» в понятии конкретной физической величины в системе время-пространство планеты, а деление присуще общему понятию развития материи в пространстве в единицу времени (объем, количество, размер, расстояние, площадь и другие). Но, даже такое понятие как «пространство» тоже есть некоторый объем во времени, пусть даже и бесконечный. Есть некоторый парадокс в объеме пространства. Если развить скорость тела свыше скорости света, то по-видимому световая система становится бесконечно малой величиной относительно удаления от конечной и начальной точек развития жизни. В таком движении жизнь представлена, как внедрение в систему свет-пространство с определенной начальной скоростью, определяемой, как скорость накопления знаний. Здесь не имеется ввиду накопления умственных знаний, а имеется ввиду доведение физического состояния живого организма до полной защищенности от внешних воздействий, то есть он становится устойчивым во времени. Если представить, что рождение есть конечная скорость для развития физического состояния живого организма, тот тело в этом случае является переносчиком или аккумулятором жизненной энергии, способной, до полного самостоятельного распада, передать ей большую скорость. В чем же тогда заключены границы скорости? По-видимому, границы это:
– приобретение «некоторой субстанции» или физического тела:
– приобретение телом «некоторой жизненной энергии» или «души»:
– распад тела или приобретение жизненной энергией определенной самостоятельности (устойчивости).
Один из участников круглого стола, предложивший подобную мысль (идею) для рассмотрения добавил, что он предполагал введение дополнительной энергии на границе взаимодействия живых организмов – энергию пустоты. То есть промежуток времени между возникновением жизни отдельного человека в обществе и до его осознания себя в обществе есть, в некотором роде, увеличение количества знания всего человечества по объему внутри системы пространство-время, превосходящего возможности самой планеты. Невозможно охватить сознание всего человечества, но измерив знания одного человека можно сделать вывод о знаниях всего человечества? В этом месте следует уточнить о каком именно знание идет речь. Если предположить, что в обществе людей только люди, как единицы структуры, только за счет того, что если общество состоит из людей, то все, что находится вне человеческого общества не является человеком. Если принять что вне человеческого общества существует человек, то при этом у него будут отсутствовать знания!? – был поставлен «немой» вопрос. Приняв такую возможность можно сделать вывод, что массы покоя не существует в системе пространство-время?! Тогда в этом случае под «знанием» можно принимать возможность фиксации в пространстве события происходящего во времени. А объем знаний есть количество этих фиксаций. Но это невозможно с объемом знаний в человеческом обществе, то есть не однородность событий делает невозможность прямого сложения (понимания). Однако люди в жизни внутри социального общества всё же несмотря ни на что находят форму сосуществования между собой, и при том весьма разнообразную. Происходит некоторая форма воспоминания, а разобщенность общества внутри это все-таки не полюсное разногласие, а развитие и увеличение объема знаний, как внутри отдельного человека (мышление), так и уже в социальном обществе (опыт). Однако нельзя останавливаться только на обмене энергиями, возможно и вовсе не происходит обмена энергиями, а только прямая передача и прием одной энергии. Так ли это, спросили тогда, всегда ли происходит эквивалентный обмен? Обмен любой не может быть вечен. Мы забываем, заметил кто-то за круглым столом, что окончание одного процесса это всего лишь начало последующего. И как бы не пытались найти более весомые доказательства, что возможно пребывать в блаженстве либо в пороке оно всегда остается в прошлом. Будущее всегда придёт, наступит, оно неизбежно, как рок, как меч над человеком, так как конец будущего есть начало прошлого и в эквивалентном обмене сущего и происходящего во времени есть лишь наблюдение настоящего. Во всем есть лишь наблюдение. Образ возникает отнюдь не в глазах или в ощущениях, образ – это мысль, обретающая форму и имеющая смысл. Для чего же происходит (возникает) такая бурная реакция при постижении истины? Для ее достижения, а иначе для чего же еще. Истина, истина … что же можно предположить при произнесении этого слова?! Перевод его очень прост – тот, кто обвиняет и считает себя правым на суде. Кто-то сказал: «Истина – это правда». И тот же самый сказал, что: «… правду знает только Творец…, а сказанное слово есть ложь …». Противоречия наши в сказанном, прочитанном, увиденном – где ложь, а где правда не дано сказать тому, кто не видел, не слышал, не сказал. Дал человеку «Некто» общение не только физическое, но и духовное и назвал его человек Создателем, подразумевая под этим им – самого себя.
Как –то заговорив о стихах и, даже прочитав некоторые из них, само-собой возник вопрос о происхождении слов. Ну как же, сказал кто-то, слова ведь – это обозначение предмета, действия или явления, всё очень просто. Очень просто если слушать их ушами, тогда конечно возникает образ ассоциативно связанный со звуком и все. Я думаю, сказал другой, что здесь все не так на самом деле просто. Не находите ли вы, что имя, название или простой звук тоже своего рода информация или можно сказать справочник о том откуда он вышел, откуда он родом. Эту информацию посылает сам предмет, явление или событие, и тем самым слово уже является набором звуков, определяющих время, место, и еще многое о том, что это, или, о чем это имя. Все это конечно так, но как же быть с осмыслением самого существования звука? Законченный звук в слове вовсе не одно и то же, что звук рожденный допустим от падающего камня. Конечно можно сказать, что это почти одно и то же. Если вслушиваться в произносимые слова, то можно при желании услышать шум ветра или всплеск воды. Для чего же тогда создана эта шифрованная информация и кому она предназначается в конечном итоге? Конечно ясно, что человек эти звуки не рождает и не переосмысливает, они ему даны изначально и он их передает из уст в уста. Получается, что мы говорим символами и свой язык учим произносить эти символы. Символизм сводится лишь к тому что позволяет ему обретать вполне осязаемые вещественные формы. Будь то знаки, понятия, звуки. На уровне человека из Мира конкретики осязаемое обретает форму абстракции или понятия. Знания вовсе не являются количеством или еще более качеством. Знания по своей природе являются последовательностью. Абстрактная форма мышления позволяет, не привязываясь к идее или факту соизмерять ее с последовательностью, и тем самым определять ее границы до определенного уровня восприятия. Продолжительность в последовательности определяет связи и тем самым позволяет иметь возможность абстрагировать и величины на уровне продолжительности. Поднявшись до, казалось бы, бесконечных высот в мышлении и в переживании в конечном итоге каждый приходит к себе и чем дальше он уходит сам, тем ближе и острее он воспринимает внутреннее, а значит он становится ближе к естественному. Любой домысел и мысль сама по себе не принадлежит никому из нас. Мы лишь организуем ее последовательность. При этом открываются две неожиданные вещи: во-первых, мы сами ничего не изобретаем и не придумываем, а являемся всего лишь проводниками того, что несет мысль для нас через нас же. Во-вторых, Гармония Мира заключается лишь в том, что Гармония присуща сама по себе всему и, самое главное, Гармония стремится к Гармонии – это наше будущее в сознании. Гармония, прежде всего это ясность. Ясность невозможна в материи или духе отдельно, она невозможна и на стыке между ними.
Из только что нами разобранного рассуждения об энергиях можно сделать на сегодняшний момент вывод – Гармония и одновременно ясность это, прежде всего бесконечное движение в покое. Отдельно друг от друга они существовать не могут, они существуют только вместе: не отвергая друг друга, не дополняя друг друга, а создавая целостность. Во всем однородность, как бы парадоксально это не звучало. Сказав это сегодня, через эоны лет данное утверждение не будет понято, оно будет доказано заново. Гармония, являясь самой собой доказывает саму себя бесконечно, тем самым создавая ясность и тем самым создавая движение, которое в покое. Остается только одна нерешенная проблема – зачем? Казалось бы, что еще искать. Найдена гармония, найдена ясность, как смысл бытия и все же возникает вопрос – что было первопричиной Замысла? Как-то рассуждая о причинах и следствиях и, самое главное, следуя вышеизложенному, на вопрос о первопричине самым естественным образом возникает ответ: ищи ответ в себе самом – ищи движение в покое! Ответ, таким образом, кроется в вопросе. Это именно тот парадокс, который выступает как компромисс. Дело в том, что все что было названо словами имело отношение непосредственно к личности. На этом уровне мы не можем словами передавать то что будет понято просто в силу того, что всему свое место и время. А время в однородном пространстве вовсе не связано с движением или энергией. Это понятие обретает несколько иное значение, оно направлено внутрь – познай время. Уже при возникновении проблемы сразу же бросается в глаза, что это не вопрос. Не стоит рассуждать о времени, ища тем самым независимо от личности определение времени в пространстве. Так как движение в покое определяет суть энергии, то есть первопричину, там и следует искать. Покой есть абсолютная энергия – энергия в бесконечно концентрированной форме. Понятие времени возникает только при движении. Время таким образом определяется величиной движения относительно покоя.